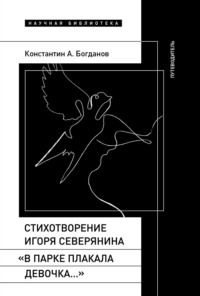Читать книгу: «Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель», страница 2
все едва не лопнули со смеха, критик тоже не выдержал, швырнул книгу на стол и раздраженно заговорил: «Я сейчас же сяду писать ругательную статью… не об Игоре Северянине, несчастном авторе „Электрических стихов“, а вообще о таких, как он, которые коверкают язык, грязнят и уродуют литературу, плодят таких сумасшедших, как они сами». Критик, однако статьи не написал. Сотрудники сообща решили, что писать о книге не стоит, а нужно лишь послать автору извещение о том, что в местной психиатрической лечебнице прием больных продолжается56.
Северянин усердно собирал отзывы на свои стихотворения, но одного отзыва он точно не узнал. Вышедшие из печати «Электрические стихи» вместе еще с четырьмя брошюрами поэт приложил в 1911 году к прошению в Литературный фонд о выдаче ему единовременного пособия в размере 50 рублей. Официально в прошении было отказано «за малыми правами», а в документах, предназначенных для внутреннего пользования, пояснялось: «Председатель запросил труды. Ввиду полной бездарности, по отзыву Я. Я. Гуревича, отклонить»57.
Дружелюбнее многих к «Электрическим стихам» отнесся Валерий Брюсов. Название рецензируемой брошюры представлялось ему «нелепым», но она, по его мнению, заслуживает внимания, поскольку ее автор
старается обновить поэтический язык, вводя в него слова нашего создающегося бульварного арго, отважные неологизмы и пользуясь самыми смелыми метафорами, причем для сравнения выбирает преимущественно явления из обихода современной городской жизни, а не из мира природы. Большею частью это выходит у него не совсем удачно, а подчас и смешно. <…> Но все же есть в стихах г. Северянина какая-то бодрость и отвага, которые позволяют надеяться, что со временем его мутный плеск может обратиться в ясный и сильный поток58.
Позднее Северянин вспоминал, что осенью того же 1911 года (то есть уже после публикации своего отклика) Брюсов прислал ему книги и письмо, в котором одобрительно приветствовал поэта: «Не знаю, любите ли Вы мои стихи, – писал он, – но мне Ваши положительно нравятся»59.
Предсказуемо сочувственнее оценили брошюру Северянина соратники-футуристы. И. В. Игнатьев полагал ее «удивительно интересной», хотя и признавался, что ему «и нравится и не нравится заголовок тетради. Пусть он нов. Но стиль содержания испрашивает другого, столь же сильного наименования». Предлагаемое им сравнение неожиданно: поэт
кропотливую свою работу совершает как крот, невидимо, неслышимо, лишь изредка напоминая о себе небольшими кусочками земли <…> Кусочки-тетради чистый чернозем, ароматный, густой, жирово-растительный60.
Иные ассоциации вчитывал в «Электрические стихи» Иван Лукаш (ему посвящено одно из стихотворений брошюры – «Воздушная яхта»). Как и Северянин, Лукаш печатался под «региональным» псевдонимом Иван Оредеж, но в собственной поэзии (сборник стихотворений в прозе «Цветы ядовитые», 1910) был склонен к мистериально-эзотерическим и мрачным кладбищенским фантазмам61. Стихи Северянина – повод найти близкое себе:
Он устал, поэт. И в трауре месс, как большой гордый зверь, он «плутал» в сонных туманах, в садах, утопленных в луне. И бился в одном из колец, брошенных Маем. А душа высекала пугливые искры, трепетали взмахи. Хотел рассмеяться всему, но губы нежданно изломились болью. <…> И боль, как боль ребенка, трагично разлилась отцвеченными кровью песнями («В шалэ березовом», «Озеровая баллада», «Импровизация», «Марионетка проказ», «В предгрозье», «В парке плакала девочка»…). Вскинулась скорбь и оборвалась <…> И вот молится в больном экстазе поэт. Экстазы молитв несут его белой ночью в лунные глуби на яхте воздушной62.
Образность этого текста нарочито темна, но патетически опознаваема в пафосе трагизма, жертвенности и героизма поэта. За названиями северянинских стихотворений Лукашу провидятся скорбь, боль, одиночество, экстаз, «властная тоска» и «напевы молитв». Воображаемый поэт страдает – страдает и его читатель.
Интересно, что вынесенное в заглавие «электричество» северянинских стихов, давшее старт насмешкам и недоумению критиков, в истории литературного авангарда не только не одиноко, но и находит буквальную кальку в названии изданного в том же 1911 году сборника стихов итальянского футуриста Коррадо Говони (Corrado Govoni) Poesie allettriche («Электрические стихи»). Северянин об этом сборнике знать не мог, но электричество как примета нового времени в моде у авторов, неравнодушных к техническому прогрессу63.
В брошюре стихотворение «В парке плакала девочка…» датировано ноябрем 1910 года и строфически разделено на двустишия (в издании 1913 года и последующих изданиях датировка и разделение на строфы были сняты64). Стихотворению предпослано посвящение Всеволоду Светланову – приятелю Северянина, певцу и музыканту, увлекавшемуся футуризмом и, в частности, идеями «цветной музыки», оставшееся неизменным во всех десяти изданиях «Громокипящего кубка», а также в его рукописной копии («авторукописи»), сделанной Северянином в 1935 году65. Адресат посвящения – творческий псевдоним Гавриила Ильича Маркова (1881 – начало 1960‑х годов), известного двумя художественно-теоретическими эссе за подписью Всеволода Светланова: «Символическая симфония (Опыт стихийной симфонии)» и «Музыка слов (Эскизы лингвистики)» в шестом и девятом альманахе эго-футуристов за 1913 год66. О дальнейшей жизни Маркова известно немного, кроме того, что он увлекался музыкально-драматическим театром, песенным фольклором и садоводством, служил писарем при действующей армии в годы Первой мировой войны, в 1920‑е годы проживал на Урале, занимаясь музыкально-педагогической деятельностью, в 1930 году принимал участие в фольклорно-этнографической экспедиции на Печору, в 1940 году был арестован по «политической» 58‑й статье и приговорен к пяти годам ссылки. О последних годах жизни Маркова сведений нет, как нет и сведений о дате его смерти, предположительно в начале 1960‑х годов67.
Ближайшее текстологическое окружение стихотворения в издании 1913 года изменилось. Отныне ему предшествует подражание русской плясовой Chanson russe («Зашалила, загуляла по деревне молодуха. / Было в поле, да на воле, было в день Святого духа)»68, а за ним следует «Пасхальный гимн»:
Христос воскресе! Христос воскресе!
Сон смерти – глуше, чем спит скала…
Поют победу в огне экспрессии,
Поют Бессмертье колокола.
Светло целуйте уста друг другу,
Последний нищий – сегодня Крез…
Дорогу сердцу к святому Югу! —
Христос воскресе! Христос воскрес!69
Стихотворение было включено в один из четырех разделов книги, открывающий сборник и оптимистично озаглавленный «Сирень моей весны». Если искать в этом расположении общий композиционный смысл, то он выглядит менее противоречивым, чем в брошюре 1911 года, сближая фольклоризованный напев задорного характера, трогательное происшествие в парке и обнадеживающую весть праздничной молитвы. Слезы девочки в контексте такого (композиционно последовательного) прочтения уже не столь безутешны. Хочется думать, что ласточка поправится, девочка повеселеет, а ее отец станет еще добрее.
В истории прочтения и восприятия творчества Игоря Северянина стихотворение «В парке плакала девочка…» обрело комплиментарный контекст благосклонных или даже восторженных отзывов. И в самом деле, вот она: трогательная сценка, где есть место доброте, жалости к другому, любви отца к дочери, понимающему снисхождению взрослого к ребенку и заведомому прощению пустяшных проступков. Само слово «жалость», столь значимое в контексте северянинского стихотворения, сохраняет в нем коннотации положительной и религиозно окрашенной эмоции, соотносимой с милосердием, состраданием и – в ее обиходном, «народном», представлении – с любовью70. Христианские параллели в этом случае могут увести далеко, напоминая о средневековом «умилении» как о «любви сквозь слезы, любви как всеохватывающей жалости»71. Семантическая окраска этого слова претерпевала изменения – и к сегодняшнему дню полнится новыми оттенками, где есть место высокомерию и презрению, злости и унижению, ироническому недоброжелательству и досаде72. У Северянина таких оттенков нет. Жалость в данном случае – это искреннее сопереживание чужому несчастью, или, в лингвистической формулировке Ю. Д. Апресяна,
жалость Х-а к Y-у = ‘чувство, нарушающее душевное равновесие Х-а и вызванное у Х-а Y-ом; такое чувство бывает у человека, когда он думает, что некто находится в плохом положении и что это положение хуже, чем он заслуживает <…>; тело реагирует на такое чувство как на боль; человеку, который испытывает такое чувство, хочется изменить положение другого существа так, чтобы оно стало менее плохим’73.
Сочувствие девочки к ласточке вызывает ответное сочувствие – чувство, которое, по-видимому, определяет главную тему стихотворения и его эмоционально кумулятивный характер: от автора и его героев – к читателю74.
Декламационный характер стихотворного размера способствовал его запоминанию: характерный для всей поэзии Северянина симметризм ритма – здесь это цезуры, подчеркивающие равносложность отрезков каждой строки, и двусложные наращения, придающие им двустопную последовательность, – созвучен прочтению всего стихотворения равно как напевного и раздумчивого75. Движение в тексте поддерживается при этом многосоюзием: «и… и… и… и… и…» – пять «и» на шесть строчек стихотворения. Синтаксически это разные «и», но их последовательность определяет семантическую связь грамматических основ двух предложений. Девочка сделает это и это (в будущем времени: «возьму» и «укутаю»), а отец уже сделал это и это (в прошедшем времени: «призадумался» и «простил»). Глагольное перечисление действий завершается их однородным дополнением, указывающим на то, что́ именно отец «простил» дочери: «и капризы и шалости» (связанные общим для них причастием «грядущие»).
В рецензиях и откликах на «Громокипящий кубок» современники отмечали содержательную и мелодическую привлекательность стихотворения. Северянин, по мнению Александра Измайлова, «глубоко чувствует», и «В парке плакала девочка…» – тому доказательство:
В наивных, немного растерянных, неврастенических словах умеет рассказывать людям… про плачущую девочку в парке, которой жалко ласточки с переломанной лапкой76.
Александр Амфитеатров, раскритиковавший первые две книги Северянина, оговаривался, что «в той доле», в которой эта поэзия ему «совершенно понятна», «В парке плакала девочка» – прелестное стихотворение («за исключением двух слов, пригнанных для рифмы: „Потрясенный минутою“, которые расхолаживают впечатление своей газетной прозаичностью)»77. Мариэтта Шагинян, разбирая стихи «Громокипящего кубка», также полагала, что «читателю, вероятно, еще очень понравится маленькое стихотворение <…> „В парке плакала девочка“»78. По свидетельству Лили Брик, это стихотворение было одним из «особенно нравящихся» Владимиру Маяковскому79. В воспоминаниях Пимена Карпова оно же названо одним из двух лучших (наряду с «Виктория-Регия») стихотворений поэта80. Георгий Шенгели вспомнит о нем в стихотворении «На смерть Игоря Северянина» (1942), как о самозабвенно наивной и прекраснодушной вере его автора, «что самое в мире грустное – как в парке плакала девочка»81.

Обложка первого издания сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913); Обложка шестого издания сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1914)
В наши дни стихотворение Северянина воспринимается, помимо прочего, как образец поэзии, рассчитанной на детей и юношество. Так оно, несомненно, воспринималось и раньше82. Здесь, вослед Сергею Гандлевскому, можно задуматься над тем, почему «некоторые произведения, по замыслу обращенные к взрослым, дрейфуют в сторону детского чтения, а другие, по всем приметам подростковые, – не выдыхаются и сопутствуют нам в зрелые годы»83. В случае Северянина ситуация еще занятнее: стихотворение «В парке плакала девочка…» остается равно взрослым и детским84. Есть в этом вопросе и антропологический нюанс: восприятие ребенка отличается от восприятия взрослого. В одном случае, условно говоря, текст прочитывается в окружении одиночных записей памяти, в другом – на палимпсесте житейского и читательского опыта. Читая сказанное кем-то и о чем-то, думаешь о себе – или во всяком случае чужой текст становится своим, будучи присвоенным нами. Эти мы – разные. Но разуподобление текста в читательском различии и различении сулит его перечитывание. Такова природа литературного текста – его, как однажды выразился Владимир Набоков, «нельзя читать», его «можно только перечитывать»85. Старый афоризм Августа Бёка, что суть филологической работы состоит в «познании познанного» (Erkennen des Erkannten), оказывается в этом случае справедливым как в теоретическом, так и в собственно прагматическом отношении – любой текст содержателен лишь постольку, поскольку он открыт к новому прочтению86. Последнее же всегда приурочено к конкретным обстоятельствам персонального восприятия.
В интернете достаточно сайтов, использующих стихотворение «В парке плакала девочка…» на школьных и внешкольных занятиях, призванных развивать аналитические и творческие способности учащихся. Приводимые здесь же методические рекомендации подсказывают, как такие уроки следует проводить и какие выводы из них могут – а точнее должны – быть извлечены.
Вступительное слово учителя.
Мы продолжаем путешествие в удивительную страну Поэзии. Страну, где живут трепетные существа, рожденные талантом, фантазией и вдохновением поэта. Существа эти – стихотворения. У них, как и у человека, есть своя история, судьба, душа.
Сегодня нам предстоит познакомиться с одним из таких созданий – стихотворением замечательного русского поэта Игоря Северянина «В парке плакала девочка». Я надеюсь, каждый постарается все сделать для того, чтобы душа этого стихотворения приоткрылась для нас. А возможно это будет только в том случае, если вы разделите чувства и переживания поэта, поймете мысль, которую он вложил в свое произведение <…>
Повторение основных фактов биографии И. Северянина.
Выразительное чтение стихотворения «В парке плакала девочка» и анализ читательского восприятия.
<…>.
(Чтение стихотворения учителем.)
– Перечитайте стихотворение самостоятельно.
– Понравилось ли оно вам?
– Выразите свое настроение, возникшее при чтении, в цвете. Прокомментируйте.
(Работа с сигнальными карточками.)
Цветовые сигнальные карточки постоянно используются на уроках литературы при работе с лирическими стихотворениями. Карточка белого цвета означает, что произведение оставило ученика равнодушным, не вызвало никаких эмоций; красного – восторг, радость; голубого – покой, умиротворение; розового – мечтательность; черного – тревогу и т. д.
Анализ стихотворения.
– Можно ли назвать стихотворение лирическим? Почему?
(Да, в нем выражены чувства.)
– Чьи чувства?
(Отца и девочки.)
– Можно ли в стихотворении выделить отдельные части?
(Да, в первой части говорится о чувствах девочки, во второй – о чувствах отца.)
– Постарайтесь при помощи цитат из текста озаглавить части.
– Сколько всего предложений в стихотворении?
(Два. Первое – предложение с прямой речью, второе – сложное.)
– Как они связаны в один поэтический текст?
(Темой, идеей, союзом И, смежной рифмой.)
– Одновременно ли происходят события, которые вызвали изображенные в стихотворении чувства героев?
(Нет, сначала происходит событие, взволновавшее девочку, а затем изображена реакция отца на ее чувства.)
– Прочитайте, какова эта реакция.
(«И отец призадумался, потрясенный минутою».)
– Какое чувство он испытал?
(Потрясение.)
– Чем же вызвано потрясение отца? Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем первую часть стихотворения. В ней раскрываются чувства девочки, создается ее образ.
Какие средства может использовать автор для создания образа героя?
(Имя, портрет, речь, авторская характеристика, самохарактеристика, характеристика другими персонажами…)
– Какие средства использованы здесь?
(Только речь.)
– Прочитайте слова автора в этом предложении.
(«В парке плакала девочка».)
– Каким глаголом вводится прямая речь?
(Плакала.)
– В стихотворении есть еще одно слово, характеризующее состояние девочки.
(Зарыдавшая – от глагола «зарыдать».)
– А когда люди плачут, даже рыдают?
(От горя, радости, страданий, то есть от сильных чувств, которые на них нахлынули, от потрясений.)
– Откуда мы узнаём, что вызвало потрясение у ребенка?
(Из речи девочки. Она говорит: «У хорошенькой ласточки переломлена лапочка».)
– Что передают эти слова?
(Состояние ласточки.)
– А как вы представляете себе эту птичку?
(Маленькая, юркая, быстрая при полете, стремительная, веселая.)
Показ картинки.
– Включите свое воображение. Какой увидела птичку девочка?
(Не может лететь, бьет по земле крылышками, испуганная, беспомощная.)
– Охарактеризуйте одним словом состояние раненой птички.
(Страдание, мучение, физическая и душевная боль.)
– Какие чувства вызвали страдания ласточки в душе девочки?
(Сочувствие, сострадание, соболезнование, сопереживание, жалость.)
– Каково значение приставки со- в этих словах?
(Совместность, объединение.)
– А как вы поняли, что именно эти чувства она испытывает?
(Она обращается к отцу за сочувствием, в речи использует слова с суффиксами уменьшительно-ласкательной оценки, хочет помочь птице: «я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»)
– Обратите внимание на эту строчку. Какие слова в ней ключевые?
(Возьму и укутаю.)
– Какая это часть речи? Что обозначает? В какой форме употреблена?
(Это глагол, употреблен в форме будущего времени.)
– То есть в словах девочки отразилось только ее желание. А сделала ли она это? Проэкспериментируем: изымем эту строку. Изменится ли смысл стихотворения, его логика?
(Да, отец не испытал бы потрясения, если бы девочка не действовала.)
– Но ведь в стихотворении нет описания действий ребенка. Как мы догадываемся, что поступок совершён?
(Огромную роль в стихотворении играют многоточия. Они могут означать, что у девочки перехватило дыхание от слез, не хватило слов, чтобы выразить свои чувства. Автор намеренно выпустил слова: за ними конкретные действия.)
– Как вы думаете, что сделала девочка?
(Погладила птичку, завернула в платочек, прижала к себе, попросила отца помочь ласточке, взять ее домой.)
– Какое определение можно дать ее поступку?
(Добрый, милосердный.)
– Как вы понимаете лексическое значение этих слов?
(Доброта – отзывчивость, стремление делать добро другим людям.
Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-либо.)
– Таким образом, мы видим, что девочка не только пожалела птичку на словах, но и оказалась способной совершить добрый поступок. <…>
– А могли бы вы заплакать? А взрослые? Почему же девочка отреагировала так остро?
(Она впервые так близко увидела чужую боль, это было первое живое существо, к которому она проявила милосердие, а первое чувство всегда самое острое.)
– А теперь подумайте, случайно ли автор пишет в стихотворении именно о ласточке, а не о другой птице?
(Можно предположить, что не случайно. «Первая ласточка» – устойчивое выражение. Так говорят о первых признаках появления чего-то хорошего.)
– Так что же так потрясло отца? О чем он задумался?
(Он увидел в своем ребенке первые признаки появления доброты, милосердия. На его глазах в дочери родились эти качества.) <…>
– Прочитаем последние строки стихотворения.
– Как вы понимаете слово «грядущий»?
(Будущий.)
– Почему отец прощает дочери грядущие капризы и шалости?
(В ней есть то, что сделает девочку настоящим человеком.) <…>
– Итак, сегодня мы проанализировали удивительно нежное и трогательное стихотворение И. Северянина, в котором поэт проявил себя с неожиданной стороны: как простодушный, мечтательный и даже наивный человек, а главное – удивительно добрый87.
Вышеприведенные вопросы при всей своей дидактической простоте предполагают, что дети совершат некоторое усилие, направленное на последовательно выстроенное объяснение. Если верить педагогам, стихотворение «В парке плакала девочка…» особенно нравится девочкам88. Русскоязычные дети в США тоже воодушевлены этим стихотворением:
Ключевым при анализе выступал исконно русский концепт «жалость». Почему лирической героине было жалко раненую ласточку? Почему папа простил дочери все «капризы и шалости», даже те, которые еще не случились? Любить и жалеть – людей и все живое; жалеть значит любить – таковы маркеры русской культуры, воссозданные в стихотворении. Природа стиха драматическая. Фиксируем внимание детской аудитории на том, что девочка доверительно обращается к отцу с элементами разговорной интонации – «посмотри-ка». И тут же в качестве контраста выделяем старославянизм «грядущие», незнакомый учащимся. Почему поэт употребил такое древнее слово в обрисовке вполне современной житейской ситуации? Объясняем это классической традицией словоупотребления высокой лексики для подчеркивания значительности момента: сквозь слезы девочки высвечивается ее добрая чистая душа. Выстраиваем семантический ряд: грядущий, будущий, последующий – словарный запас ученика обогащается. И все же понимание жизни американскими школьниками как чего-то устойчивого, с предполагаемыми выходами из кризисных ситуаций, совершенно неожиданно возбудило их интерес к продолжению истории о ласточке, вызвав следующие вопросы: «Была ли впоследствии оказана медицинская помощь ласточке?», «Как лечить ласточку?», «Разрешит ли отец оставить ласточку дома, чтобы она окрепла?»89.
От «взрослого» литературоведения ожидается нечто подобное: это ряд вопросов, которые могли бы стать основой для многостороннего прочтения текста. В терминах филологических методик оно предполагает совмещение синтагматического анализа, сфокусированного на линейном развертывании семантической структуры текста, и парадигматического, включающего стихотворение Северянина в более широкий контекст его творчества. В данном случае я ограничу (и, соответственно, упрощу) свою задачу, оставаясь в пределах биографического, лингвостилистического и культурно-исторического анализа с попутными замечаниями теоретического характера.
Из воспоминаний Веры Коренди, гражданской жены поэта, известно, что в последние годы жизни Игорь Северянин гулял и занимался с их общей пяти-шестилетней дочерью Валерией (урожденной Кореневой, 1932 г. р.), читая ей, в частности, стихотворение «В парке плакала девочка…»90. Известно и то, что ко времени написания этого стихотворения поэт уже был отцом двухлетней дочери Тамары, родившейся в 1908 году в отношениях поэта с Евгенией (Златой) Гуцан. Игорь Северянин определенно не читал свое стихотворение первой дочери, в воспитании которой после расставания со Златой (еще до рождения ребенка) он не принимал никакого участия и которую единственный раз увидит только в 1922 году в Берлине, но не исключено, что какая-то проекция отеческой заботы о дочери как о плачущей девочке сказалась в поэтической сценке, написанной им в 1910 году. В 1913 году у Северянина родилась вторая дочь – Валерия Семенова (названная в честь Валерия Брюсова). Остается гадать, читал ли Северянин свое стихотворение ей, – но отношений с ее матерью он, во всяком случае, не прерывал: все вместе они приехали в Эстонию в 1918 году. Так, не без некоторой натяжки можно сказать, что если не контекст написания, то по меньшей мере содержательный смысл стихотворения «В парке плакала девочка…» был для зрелого Северянина биографически небезразличным.
Вопрос в следующем: в чем таится это содержание для реальных и воображаемых читателей Северянина? Казалось бы, такой вопрос прежде всего должен быть адресован самому Северянину – но я в этом не уверен уже потому, что рассуждения об авторской интенции подчинены рецепции текста. Интерпретация любого художественного текста является литературно-антропологической – уже потому, что это интерпретация чего-то, что написано кем-то, кто отстоит от нас во времени и пространстве, чего-то, что адресовано современникам автора, а значит, уже поэтому обязывает к пониманию языка и таких обстоятельств создания произведения, которые являются сторонними по отношению к интерпретатору. При всем стремлении к воссозданию «ближайшего контекста» анализируемого текста, нам не избежать его осовременивания и «присвоения». Автором стихотворения «В парке плакала девочка» является Северянин, но в опыте восприятия и истолкования оно отчасти становится и моим тоже. Адресуясь же к читателю и обобщающе говоря, это наше стихотворение и наш Северянин.
В терминах рецептивной эстетики (в том виде, в котором она складывалась благодаря усилиям Вольфганга Изера и Ханса-Роберта Яусса), смысл текста не извлекается из текста, как некоторая заложенная в нем данность, но конституируется в процессе чтения: смысл – это создание смысла (Sinnkonstitution)91. Истолкование текста обязано встрече с воображением и опытом реципиента – оно исторично и, по меньшей мере, субъективно, но
так как уровни интерпретации, переходы между ними, поиски равновесия ведет читатель, читатель же и сообщает тексту то динамическое жизнеподобие, которое, в свою очередь, позволяет ему усвоить чужой опыт как часть собственной жизни92.
Задолго до популярности нарратологических (и поэтологических) исследований Томас Элиот усматривал в полифонии стихотворного высказывания проблему поэтической коммуникации и различения драмы, квазидрамы и недраматической поэзии.
Первый голос – это голос поэта, говорящего с самим собой – или ни с кем. Второй – голос поэта, обращенный к аудитории, большой или маленькой. И третий – это голос поэта, воплощенный в драматическом персонаже, говорящем стихами; не то, что сказал бы сам автор, а только то, что может сказать один воображаемый персонаж другому воображаемому персонажу93.
Разобраться в иерархии подобного многоголосия (да еще с учетом возможного диалогизма персонажей в границах одного стихотворения) по меньшей мере сложно94. Но у читателя есть выбор, и этот выбор основан на доверии к тому, что он слышит в прочитанном.
Доверие не является само собой разумеющимся понятием. В социологии и психологии оно понимается различно95. Но и в том и в другом случае у него есть проспективный аспект, отсылающий к будущему. Доверять кому-то или чему-то – это значит снимать границу между «знанием» себя и «незнанием» другого через предвосхищаемое будущее. Будущее присутствует в настоящем, обнадеживая возлагаемыми на него ожиданиями. В этом смысле проективна и литература – и поэзия, в том числе. Сказанное автором нечто и некогда предполагает по меньшей мере, что оно будет не просто прочитано, но прочитано как то, что обращено к будущему, – хотя бы потому, что читатель по отношению к автору всегда пребывает в будущем.
В общем виде о любом лирическом произведении можно сказать, что оно движется «от внешнего к внутреннему, от фактов объективной действительности к их эмоциональной переработке, к их переживанию некоей внутренней правды, вытекающей из предельно лично понятой и прочувствованной ситуации»96. Эстетика в этих случаях осложняется этической пресуппозицией, подразумевающей относительную «правду» поэзии. По крылатому соподчинению этих слов у Гёте, «поэзия» и «правда» взаимообусловлены. Сомнение в поэтической искренности не мешает (или, может быть, даже помогает) пониманию стихотворения, но разрушает эмпатию, которую, казалось бы, читатель и/или слушатель изначально вменяет себе по отношению к поэту и тем голосам, которые он создает.
В нашем стихотворении включение в текст прямой речи открывает пространство диалога. Непосредственные персонажи этого диалога – девочка и ее отец – в известном Северянину поэтическом контексте отсылают к Константину Фофанову (стихотворению «Рисунок», 1902) и Александру Блоку – к «пьесам» 1905 года «Поэт» («Сидят у окошка с папой…») и «У моря» («Стоит полукруг зари…»), вошедшим в раздел «Детское» сборника «Нечаянная Радость» (1907). Ввиду важности этих текстов для их возможного сопоставления со стихотворением Северянина приведу их полностью97.
Константин Фофанов. Рисунок
Девочка долго бумажку чертила
И улыбалася кротко и мило, —
Черточки, точки, кривой полукруг…
– Что это значит, мой маленький друг?
Девочка тихо головку склонила.
– После увидишь! – ответила мило
И принесла мне рисунок потом
С ясной душою и с ясным челом.
– Видишь, какие картиночки вышли?
– Не понимаю: собачка ли, мышь ли?
Или лошадка, иль серый коток?
Что написала, скажи мне, дружок!
– Папа, какой непонятный ты, право!
Видишь, здесь ангелы Божьи направо,
Видишь, тут речка и райский цветок.
– Вижу, голубушка, вижу, дружок!
О, золотая невинность моя!
Может быть, так же мечтаю и я,
Может быть, так же прилежный мой труд
Глупые люди, смеяся, поймут98.
Александр Блок. Пьесы
Сидят у окошка с папой.
Над берегом вьются галки.
– Дождик, дождик! Скорее закапай!
У меня зонтик на палке!
– Там весна. А ты зимняя пленница,
Бедная девочка в розовом капоре…
Видишь, море за окнами пенится?
Полетим с тобой, девочка, за море.
– А за морем есть мама?
– Нет.
– А где мама?
– Умерла.
– Что это значит?
– Это значит: вон идет глупый поэт;
Он вечно о чем-то плачет.
– О чем?
– О розовом капоре.
– Так у него нет мамы?
– Есть. Только ему нипочем:
Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама.
– А эта дама добрая?
– Да.
– Так зачем же она не приходит?
– Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе.
Прошла ночька.
Кончился разговор папы с дочкой99.
Стоит полукруг зари.
Скоро солнце совсем уйдет.
– Смотри, папа, смотри,
Какой к нам корабль плывет!
– Ах, дочка, лучше бы нам
Уйти от берега прочь…
Смотри: он несет по волнам
Нам светлым – темную ночь…
– Нет, папа, взгляни разок,
Какой на нем пестрый флаг!
Ах, как его голос высок!
Ах, как освещен маяк!
– Дочка, то сирена поет.
Берегись, пойдем-ка домой…
Смотри: уж туман ползет:
Корабль стал совсем голубой…
Но дочка плачет навзрыд,
Глубь морская ее манит,
И хочет пуститься вплавь,
Чтобы сон обратился в явь100.
В стихотворении Северянина «коммуникативная» ситуация выглядит схожим образом – с той, однако, разницей, что отец девочки, хотя и является адресатом ее обращения, «вслух» ей ничего не отвечает. Поэтический диалог в этом случае замечателен своим превращением в потенциальный полилог: девочки, ее отца и читателей/слушателей стихотворения.
Стоит заметить, что прямая речь даже в своей речи – автоцитирование («И я сказал: „…“») – разотождествляет того, кто говорит от первого лица, и того, кто говорит как бы от первого лица. В нарративном отношении это разные лица и разные рассказчики. Включение в текст чужой прямой речи и вовсе конструирует многоголосие, наделенное дейктическим – голосовым, «телесным» и пространственным – измерением. Здесь это дистанция между «повествователем», девочкой, ее отцом и «нами», свидетелями описываемого события. Девочка обращается к отцу, но читатель/слушатель оказывается в этот диалог вовлечен ситуативно – будучи не/вольным свидетелем незавершенной коммуникации, он гипотетически выступает в роли того, кто такой диалог мог бы продолжить (завершить). Голос «повествователя», сообщающего о происходящем («В парке плакала девочка…»), дополняется в этом случае голосом самой девочки («посмотри-ка..»), безмолвным «голосом» отца и потенциальными «голосами» сторонних свидетелей – читателей/слушателей стихотворения. И вот за шестью строчками стихотворного текста слышится, условно говоря, многоголосие его участников: «хор текста».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе