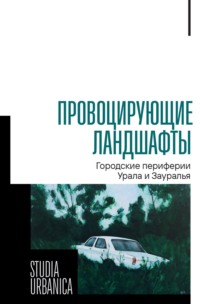Читать книгу: «Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья»
© Ф. Корандей, состав, введение, 2025
© Авторы, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© Д. Русаков, картина на обложке, 2019
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
В оформлении обложки использована работа Д. Русакова «Баржа 2», 2019 г.
Книга составлена по результатам исследовательского проекта, поддержанного РФФИ, грант № 20-05-00592
Предисловие
Авторов книги объединила программа исследования культурных ландшафтов, расположенных в зоне влияния центров Екатеринбургской и Тюменской агломераций. Поддержанный грантом РФФИ исследовательский проект, результатом которого стал этот сборник, представляет собой опыт полилокальной этнографии и социальной географии региона, простирающегося от склонов Уральского хребта до берегов Иртыша и Оби, опирается на методы качественного полевого исследования, имеет целью характеристику определяющих процессов актуальной социальной географии региона как в мелком масштабе территории в целом, так и в крупном масштабе кейсов типичных элементов повседневного ландшафта. Нас интересовало многообразие процессов, происходящих сейчас в ландшафтах вокруг Екатеринбурга и Тюмени, их исторические и социально-экономические основы – в частности урбанизация за пределами крупных городских центров, многоголосие вольных и невольных участников ландшафтных трансформаций, феноменология повседневных путешествий. Важной составляющей нашего проекта стала артикуляция новых форм страноведческого описания, актуальных с точки зрения современного социального пространства страны и пространственных практик людей, которые ее населяют.
Мы работали над этой книгой в очень непростые времена. Благодарим всех наших собеседников, уделивших нам драгоценное время и внимание, лидеров мусульманских общин Тюменской области, не раз оказывавших гостеприимство авторам, и в особенности имама Лайтамакской мечети Абдуллу Кучумова, Валерия Сахарова из Тобольска, который переправил нас через Иртыш, открыв цикл экспедиций, составивших основу книги, заведующего археологической лабораторией Курганского государственного университета Игоря Новикова, директора судоходной компании из Томска Виктора Черных, главного редактора мусульманской культурно-просветительской газеты «Муслим-Инфо» Калиля Кабдулвахитова, чьи прекрасные фотографии использованы в книге, замечательного тарского художника Дениса Русакова за разрешение поместить на обложку репродукцию одного из его полотен, заведующего кафедрой туризма ПГНИУ, редактора журнала «Географический вестник» Александра Зырянова, директора Чаяновского исследовательского центра МВШСЭН, редактора журнала «Крестьяноведение» Александра Никулина, фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», после закрытия РФФИ предоставивший нам грант на подготовку рукописи, наших коллег по Лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ (ныне – Центр урбанистики) Сергея Козлова и Игоря Стася, нашего коллегу по гранту, в настоящее время директора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимира Костомарова и, конечно, тюменцев Арсения Заргаряна и Владимира Богомякова, во время путешествий с которыми мы впервые начали обсуждать замысел «Провоцирующих ландшафтов».
Федор Корандей
Введение
Тексты, которые легли в основу этой книги, составлены авторами, в начале 2020-х годов работавшими совместно в рамках проекта «Провоцирующие ландшафты». Проект был посвящен исследованию культурных ландшафтов региона, расположенного в зоне притяжения двух соседних агломераций – Екатеринбургской, относящейся к числу крупнейших в России (4-е место, свыше 2 млн чел.), и Тюменской, представляющей собой феномен быстрого роста центра с высокой экономической привлекательностью (около 1 млн чел.). Замысел проекта сложился в августе 2019 года, во время летней школы по социальной антропологии, проходившей в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского университета и собравшей в одной дискуссионной аудитории специалиста по традиционному природопользованию сибирских народов уральца Илью Абрамова и двух тюменцев – исследователя религиозного ландшафта Максима Черепанова и автора этих строк, исторического географа Федора Корандея. Как показало обсуждение одной из работ Тима Ингольда, нас объединял интерес к общему для нас региону, путешествиям и анализу повседневного культурного ландшафта. Немного спустя к группе присоединилось еще несколько коллег: археолог с интересами в области рефлексивной археологии Владимир Костомаров, антрополог и историк освоения Севера Михаил Агапов, тогда заведовавший сектором социальной антропологии тюменского Института проблем освоения Севера, и московский географ с сибирским бэкграундом Александр Шелудков, обладавший, как и большинство участников группы, опытом и научными интересами в области полевых исследований в Зауралье. В начале 2020 года наша заявка была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований. Впоследствии, уже на этапе осмысления опыта экспедиций, на наших встречах появились близкие по духу авторы, еще пара уральцев – специалист по советскому индустриальному ландшафту Константин Бугров и исследовательница поселенческой структуры Урала Татьяна Быстрова, работающая с нами по соседству, в Институте наук о Земле Тюменского университета, исследовательница рекреационной географии Мария Гудковских, а также специалист по этнической экологии из Санкт-Петербурга Кирилл Истомин.
Что же такое «провоцирующие ландшафты»? Исследовательская метафора проекта впервые прозвучала в те августовские дни 2019 года в связи с перспективами приложения теории аффордансов, принесенной Ингольдом в антропологию из экологической психологии, к исследованиям культурного ландшафта. Тогда мы понимали под ними корреляции характерных социальных феноменов с характерными особенностями ландшафта. Казалось, что ландшафты провоцируют поступать определенным образом. В этой связи центральная для ингольдовской теории идея взаимных возможностей или предрасположенностей любых составляющих земной поверхности, не противопоставляемых друг другу как природа или культура, но описываемых в терминах процессуальной сонастройки [Ingold 2000], показалась нам способом избежать обычного постструктуралистского дескриптивизма, связанного с регистрацией пронизывающих земную поверхность силовых линий производства пространства и конструирования идентичностей. Однако, в отличие от хорошо разработанного «производственно-конструктивистского» co-production (так характеризовала свой базовый инструментарий антрополог пространства Сета Лоу, также пытавшаяся справиться с его ограничениями [Low 2009]), теория аффордансов, восходящая к феноменологии – философской науке об опытном взаимодействии сознания и мира, – не представляет исследователю глубоко разработанной методологии. Возможно, как показывает содержание книги 2022 года, аффорданс как исследовательская категория, актуальная для множества наук, в том числе для близких проблематике исследований культурного ландшафта архитектурной теории и городскому планированию [Djebbara 2022], еще только начинает свою историю. У нас не было возможности взять концепт, готовый к использованию: далекие от методологической когерентности статьи, составившие нашу книгу, свидетельствуют, что идею приходилось всякий раз уточнять, масштабировать, приспосабливать к новому материалу.
Хлесткое выражение «провоцирующие ландшафты», появившееся в самом начале нашей работы и далекое от концептуального совершенства, конечно, содержало ненужные поссибилистские и даже детерминистские коннотации, описывая процессы, попадающие в наше поле зрения, как лишенную субъектности производную среды. Однако в интересующей нас теории среда и населяющие ее создания равноправны и не выстраиваются в иерархической последовательности. Подобным же образом, что было обнаружено уже на этапе заполнения грантовой заявки, зазвучал неожиданными для нас обертонами термин «ландшафт», при всем богатстве связанной с ним исследовательской традиции не идентичный ингольдовской «среде» (environment), переключающий внимание на критику социополитически нагруженного «взгляда» и «наблюдения». Меж тем в контексте теории аффорданса метафора включенного «проживания среды» оказывается намного более релевантной исследуемой реальности, нежели метафора «чтения ландшафта», предполагающая, что такое чтение осуществляется внешним по отношению к ландшафту субъектом, обладающим статусом эксперта.
Затем начали вызывать проблемы сами участники «сонастройки». Определение аффорданса, с самого начала (см. об этом гл. 2) допускавшее двойное прочтение – как диспозиционное, «возможности среды плюс возможности животного» [Turvey 1992], так и реляционное, «ситуация возможности выбора и взаимного обмена» [Chemero 2003; Stoffregen 2003; Heft 2007], – не закреплено в реальности одного порядка и дает бесконечные возможности для масштабирования. Аффордансом, как свидетельствуют нижеследующие тексты, может оказаться и болотная почва, и федеральная целевая программа. Наконец, проблему создавали и различия исследовательских привычек участников проекта, укорененные в междисциплинарных разломах. В то время как Илья, Федор и Максим могли договориться между собой относительно легко, дискурсу социальной антропологии, ориентированному на долгосрочное включенное наблюдение локальных практик, и дискурсу географии, заинтересованному в больших синтетических картинах пространственных сходств и различий, «договориться» было куда сложнее. Это уточнение, масштабирование и приспособление исследователей, категорий, сюжетов и оптик – процесс, конгениальный ингольдовской «сонастройке», – продолжалось весь период реализации проекта и не закончилось, сформировав «флюидную» программу «Провоцирующих ландшафтов» и характерный стиль текстов. Не исключено, что мы к этому и стремились.
Аналитические категории как исследовательские идеологии
Итак, на что провоцируют ландшафты? Прежде всего на коммуникацию по поводу принимаемых терминов [Massey 2006]. Насущность обновления языка и моделей описания пространственной реальности России, существующей в условиях миграции экономически активного населения в города (читай – депопуляция, гиперконцентрация и поляризация пространства) [Малые города 2019; Малые русские 2022; Староосвоенные районы 2021; Фадеева и др. 2021], доминирования восходящих к позитивистской политэкономии имперского и советского пространства и укорененных в языке стратегии пространственного развития РФ 2019 года «городских» и «ультрагородских» дискурсов репрезентации ландшафта (читай – язык внутренней колонизации, периферии, а не провинции, ресурсного государства) [Каганский 2001; Кордонский 2007; Эткинд 2013], столкнулась в нашей практике со множеством интеллектуальных проблем, которые удобнее всего представить в виде оппозиций, представляющих собой не столько «нейтральные» координатные оси анализа, сколько исследовательские идеологии, между которыми нам всякий раз приходилось делать выбор.
Ландшафт или среда?
Нашей отправной точкой стала концепция культурного ландшафта, восходящая к идеям П. Видаль де ла Блаша, выдвинувшего в качестве альтернативы географическому детерминизму идею поссибилизма, О. Шлютера и К. Зауэра, создавших современное понимание культурного ландшафта как страты, «вырабатываемой» культурной группой на базе природного ландшафта [Sauer 2008], исторической традиции отечественного ландшафтоведения, развивавшей те же идеи [Семенов Тян-Шанский 1928], британской «ландшафтной археологии» (landscape archaeology), предложившей классическую исследовательскую метафору «чтения» культурного ландшафта [Darby 1951; Hoskins 1955], и американской культурной географии, расширившей эту метафору за счет признания исследовательского значения повседневных, обыденных ландшафтов [Jackson 1984; The Interpretation 1979; The Making 1990; Understanding 1997].
Вместе с тем идея «чтения» ландшафта предполагает проблему. Французские ученые, писавшие о трех возможных точках зрения на ландшафт, выделяли 1) «образованный» взгляд (regard formé), предполагающий способность видеть эстетические достоинства ландшафта, сформированные определенной культурой; 2) «информированный» взгляд (regard informé), предполагающий знание содержания ландшафта с точки зрения определенной области знания; и 3) «близкий/сокровенный» взгляд (regard intime), предполагающий знание ландшафта с точки зрения человека, чья повседневная жизнь связана с этой территорией [Larrère 2009]. Принятая в географии парадигма экспертного «чтения» ландшафта крайне редко предполагает наличие у «читающего» третьей позиции, достижение которой требует использования исследовательских инструментов, нетривиальных в случае стандартного географического исследования.
В этом смысле для нас важны некоторые последствия «рефлексивного поворота» в социальной антропологии, в частности переход от исследовательской позиции «чтения» ландшафта к исследовательской позиции «укорененного в теле опыта» (embodied experience). Важную роль в этом процессе сыграли работы британского антрополога Т. Ингольда [Ingold 1993; Ingold 2000]. В 1988 году, решая проблему соотношения биогенетического и социокультурного измерений человеческого существования, Ингольд обратился к работам американского психолога Дж. Гибсона, занимавшегося проблемами визуального восприятия [Gibson 1979; Гибсон 1988]. Под влиянием идей Гибсона Ингольд пришел к пониманию человеческого восприятия как функции сенсорной системы, укорененной в природной среде. Такой подход снимал различение между внутренним миром человеческого наблюдателя и внешней средой, характеризуя их как единую систему, процесс восприятия, воплощенный в телесных практиках человека [Ingold 2000: 27, 191]. В качестве аналогии метафоре «чтения» ландшафта Ингольд выдвинул другую, утверждая, что «люди не пишут свои жизненные истории на поверхности природной среды, как писатели; нет, эти жизненные истории вплетены, наряду с жизненными циклами растений и животных, в ткань самой этой поверхности» [Ingold 2000: 198] (здесь и далее в случае, если не указано обратное, перевод наш). Альтернативой внешнему, связанному с визуальностью и экспертной позицией, взгляду на ландшафт, в данной теории стала «чувствующая экология» (sentient ecology), создающая навыки, привычки восприятия и ориентации человека и в конечном счете характерные жизненные сценарии, развивающиеся в течение долгого пребывания в конкретной среде, которую Ингольд называет «ландшафтом задач» (taskscape) [Ingold 2000: 39]. Прагматическая, ориентированная на повседневный опыт «чувствующая экология» предполагает, что ландшафт является коммуникативным пространством обучения, в ходе которого человек получает новые навыки на базе примеров и опыта коллективных практик, выражающих разделяемые участниками группы модели мышления и телесного поведения.
Важно, что Ингольд, как и некоторые другие авторы [Cronon 1996], проблематизировал стереотипную дихотомию «дикая природа – антропогенная среда»: среда в ингольдианской теории едина и не нуждается в таком разделении, что в конечном счете возвращает нас к классическим формулировкам культурной географии – «Практически каждый квадратный миллиметр территории Соединенных Штатов уже подвергался когда-нибудь влиянию человека. „Естественные ландшафты“ столь же редки, как горы, на которые никто еще не взбирался» [Lewis 1979: 1–32]. Это же делает бессмысленным громоздкий термин «культурные повседневные ландшафты», который автор этих строк поначалу использовал. Согласно вышеупомянутой точке зрения некультурных ландшафтов не бывает.
Ресурсы или аффордансы?
Следующая оппозиция связана со специфической «экономизацией» социально-политического дискурса о возможностях территорий, хорошо известной, например, по работе 2007 г. [Кордонский 2007]. Утилитарное восприятие категории экономического ресурса, которое в самой экономической теории лишь относительно недавно стало дополняться методиками социальной и экологической составляющей ценности ресурсов [Юрак 2021], создает характерные искажения, наблюдаемые и на уровне академического анализа, и на уровне управленческих стратегий, и на уровне повседневных дискурсов и практик. В 7-й главе этой книги, посвященной актуальному для некоторых малых городов «туристическому» повороту, проблема «эссенциализации» этой аналитической категории разбирается специально, и мы решаем эту проблему однозначно, принимая различения гибсоновско-ингольдовской теории, позволяющие снять проблему дихотомии абстрактного и конкретного в восприятии ресурса. «Экономический» ресурс может быть описан в теории аффорданса только опосредованно, через способность восприятия конкретной средовой информации [Reed 1996:38; Ingold 2000: 66–67]. Вместе с тем, принимая во внимание способность человека жить в «антропологических пространствах», иногда абсолютно теряющих связь с земным референтом, категория «конкретной средовой информации» всегда будет открыта в мир абстрактных идей, символов и значений. Описать эту проблему однозначно можно, вероятно, только в определенных ситуативных и процессуальных контекстах, исходя из дискурсов и практик, актуальных здесь и сейчас. При этом, воспринимай мы аффордансы как «предрасположенности» среды или человека или как собственно ситуацию обнаружения и оценки возникающих возможностей, эта сетка всегда будет меняться в зависимости от масштаба происходящей интеракции, ее технических характеристик, угла зрения. Смысл теоретического противопоставления ресурса и аффорданса заключается главным образом в том, чтобы предупредить упрощенное восприятие ресурса как утилитарной экономической абстракции. Для рыбаков, которых вы встречаете в повседневных ландшафтах, важны не только прямые доходы, исчисляемые в рублях, полученных в результате продажи карасей, или в единицах полученной в результате их употребления в пищу энергии, но и масса вещей, которые нелегко переводятся в исчислимые статистические категории, но, однако же, серьезно влияют на выбор жизненной стратегии или восприятие ситуации – эмоции, память, опыт, идентичность, самочувствие, самооценка. К примеру, у жизни в природной изоляции есть свои плюсы и минусы, их очень много – нельзя сказать, что они оцениваются полностью рационально, и это нормально и не должно служить основанием для дискриминации этих нелегко переводимых в категории экономической теории позиций по отношению к абстрактным и объявляемым полностью рациональными позициям хозяйственно-административным.
Пространство или место?
Еще один концептуальный перекресток, обнаруживаемый при применении постфеноменологической оптики «провоцирующих ландшафтов», – соотношение категорий пространства и места. Долгое время воспринимавшиеся как данные по умолчанию, эти базовые инструменты анализа происходящих на земной поверхности процессов начали проблематизироваться в период «пространственного поворота», c 1970-х годов. В один и тот же период параллельно влиятельным постструктуралистским концепциям пространства как модели гегемонических социальных отношений [Фуко 2006], продукта капиталистического миропорядка [Лефевр 2015], триалектики физического, концептуального и проживаемого [Soja 2006] складывались восходящие к феноменологии М. Мерло-Понти [Мерло-Понти 1999] и М. Хайдеггера [Хайдеггер 2020] концепции, трактовавшие место как ситуацию насыщенной опытом, эмоциями и смыслом встречи человека с миром [Relph 1976; Seamon 1979; Tuan 1979; Casey 2009]. Критический потенциал обеих концептуализаций – постмодернистского пространства, направленного на критику идеологии, прячущейся за конвенциональными капиталистическими репрезентациями и практиками, и постфеноменологического места, порицавшего продуцировавшееся архитектурным и управленческим функционализмом характерное обеднение повседневного опыта, – кажется, был востребован по-разному. Исследовательская оптика производства и конструирования пространства была и остается популярной [Смирнягин 2016], феноменологическая оптика места, при всей ее насущности для полевых исследований повседневных ландшафтов, на мой взгляд, обсуждается гораздо реже и методологически разработана гораздо слабее. Характерны попытки развития «антропологии места»: несмотря на манифесты целого ряда блестящих авторов [Appadurai 1986; Gupta Ferguson 1992; Geertz 1996], современные антропологи все же тяготеют к «антропологии пространства» в духе Фуко и Лефевра [Low 2017]. Среди авторов, критиковавших ограничения, свойственные для оптики пространства, снова оказывается Ингольд [Massey 2005; Ingold 2017], и это закономерно: крупный план вовлеченной полевой работы, пешеходные интервью и включенное наблюдение, встреча лицом к лицу с человеком, а не со статистикой – масштаб места соразмерен именно этой исследовательской практике. Под влиянием этой оптики описанная в грантовой заявке программа ландшафтного районирования «периферии агломераций» эволюционировала в сторону путеводителя, описывающего типичные (общие) места повседневного культурного ландшафта, соразмерные включенному наблюдению в ходе экспедиций малой и средней длительности и повышенной мобильности исследовательской группы, старавшейся увидеть побольше.
Город или деревня?
Наконец, упомянем еще одно разделение, сопровождавшее нас все эти годы, в течение которых мы также участвовали в прикладных городских исследованиях и в развитии магистерской программы «Концептуальная урбанистика», реализуемой в Тюменском государственном университете. В основании ориентированной на развитие крупнейших агломераций стратегии пространственного развития РФ 2019 года [Стратегия 2019: 3] лежит принимаемый по умолчанию тезис об общемировой тенденции к концентрации населения в крупных и крупнейших городах. «Крупные и крупнейшие городские агломерации» (так!) появляются в этом документе не менее 56 раз, в то время как «сельские территории и населенные пункты» – 13, а «малые и средние города» – всего лишь 5 раз. Действительно, городское население мира, пусть и совсем недавно, в 2008 году, превысило сельское, тенденция к его увеличению продолжает усиливаться, и, более того, существует несомненная связь между урбанизацией и экономическим ростом [Ritchie Roser 2022]. Это кажется отражением реального положения дел – большая часть россиян, 73 миллиона человек (а теперь, наверное, даже больше), живет в 40 городских агломерациях, именно там кипит жизнь, чего же странного в том, что их дела представляются самыми насущными. Меж тем, конечно, за очарованностью крупными и крупнейшими «перспективными экономическими центрами» скрывается определенная идеология. Отмечая, что сведение всего процесса урбанизации к проблеме развития крупных и крупнейших экономических центров является принимаемой по умолчанию отправной точкой системы представлений, рожденной не непредвзятым анализом, но гегемоническим социально-политическим дискурсом неолиберального капитализма, Н. Бреннер призывает исследователей обратить внимание на две важные вещи. Во-первых, то, что объявляется в этой картине мира не-городами (non-cities), т. е. природа, сельская местность, хинтерланд и другие, как он выражается, «дескриптивные» категории терминологии пространственного развития, в современных условиях не является оппозицией городу, но становится стратегически важной областью капиталистической урбанизации. Во-вторых, помимо агломераций, процесс урбанизации постоянно производит еще один тип земной поверхности, трансформируя не-городские пространства в зоны высокоинтенсивной крупномасштабной промышленной инфраструктуры, – Бреннер называет его операционными ландшафтами (operational landscapes), находящимися за пределами агломераций, но систематически переоборудованными для нужд городской экономики [Brenner 2016: 219–220]. В качестве критика дискурса, «замечающего» только большие города, выступает и Н. Фелпс, автор монографии о «местах между» (interplaces). Межгородская экономика, пишет он, это то, в чем, несмотря на многочисленные свидетельства ее существования, мы еще только начинаем разбираться. Многие виды бизнеса все больше и больше распространяются за пределы городов, которые были их основным вместилищем и основной аналитической точкой отсчета при их изучении, и, по логике вещей, большая часть актуальной и будущей экономической деятельности будет происходить в движении, в «местах между», формируя все более и более распределенную межгородскую экономику [Phelps 2017: 7].
В русле той же критики составлены несколько российских коллективных монографий, выпущенных после принятия «Стратегии» и обращающих внимание читателей на важность изучения страны, расположенной за пределами агломераций. Пусть и не занимаясь прямой критикой глобального неолиберального диспозитива, редуцирующего урбанизацию до центров экономического роста, все они вынуждены работать с его региональным российским вариантом, составляющим основу цитируемой стратегии [Малые города 2019; Малые русские 2022; Староосвоенные районы 2021; Фадеева и др. 2021]. Именно о нем, как о контурах городского фронтира, простирающихся далеко за пределами городов, пишет Александр Шелудков в 1-й главе этой книги. Наш опыт позволяет присоединиться к идее, общей для всех вышеперечисленных авторов, равно как и к тезису пятой главы работы Р. Уильямса «Деревня и город» [Williams 1973]: между «деревней» и «городом» в действительности нет четкой границы, правильнее описывать их – и, например, урбанизацию как таковую – как территориальный градиент, процесс, происходящий повсюду и не завершающийся нигде. Когда мы не говорим о связях и взаимном обмене между провинцией и центрами – а именно это умолчание скрыто в языке вышеупомянутой стратегии, – мы создаем контрасты, поляризацию, депопуляцию одних мест и гиперконцентрацию населения в других.
Провоцирующие ландшафты как исследовательская программа
При всем искушении занять одну из позиций внутри описанных концептуальных диалогов, на практике мы брали и от того и от другого. Оппозиции – это лишь инструмент, в аналитических целях редуцирующий реальность до определенного аспекта: должны быть упомянуты «средние» категории таких авторов, как Дж. Эгнью, Д. Харви и Д. Мэсси [Харви 2011; Massey 2005; Agnew 2011], пытавшихся справиться с аналитической пропастью, разверзающейся при однозначном выборе между постфеноменологической оптикой места и постструктуралистской оптикой пространства. Как писала Д. Мэсси в статье, имеющей непосредственное отношение к центральной метафоре нашего проекта, траектории должны учитывать друг друга [Massey 2006]. Далее на примерах работ, составивших этот сборник, мы попробуем описать, как разрешались описанные выше интеллектуальные коллизии в нашей исследовательской работе.
– Ландшафт или среда? – Пусть будет ландшафт
О достоинствах «средовой» или «экологической» теоретической рамки сказано выше. Вместе с тем отказываться от ландшафтной оптики не хотелось бы тоже – хотя бы потому, что она по определению проблематизирует субъективно-перцептивную природу восприятия земной поверхности. У термина «ландшафт» два основных значения – «местность как таковая» и «внешний вид земной поверхности в данной местности», и фактически не ясно, какое из них основное. «Видимость» ландшафта – его фундаментальная черта. Работа «Провоцирующих ландшафтов», происходившая в формате частых экспедиций, периодической смены мест и информантов, но при этом укорененная в обыденности, не предполагавшая контрастного антропологического опыта, резкого разрыва с привычной исследователям средой, часто сталкивалась именно с проблемой «видимости». Используя феноменологический язык (лучшими, на наш взгляд, работами, выносящими феноменологический инструментарий за пределы профессионального философского дискурса и «переводящими» его на язык «обычной» социальной науки, являются работы Д. Симона и Э. Кейси [Seamon 1979; Casey 2009]), в поле нас окружала привычная «естественность восприятия» повседневного ландшафта, заставляющая принимать вещи как данность, не подозревая об их значении. Базовая феноменологическая операция – эпохе, или приостановка «естественного восприятия», – это то, чему, вероятно, исследователю повседневных ландшафтов нужно учиться в первую очередь. Указание на «повседневность» наблюдаемого ландшафта, которое встречает вас с самого начала этой книги, связано именно с этим тезисом. Чтобы начать видеть «повседневное», начать размышлять о нем, требуется специальное усилие.
Безусловно, в данном случае эпохе – скорее метафора, нежели действительная философская категория, однако само знание о возможности такой исследовательской операции действительно структурирует полевую работу, обычно происходящую на ходу, в постоянном общении, насыщенную характерным адреналином. Это не всегда хорошо. Иногда нужно остановиться и подумать. Замысел 11-й главы этой книги, посвященной деревенским пустырям, возник сильно post factum, при сопоставлении своих впечатлений, в том числе и зафиксированных в полевом дневнике, с данными диктофонных записей и хронометража путешествия. Существование «призраков», окружавших чужака, бродившего по сельской местности в компании местных, стало очевидно для него лишь спустя некоторое время, когда возможность поговорить о них с информантами была уже в прошлом. В похожей ситуации мы оказались, работая над главой 3, посвященной типичному облику и практикам использования сельских мечетей юга Тюменской области. При всей центральности, которую занимают эти места в жизненных историях конкретных деревень и сельских сообществ, они обладают способностью скрываться от посторонних, мимикрировать под обычную застройку. Авторам понадобился целый ряд операций по «расшифровке» языка этого важнейшего элемента сельского ландшафта региона. Близок этому подходу был опыт эстетической оценки термальных источников, проделанный Марией Гудковских в 8-й главе. Сходным образом в главе 2 К. Д. Бугров работает со специфической «вненаходимостью» советской индустриальной застройки городов Среднего Урала. Подобно огромным животным Африки, исторические индустриальные гиганты Урала хорошо прячутся в ландшафте и одновременно провоцируют любопытствующего на их поиски. Всем этим случаям оказалась свойственна техническая «акселерация наблюдательности» – работать с ландшафтом приходится не только непосредственно на земной поверхности, но и в привязанном к ней ландшафте навигационных карт, спутниковых снимков и баз данных. Картографируя в рабочем порядке видимые в ландшафте объекты, мы иногда обнаруживаем, что они являются индикаторами процессов, вряд ли различимых при непосредственном взгляде «изнутри» ландшафтной перспективы. В этом смысле особый интерес представляет 1-я глава, составленная А. В. Шелудковым и посвященная изменениям ночной освещенности городов, в окрестностях которых происходило большинство наших экспедиций. Увидеть эти изменения можно, только специальным образом обработав массив спутниковых фотографий, но, будучи нанесенными на карту, они исчерпывающим образом описывают меняющийся географический контекст, породивший большинство исследуемых в этой книге местных примеров.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе