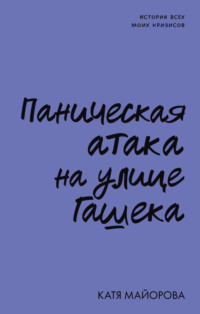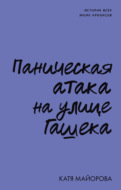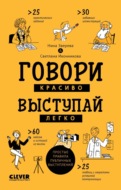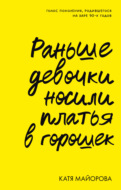Читать книгу: «Паническая атака на улице Гашека. История всех моих кризисов», страница 3
Несмотря на то что отношения с Розой отличались от отношений с Гулей, я тоже ей сказала, что дружбе пришел конец. Вот как это произошло. Мы решили поехать в Питер на несколько дней, и я рассказала Розе то, о чем говорить не следовало. Незадолго до нашей поездки мы часто проводили время в общей компании друзей, где также были мой муж и его близкий друг. И мужа, и друга раздражало, что Роза может что‐то сказать, не подумав. (Никого не напоминает? Позже мы еще поговорим об этом повторяющемся паттерне поведения подруг в моей жизни.) Например, рассказать одному человеку про другого, так что те в итоге могли бы обидеться или даже поссориться. Конечно, до этого не доходило, но такие ситуации повторялись, поэтому муж и его друг как‐то решили проучить Розу (не очень умно, но что сделано, то сделано): после очередной подобной истории они разыграли сценку – якобы сильно поссорились. Роза очень переживала, писала то одному, то другому, пыталась их помирить. Я обо всем знала, но почему‐то не придала этому особого значения. В моей голове это было похоже на какие‐то очередные приколы старших братьев, с которыми ты уже смирилась и просто махнула рукой. Думаю, свою роль сыграло еще и то, что у нас тогда сильно болела собака, а в такие моменты значимость многих событий притупляется.
Спустя почти год Роза продолжала из‐за этой ситуации переживать, мне стало ее жаль, и я рассказала, как все было на самом деле. Аккурат в нашу поездку в Питер. Умею подобрать удачный момент. Конечно, лучше бы я этого не делала. Роза назвала моего мужа и его друга козлами и мудаками, а на меня обиделась: как я могла об этом знать и молчать?!
Сделаю отступление от общего повествования: я очень сильно защищаю свою семью; может быть, подруга я так себе, но жена хорошая. И дело не в борщах и идеально выбритой зоне бикини, а в том, что люблю я безапелляционно. Не знаю, почему только среди мужчин принято говорить своим женщинам: «Я за тебя убью любого», – может, в ромкомах или боевиках это звучит романтично, но в реальности пошло. Я часто говорила супругу и в шутку, и всерьез: «Убью за тебя любого», «Никому не дам в обиду», – потому что я так чувствую, потому что понимаю, как люблю человека, как он мне важен и дорог, каким иногда он кажется уязвимым, нежным, трогательным (когда открывается мне) и как мне бывает страшно от мысли, что кто‐то может засунуть свои мерзкие грязные лапищи в чистое и искреннее пространство любимого человека. Мое окружение знает, что при мне даже заикаться не стоит о моих близких, тем более в критичном или около-критичном ключе. Поэтому, когда Роза назвала моего мужа козлом и мудаком, я дала ответную реакцию. Мы повздорили, но общение продолжили, хотя продлилось оно недолго: даже разговор о свежих булочках из пекарни заканчивался обсуждением мужа, его друга и их поступка. Я продолжала сохранять нейтралитет, понимая и Розу, и парней, подруге же хотелось, чтобы я непременно приняла чью‐то сторону, согласилась с тем, что они отрицательные персонажи, но я этого не делала. Закончилось все тем, что я предложила прекратить общение. Насовсем. Роза была в шоке, но я оказалась непреклонна. В конце она написала: «Спасибо за все, ты была мне другом». Я не ответила.
Когда это произошло, я почувствовала себя отвратительно. Было ощущение, будто я совершаю ошибку; не было облегчения, как с Гульнарой. Казалось, будто меня затянуло в трясину, точнее, я сама туда окунулась, по собственному желанию: никто не толкал, не настраивал и не науськивал. Мы не общались несколько месяцев. Было тяжело. Мне не хватало Розы, но при этом я злилась на нее: почему крайней в этой ситуации оказалась я? Почему я одна отдуваюсь за все? Почему я вхожу в положение всех: и подруги, и мужа, и друга, – но никто из них не входит в мое?
Внезапно Роза мне написала: поздравила с первым контрактом в издательстве. Я разозлилась. Казалось, будто злость за всю ситуацию в целом выплеснулась в тот момент на нее. Я спросила, зачем она это пишет, ведь мы уже решили, что больше не общаемся.
Она ответила, что просто хотела поддержать. А я не понимала ни тогда, ни сейчас, зачем писать, когда поставлена точка. Я из тех людей, которые, уходя, действительно уходят. И если я говорю: «Наше общение закончилось», «Я с вами больше не работаю», «Хорошего времяпрепровождения в блоке», – это необратимые процессы. И случай с Розой стал единственным в моей жизни, когда оборотное зелье все‐таки сработало. Тогда наш разговор ничем не закончился, и мы не общались еще несколько месяцев.
Я чувствовала, что перегнула палку – и с решением перестать общаться, и с тем, что просто не ответила Розе «спасибо», когда она меня поздравила. Почему я так поступила? Потому что перестать общаться казалось мне рабочим решением (ведь точно так же я поступила с Гульнарой, и это решило проблему), словно во мне не было прошивки разрешать конфликты как‐то иначе. Думаю, о себе давала знать ситуация с Могильниковой, которая стала для меня травмирующей: я ушла, но вернулась, и ничего из этого путного не вышло.
Шли месяцы – я не выдержала и написала Розе. Дословно сообщение не помню. Да и в мессенджерах ничего не сохранилось. Текст послания был примерно такого содержания: «Роза, привет! Думаю, о нашем последнем разговоре. Прости, что так отреагировала. Ты просто хотела поздравить меня. Пишу, чтобы извиниться». Роза ответила. Слово за слово, и почти сразу она предложила: «Кать, давай увидимся и поговорим нормально? Все эти мессенджеры только мешают правильно друг друга понимать». Я согласилась, и мы назначили время и место встречи. Мне была близка мысль Розы о том, что мессенджеры только препятствуют взаимопониманию. И даже не спасают эмодзи. Я задумалась: сколько в мире произошло ссор, потому что то или иное сообщение было прочитано неверно? Не так понята интонация или трактован смеющийся до слез смайлик (неясно, это насмешка, издевка или человек просто смеется)? После ряда случаев я поменяла свое отношение к любой переписке: я воспринимаю все только буквально, с тем единственным смыслом, который несет в себе то или иное послание. Иными словами, стараюсь не интерпретировать и не додумывать.
Я волновалась перед встречей, но зря. Роза меня увидела, улыбнулась, мы обнялись и начали наш трехчасовой разговор. В нем было все: и теплота дружеского общения, и обиды, и даже слезы. Мы обе чувствовали странность происходящего и обе понимали, что хотели бы вернуть дружбу, но не понимали как. Осадок остался у обеих.
Итогом встречи стало решение продолжить общение так, как получится. Я обещала ее больше не блокировать нигде (да, я ее везде заблокировала), а еще я наконец поняла, почему Роза была обижена на меня: ей было больно, что я, как подруга, не сказала сразу, что конфликт – выдумка и над ней глупо пошутили.
С того сложного разговора прошло уже два года, и мы до сих пор с Розой друзья. Уже не такие, как раньше, но оно и к лучшему – мы стали ближе. Ситуация помогла нам обеим вырасти. Может, мы не приняли позиций друг друга в конфликте, но однозначно поняли: я – что задело ее, она – что задело меня. Я поняла, что переставать общаться с людьми из‐за каких‐либо трудностей – это крайняя мера. Безусловно, иногда это именно то, что надо сделать, но раньше мне казалось, что если хоть что‐то задело мое эго, то «что‐то» надо скорее вырезать из жизни.
Отношения – это очень трудно. Если кто‐то мне скажет, что это не так, то либо человек слишком поверхностен, либо он просветленный, но, увы, первых я встречала чаще, чем вторых. Если точнее: вторых я не встречала. Столько оттенков, тонов и полутонов в каждой ситуации, каждом человеке, что нет никакой однозначности, о чем бы ни шла речь. Да и опоры никакой нет. Опираться на свои чувства? А если это не чувства, а проделки твоего эго? С эго вообще дела обстоят сложнее. Недавно у меня случился важный внутренний диалог: неужели моя вера в себя, моя уверенность во взглядах, убеждениях, в своей точке зрения настолько слаба, что какое‐либо вмешательство извне может ее поколебать? Мы живем в эпоху отстаивания личных границ, прав на собственную идентичность, свободу самовыражения, но иногда мне кажется, будто мы требуем от других что‐то разглядеть в нас, пытаемся заставить других видеть наши границы, подтверждать нашу идентичность, давать нам свободу выражать себя, когда все это на самом деле должно идти изнутри. Когда чужое поведение (если, конечно, это не откровенное насилие или криминал) ранит нас, не к себе ли мы должны обратиться в первую очередь? Не себя ли спросить: «Почему меня это задело? Да, меня обесценили, это некрасиво и неприятно, но ценю ли я сама свои чувства, мысли, поступки, раз чужое поведение вызывает такую реакцию?»
Все сложности с Гульнарой и Розой были, конечно, и про внешнее, но очень и про мое внутреннее. Я ранилась об их поведение, натыкалась на брошенные слова, вместо того чтобы задаться вопросом: «Почему меня это задело?» Как в школе глупые дети бойкотировали меня, будучи уверенными, что я причина их бед, так и я начала бойкотировать подруг, когда выросла, потому что мне наглядно показали, что это решение проблемы. Забавно лишь то, что при более близком рассмотрении понимаешь, что и проблемы‐то нет, а сплошные игры нашего эго. Возможны ли вообще человеческие отношения без них? Вопрос оставляю открытым.
Глава 3
«Сколько подруг у твоей мамы?»
У меня есть подруга Мелисса, с которой почти все наши переписки в «Телеграме» и беседы вживую похожи на сеанс психотерапии. Мы бесконечно делимся своими мыслями, чувствами – делаем это максимально экологично, через я-позицию: рефлексируем, даем обратную связь друг другу. Конечно, мы обе в терапии. И конечно же, все наши беседы и рефлексии сводятся к одним людям: нашим мамам. Более того, общаясь близко с Мелиссой, мы обнаружили, что в наших семьях есть нечто общее. Моя бабушка в советское время занимала руководящую должность, как и ее, они даже одного года рождения, а наши дедушки умерли в один и тот же 2020 год с разницей в несколько месяцев. Моя мама страдала в детстве от матери со строгим характером, как и мама Мелиссы. А еще в какой‐то момент мы заметили, что похожи на наших мам. Нет, не она на свою, а я на свою (что, безусловно, тоже справедливо), а она на мою, я на ее. Произошло это так: мы поругались, поспорили из‐за чего‐то, а когда успокоились и решили обсудить ситуацию, как взрослые люди, то поняли, что Мелиссу раздражают во мне те же качества, что раздражают в ее маме. Я же не могла принять в подруге того, что не принимала в своей маме. Мы вскоре забыли о конфликте, но это обстоятельство отложилось в моей голове и снова всплыло на поверхность, когда я в очередной раз рефлексировала с Мелиссой на тему того, что у меня нет друзей и чем я старше, тем их меньше. Подруга спросила меня:
– Кать, а сколько подруг у твоей мамы?
Я зависла, не зная, что ответить. Хотя, конечно, знала о том, сколько у моей мамы подруг. Ступор был из‐за непонимания, к чему этот вопрос.
– У нее много приятельниц, знакомых, но, наверное, близких подруг нет.
Мелисса выдвинула предположение, что, возможно, я повторяю мамину модель отношений: у меня ведь тоже много знакомых, приятелей, но близких друзей с каждым годом все меньше. В чем‐то подруга была права:
у меня, как и у мамы, черный пояс по самозащите и нападению в любой ситуации. Я, как и она, вижу попытки напасть там, где их нет, а следовательно, ухожу в защиту или нападение на раз-два. Все это, без сомнения, следствие боли, которую пришлось испытать в детстве, юности и которая нас сформировала, я бы даже сказала «слепила», потому что все это не о «форме», а о хаотичной, нервной, непропорциональной лепке. С возрастом я поняла свои защитные механизмы. От них уже не избавиться – только подружиться. Когда я прихожу в новую компанию и веду себя холодно и высокомерно, то понимаю, что это не я – это страх, что люди, которых я не знаю, причинят боль своими словами, поступками. Когда в споре с мужем я начинаю осуждать его, критиковать, я также понимаю, что это не я – это мой страх оказаться виноватой в конфликте, нежелание признать, что я тоже ответственна за дерьмовую ситуацию, в которой мы оказались.
Рассуждая о своих отношениях с подругами и с мамой, я поняла, что во всем этом действительно есть связь, но не только в том, что у нас с мамой одинаковые механизмы защиты, а еще и в том, что почти в каждой своей подруге я искала маму – и весьма успешно ее находила…
Нина училась со мной в параллели. Мы познакомились с ней в девятом классе, когда сдавали FLEX10. Нина была очень хорошей девочкой, но хорошей не потому, что это ее суть, а потому, что ее так воспитали. Мама у Нины была женщиной строгой. Работала репетитором по итальянскому, воспитывала дочь, муж был в постоянных длительных командировках, сын учился в Венецианской академии изящных искусств, что было особенной гордостью для матери, потому что она вложила всю себя в образование сына и его подготовку к обучению в Италии, а когда он вырос и уехал, то переключилась на дочь. Благо у детей большая разница в возрасте: закончив один «проект», мать смогла с головой окунуться в другой. С одной стороны, нет ничего плохого в том, когда родитель занимается ребенком (пожалуй, это то, чего была лишена я, так как росла предоставленная себе, пока родители пропадали на работе), с другой – когда жизнь полностью контролируется родителем, у ребенка появляется много внутренних противоречий: он хочет быть и хорошим (для родителя), и самим собой (для самого себя). В Нине это очень ощущалось, и ее внутренний конфликт часто просачивался наружу. Она стремилась быть отличницей (у нее это слабо получалось, но она безукоризненно строила из себя трудолюбивую интеллектуалку), не встречаться с мальчиками (которых у нее только за время нашей дружбы было пятеро), быть доброй, порядочной и благородной девочкой (что у нее тоже получалось так себе, потому что вся ее доброта часто оказывалась напускной). Иными словами, Нина была очень хорошей девочкой, но очень не по‐настоящему.
Я это, конечно же, чувствовала, и меня это дико бесило. Особенно когда Нина просила меня врать ее маме, что она поехала на дачу ко мне, а сама – к своему парню Артему лишаться девственности. С одной стороны, ну какое мое дело? Пусть живет как хочет. С другой – я очень не любила и не люблю двуличие. Как‐то преподавательница на журфаке сказала нам: «Лучше быть честной и порядочной проституткой, чем двуличной и лживой девственницей». Эта мысль очень резонирует во мне: я больше всего люблю людей честных, в первую очередь перед самими собой. Мама как‐то сказала мне, что я всех вывожу на чистую воду. Не скажу, что ставлю перед собой такую цель, но фальшь чувствую за версту, и порой необходимость озвучить увиденное сильнее моего понимания, что жизнь другого человека, как и его самообман, – лишь его дело.
Помимо того что меня бесило в Нине ее двуличие (в котором она, конечно, не была виновата – в эти рамки ее загнала семья), еще меня раздражал ее язык без костей. Она была из той касты, в которой, как говорит моя бабушка, мелют все что надо и не надо. Тогда, в пятнадцать-шестнадцать лет, я этого не понимала, но с годами осознала, что есть тип людей, у которых между мыслью и ее произнесением проходит рекордно маленькое количество времени. Иногда кажется, что они вообще перескакивают когнитивную стадию обдумывания фразы, а переходят сразу ко второй – ее озвучиванию. Когда я стала старше, то поняла, что обижаться на таких людей бесполезно, как и воспитывать их, как и говорить им, что их слова тебя обидели. Иногда они могут даже проявить эмпатию, извиниться, но их словесный пулемет не закончит свою очередь никогда. В худшем случае они начнут защищаться фразами типа «Я что, должна врать?» – тогда можно даже не продолжать разговор. Нине не было равных в навыке молоть что надо и что не надо.
«Ты что, рыбу ела на завтрак?» – спросила она меня в компании друзей. «Почему?» – удивилась я. «От тебя пахнет рыбой», – ответила она и засмеялась. Рыбу я, кстати, на завтрак не ела.
«Дима, у тебя такие синяки под глазами, будто тебя били несколько часов» – первое, что сказала Нина, когда познакомилась с моим будущим мужем (мы какое‐то время дружили после школы, и я пригласила ее на свадьбу).
«Ты что, опять потолстела?» – спросила она и, конечно же, засмеялась, когда мы прощались перед моим отъездом в Москву. Даже ее парень, тот самый Артем, лишивший подругу девственности, одернул ее: «Блин, Нина!»
Мне понадобилось много лет общения с разными подругами, чтобы понять, что в своей маме я не могла принять того же самого, что в Нине, Гульнаре, Розе и остальных. Конечно, у моей мамы не все так фатально, как у Нины, – мамин речевой пулемет работает не очередями, а редкими, но меткими выстрелами, долго и гулко свистящими по степи. Я всегда страшно обижалась на все, что мама говорила про то, как я выгляжу, во что одета, как себя веду. Мама моих обид не понимала, ведь в ее картине мира она была честна со мной, а это лучше, чем врать.
Я для себя до сих пор не решила, что лучше: когда человек честно говорит или нечестно молчит. Тем более новая этика диктует нам правила скорее нечестного молчания, нежели честного разговора. С одной стороны, ты сразу понимаешь, что человек думает, и делаешь свои выводы, с другой – насколько тебе нужна его правда? Если смотреть в контексте личных границ, то чужое мнение (непрошеное) касательно тебя и твоей внешности – вовсе грубое их нарушение.
Если взглянуть еще глубже, то неприятие своей мамы (особенно если ты девушка) – это в первую очередь неприятие себя. Мы все похожи на своих мам, хотим мы того или нет, – это данность. Чем я взрослее, тем чаще вижу маму в себе: в жестах, словах, порой даже в позах. Легко видеть, что у тебя такая же хорошая кожа, как у мамы, что ты хорошо водишь машину, как мама, что твои организаторские способности – это тоже мамино наследство. Куда сложнее признавать, что ты можешь быть такой же прямой и жесткой, как мать, такой же нарциссичной и чрезмерно прямолинейной. Когда ты слышишь, что твоя мама резко и прямо выражается, особенно в твой адрес, ты бесишься до трясучки, потому что не в состоянии себе признаться: «Черт возьми, да я веду себя так же!»
Я тоже довольно прямолинейна. Если люди из дальнего круга получают тактичную и вежливую обаяшку Катеньку, то из ближнего – прямую и жесткую Екатерину. Конечно, до Нины мне далеко: у меня проходит намного больше времени между возникновением в голове реплики и ее произнесением. Однако и в моем языке костей как в речной рыбе. Муж постоянно говорит мне, что я не сглаживаю углы – говорю людям все прямо, как есть. Нет, я не нарушаю чужих границ, но, если создается ситуация, в которой мне нужно высказать свое мнение, с наибольшей вероятностью я выражу его прямо, без смягчений и закруглений. Хорошо это или плохо? Ни то ни другое. Думаю, в этой черте характера есть как свои плюсы, так и минусы.
Чем выше был градус неприятия мамы, тем более сильная концентрация тех самых черт, с которыми особенно тяжело смириться, встречалась в моих подругах. Только с годами, терапией и просто жизненным опытом, когда я научилась принимать маму такой, какая она есть, отношения с подругами тоже стали более спокойными, без надрывов и перекосов. Как мне удалось смириться с маминой прямотой и жесткостью? На этот вопрос не ответить одним или двумя предложениями, потому что было много параллельных процессов, которые в конце чудом сошлись в одной точке. Если коротко, то я поняла, что: а) моя мама – обычный человек, обычная женщина, решившая стать матерью, у которой были и есть свои достоинства и недостатки; б) к родителям у нас априори завышенные требования, потому что первые годы жизни мы провели в осознании, что они боги, но они не боги (смотреть пункт «а»); в) однажды я задалась вопросом, действительно ли мама хочет меня ранить, обидеть, задеть? Думаю, нет. Да, меня ранило ее поведение, но она никогда не пыталась сознательно причинить мне боль, я это точно знаю.
Уверена, Нина тоже не пыталась сознательно меня обидеть, но в те годы я этого понять не могла. Я и сейчас не адепт того, чтобы прощать людям насильственное общение. Вряд ли я промолчу, если мне нахамят, дадут непрошеный совет или ляпнут какую‐то глупость, но сейчас у меня хорошо настроены фильтры: что я пропускаю внутрь себя, а что нет, о чем я буду переживать, а о чем точно не буду. Поэтому если я понимаю, что человек говорит глупости не от злости, то скорее я просто не придам этому никакого значения. Принятие лучше, чем бесконечная война, – к без малого тридцати годам я это уяснила.
Продолжая общаться с Мелиссой, я часто замечаю ее сходство с моей мамой, но сейчас меня это никак не задевает. Почему‐то фразы вроде «он искал в каждой женщине свою мать» воспринимаются негативно, ведь они дают понять, что поиски пронизаны болью из‐за постоянного несоответствия женщин образу матери. Не могу согласиться. Видеть в друзьях своих родных не обязательно больно. Все это в первую очередь раскрывает нас самих. Ни Нина, ни Мелисса не имеют никакого отношения к моей маме, а я по понятной только мне причине вижу в них ее. И только в моих силах сделать так, чтобы не искать в окружающих родителей, а находить в них друзей и подруг.
Жизнь Нины сложилась примерно так же, как у Могильниковой: семья, муж, дети, счастливые фото в «Инстаграме». По моим ощущениям, она осталась той же хорошей девочкой, которой ее всегда хотела видеть мама. Что, конечно же, только ее дело. Но, как и в случае с Дашей, надеюсь, что, когда она остается наедине с собой, ей удается выстроить честный внутренний диалог. Все остальное не так уж важно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе