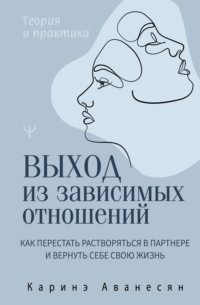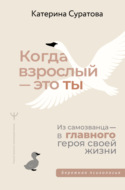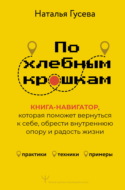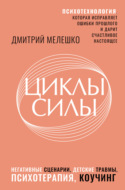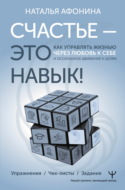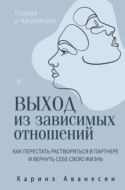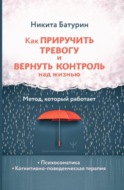Читать книгу: «Выход из зависимых отношений. Как перестать растворяться в партнере и вернуть себе свою жизнь. Теория и практика», страница 2
Из поколения в поколение
Помимо причин, описанных выше, нельзя игнорировать культурный код и исторический контекст. Не будем уходить в дебри и копать до седьмого колена, рассмотрим историю последних 100 лет, которые оказали колоссальное влияние на формирование травмы зависимости у множества людей.
Расскажу вам историю моей семьи. В моем детстве мама была холодной и функциональной. Она заботилась обо мне, одевала, кормила, поила, водила на кружки. Все это было, но чувствовалось, что я для нее в тягость. Я не могу вспомнить, чтобы она меня обнимала или смотрела на меня с любовью. На контрасте с папой, который любил меня открыто и очевидно, холодное отношение мамы особенно было заметно. В детстве я страдала от этого, и мне, как и многим детям холодных матерей, приходили в голову разные идеи вроде: «А может, меня удочерили», «А может, меня родила другая женщина, а это моя ненастоящая мама, вот почему она меня не любит». Мозг всегда стремится упорядочить хаос, и детская психика – не исключение. Вот почему нам всегда так хочется узнать причины нашего и чужого поведения. Чем старше я становилась, тем меньше меня интересовала любовь мамы, мы стали совсем далеки. Думаю, что я обесценила ее для себя и перестала в ней нуждаться, чтобы не травмироваться об ее «холод» еще больше. К слову, моя мама не общалась со своей мамой: они не были в ссоре, просто между ними не было контакта.
Когда я повзрослела, я сделала генеалогическое древо, мне было необходимо узнать про всех предков, которых помнит бабушка. Я попросила ее рассказать о ее родителях. Бабушка родилась в 1941 году, в тот год ее папа ушел на фронт и больше не вернулся. Оказывается, бабушка была одной из двойняшек – вместе с ней родился ее брат Лёва, который, к сожалению, умер, когда ему было три года. Бабушка сказала, что мать ее не любила.
А теперь давайте на секунду поставим себя на место моей прабабушки.
1941 год, она молодая девушка, недавно вышла замуж за любимого парня. Начинается страшная война. Муж уходит на фронт и не возвращается. Она овдовела. Она оказывается одна и беременна. К моменту рождения детей, полагаю, она находится в проживании горя и глубокой депрессии, как и большинство женщин того времени. Способна ли мама дать детям любовь, когда она находится в горевании от потери любимого, живя в страшных условиях войны? Она способна дать функцию матери – обеспечить еду и воспитать, но там нет чувства любви, и ее нельзя в этом винить. Она находится в травмированном состоянии. Через три года умирает ее сын. Это еще одна тяжелая травма.
Порой психика, защищая человека от тяжелых чувств, которые могут его сломать, как бы «замораживает» человека: он перестает чувствовать тяжелое, но и хорошее он тоже не чувствует, в том числе любовь. Я думаю, это произошло с моей прабабушкой. Она воспитала бабушку, но без теплоты. Моя бабушка с детства травмированный ребенок, потому что она не чувствовала любви.
Вопрос: может ли она воспитать в любви своих детей? Нет. Моя бабушка только в теории, только в смутном представлении знала, что такое любовь матери к детям. Она воспитала своих детей так же, как воспитали ее. Моя мама с детства росла в холоде, она травмированный человек.
Можно ли винить мою маму в этом? Когда понимаешь контекст, историю своего рода, когда узнаешь судьбы этих людей, становится очевидно – нет.
Это и называется «из поколения в поколение». Травмированный человек наносит травмы тем, кто рядом.
Повторюсь, мы не ищем виноватых, мы просто вводим исторический контекст для понимания причин зависимого поведения.
Встает еще один вопрос: если есть три поколения холодных матерей и они вырастили три поколения зависимых детей, можно ли выйти из замкнутого круга? Да, можно! Сейчас нам доступны книги и терапия. Я надеюсь, что и эта книга поможет вам выйти из эмоциональной зависимости. К сожалению, у наших мам, бабушек, а тем более прабабушек не было доступа к подобной информации, да и психология была совсем молодой наукой.
Так что в этом смысле мы с вами счастливчики.
Дисфункциональная семья
Зависимость называют семейной болезнью, а зависимого – симптомом семьи1. Эта терминология используется аддиктологами2 при описании семей, где есть люди, зависимые от химических веществ, но природа формирования личности зависимого от наркотиков, секса, игр или эмоций – одна. Семье, в которой развивается зависимость, присущи определенные характеристики, которые в конечном счете и приводят к развитию зависимости у кого-то из членов семьи. Такие семьи называют дисфункциональными. Их признаки:
1. Нарушенная коммуникация – не прямое общение, а опосредованное, например, через ребенка. Мама с папой не говорят друг с другом, ребенок передает информацию от одного к другому.
2. Запрет на выражение чувств. Например, фраза: «Не смей плакать». Или в виде насмешки: «Ты что, плачешь?!»
3. Нереалистичные ожидания от детей.
4. Любовь не безусловная, а чрезмерно условная.
5. Игнорирование проблем – все в семье делают вид, что все в порядке и ничего не происходит.
6. Нарушенные границы – либо слишком жесткие, либо слишком размытые. Жесткие границы – это изоляция. Ребенок не может поделиться своими переживаниями с мамой, потому что маме и так грустно из-за того, что папа пьет. Получается, что ребенок изолируется и, по сути, перестает быть ребенком. Размытые границы – это ситуация наоборот. Ребенок полностью вовлечен в проблемы мамы и папы, он утешает маму, выслушивает ее, защищает. Таким образом, он опять же перестает быть ребенком.
7. Правила в семье все время меняются, их невозможно соблюдать.
8. Члены семьи неспособны разрешать конфликты.
Разумеется, признаков дисфункциональной семьи намного больше: это и неуважение, и насилие, и зависимость одного из членов семьи, и выделение одного из детей, и обесценивание другого. Дисфункиональная семья – безусловно, токсичная среда, но, как любая система, эта семья стремится сохранить положение дел таким, какое оно есть. Все боятся изменений, и семейные системы всегда стремятся к гомеостазу3. Именно поэтому мама не уходит от папы, который ее бьет.
То, в какой семье вы воспитывались, имеет колоссальное значение, потому что именно в семье мы учимся взаимодействию с близкими. И наши будущие отношения с партнером – это тоже «закладка» из детства и семейной системы.
Реконструкция травмы
Повторение или реконструкция травмы – тенденция, к которой стремится психика во взрослом возрасте с подсознательной целью – надеждой разрешить эту травму. Иными словами, человек неосознанно стремится реконструировать травму из детства и попытаться «выиграть». Вот почему часто тот, у кого была холодная отвергающая мать, находит такого же холодного отвергающего партнера. Или ребенок алкоголика нередко вырастает и находит себе партнера, который тоже зависим. «Если я не смог спасти отца, то мне удастся спасти тебя» или «Если мне не удалось заставить маму полюбить меня, то мне удастся сделать это с ее копией».
Фрейд называл это «принуждение к повторению».
Хочу рассказать вам историю моей хорошей подруги, которую я знаю с детства. Наши родители дружили, поэтому мы проводили много времени вместе, ходили друг к другу в гости, ездили вместе в отпуск. Она с детства была красивая, веселая, смышленая – ребенок, который нравится всем и у всех вызывает улыбку. Ее папа был, что называется, «душой компании». Он был очень яркий, веселый, успешный, чувствовалось, что у него какая-то сильная, необычная энергетика. Он просто души не чаял в моей подруге. Он всегда хвалил ее, восхищался, просил ее рассказать какой-нибудь стишок для всех, аплодировал ей, говорил, какая она талантливая. И ровно через пять минут он ни с того ни с сего становился строгим, подкалывал ее, унижал при всех, заставлял плакать.
Я помню, как у нее был день рождения и родители заказали торт невероятной красоты. Она визжала от восторга, и все дети прыгали от счастья, но когда торт вынесли и она задула свечи, отец поцеловал ее и сказал: «Как жаль, что все смогут попробовать торт, а ты нет, ведь ты и так уже выглядишь, как пампушка». Он сказал это громко, все дети хохотали, а моя подруга еле сдерживала слезы. Разумеется, настроение девочки было испорчено, и пока все дети веселились и ели торт, она сидела за столом и грустила. Ее папа подошел к ней и сказал: «Я прошу тебя, съешь торт, мы заказали его специально для тебя. Я тебя очень люблю, ну съешь торт». Дальше он стал использовать такую уловку: «Если ты меня любишь, то съешь кусочек торта, ну доченька». В итоге он ее развеселил, они оба рассмеялись, обнялись, она перестала грустить и съела кусочек торта. Когда она его доела, ее папа во всеуслышание сказал: «Вот умница, теперь твои щечки стали еще больше, не знаю, как ты выйдешь из ресторана, ведь ты не поместишься в проход».
Все дети снова захохотали, папа наслаждался своей «веселой» шуткой и тем, что он в центре внимания, а моя подруга ненавидела свой день рождения, себя, торт, папу, гостей и все вокруг.
Сейчас, став психологом, я понимаю, что ее отец был типичным нарциссом. Любил ли он дочь? Да, очень. Обесценивал и унижал ли он ее? Да, постоянно. Моя подруга по десять раз на дню проходила классический цикл любви нарцисса: возвеличивание – обесценивание. Он восхищался ею, а через пять минут унижал прилюдно, хвалил ее, а через мгновенье говорил: «А помнишь, как ты в третьем классе на физкультуре написала в штаны?»
Это было больше двадцати лет назад, сейчас моя подруга красивая, успешная девушка тридцати пяти лет. Ей оказывают много внимания, несколько раз достойные, надежные мужчины предлагали ей выйти замуж. Они получили отказ. Моя дорогая подруга выбирает других мужчин. Тех, которые приносят в ее жизнь хаос, которые сегодня любят, а завтра – неизвестно. Все ее отношения – это качели, американские горки, игра в «горячо – холодно». Все ее мужчины – загадочные, меняющие свое настроение, то теплые, то ледяные персонажи. Наслаждается ли она в этих отношениях? Нет, она все время страдает. Эти качели выматывают. Неуверенность в партнере, неизвестность насчет будущего с мужчиной, неоднозначность его чувств к ней – все это высасывает из нее силы. Но дело в том, что она не может по-другому. Когда она заставляет себя обратить внимание на надежного партнера, ей буквально сразу же становится скучно, хочется выть и бежать от него как можно дальше. Вы уже догадались, в чем здесь дело?
Когда личность моей подруги развивалась, ее отец – та среда, тот фон, в котором она росла, – сформировал ее психику. Она жила в хаосе, в доме, где ее то любят и обожествляют, то сталкивают с пьедестала на пол, от чего она травмируется и страдает. Когда мужчина не создает ей подобных переживаний, не качает ее из стороны в сторону, она чувствует пустоту, которую необходимо заполнить. Вот откуда желание бежать из спокойных и ровных отношений. Здоровые отношения для нее скучные и пустые. А в невротических отношениях ей все знакомо, но их нельзя назвать счастливыми. Вот и получается, что плохо и там, и здесь.
Реконструируя свою травму, то есть отношения с отцом, моя подруга возвращает себе привычное ощущение из детства. Ведь в детстве в какой-то момент для нее это стало нормой.
А если подобные переживания сочетаются с событиями, которые вызвали эмоциональный всплеск – травму (например, ребенок видел насилие или насилие применялось по отношению к нему), то в кровь поступал нейрохимический коктейль, состоящий из убойных доз кортизола и адреналина.
Биохимическая зависимость
Человеческий организм содержит в себе множество систем, поддерживающих жизнедеятельность: пищеварительную, мочевыделительную, половую, эндокринную и нервную. Нас интересует нервная система, потому что в том, как она устроена, есть ключ к пониманию того, почему же нас тянет в отношения с неподходящими нам людьми.
Если упростить, то нервная система дает команды на выработку гормонов.
Гормоны (от греческого «возбуждаю», «привожу в действие») – это биологически активные вещества, которые вырабатывает наш организм под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Их можно разделить на две категории.
Гормоны «+» спектра
Дофамин – вырабатывается, когда мы делаем что-то полезное, нужное, когда мы достигаем цели. Это предвкушение удовольствия и ожидание вознаграждения. Это стимул для поиска возможностей в преодолении препятствий.
Эндорфин – его называют гормоном счастья, он отвечает за хорошее настроение. Это все, что касается смеха, радости, легкости, эйфории. Его уровень увеличивается, когда мы целуем или обнимаем близких.
Серотонин – и это тоже гормон счастья, его выброс в кровь дарит нам прекрасное расположение духа, помогает бороться со стрессами, дает ощущение значимости и уважения со стороны окружающих.
Окситоцин – гормон нежности и привязанности, это про безопасность и комфорт. Именно он отвечает за любовь, благодаря окситоцину мы испытываем доверие. Он также отвечает за любовь матери к ребенку.
Гормоны «—» спектра
К ним относятся адреналин и кортизол, их еще называют «гормоны стресса». Безусловно, эти гормоны необходимы человеку, ведь если все время только радоваться, можно проморгать приближающуюся опасность и погибнуть. Адреналин и кортизол необходимы для выживания, это гормоны, которые мобилизуют нас, их выработка происходит в те моменты, когда мы чувствуем опасность, когда организму нужно «приготовиться». Адреналин заставляет наше сердце биться чаще, повышает кровяное давление и переводит организм в режим боевой готовности. «Мы в опасности, приготовься бежать», – говорит адреналин.
Перенесемся в наше любимое детство. Мой клиент рассказывал мне, что по стуку маминых каблуков и по тому, как поворачивается ключ в замочной скважине, мог определить, в каком настроении она возвращается домой. Если мама шла спокойно, не шумела ключами, это означало, что сегодня дома будет хороший и тихий вечер. Если же она цокала каблуками, долго искала ключи и открывала дверь резко, это означало, что сегодня мама не в духе, и мой клиент, будучи маленьким мальчиком, понимал, что ему и его брату не поздоровится. Мама никогда не била их, но когда она бывала в плохом настроении, то относилась совершенно безразлично, игнорируя любые вопросы и обращения. Либо мама пускалась в многочасовые крики, а затем слезы, сопровождающиеся словами о том, как сильно она устала от жизни. Каждый вечер, когда они ждали маму с работы, они уже были напряжены. Ведь когда ты ожидаешь угрозу, организм мобилизуется. То есть в кровь поступают кортизол и адреналин. В момент ожидания, когда они прислушивались к ее походке, к тому, как она открывает дверь, – уже происходил взлет кортизола и адреналина в крови. И неважно, в каком настроении в итоге приходила их мать, сам момент ожидания угрозы провоцировал выработку гормонов.
А теперь давайте немного займемся математикой. Летом мальчики уезжали к бабушке на два месяца, все остальное время они жили с мамой. То есть в среднем 300 дней в году они проводили с ней, ожидая ее по вечерам и угадывая, что же ждет их сегодня – крики или наказание молчанием. В среднем триста дней в году в их кровь впрыскивался адреналин и кортизол. На протяжении многих лет.
Разумеется, к моменту совершеннолетия высокий уровень кортизола и адреналина в крови уже стал для них обоих нормой. Чувство постоянной тревоги, чувство небезопасности и ожидания неприятностей вошло в привычку. Поэтому, когда они оба уехали учиться в другой город подальше от мамы и практически прекратили контакты с ней, это не дало никаких значимых изменений с точки зрения биохимии. Ведь за пятнадцать лет каждодневного вливания в кровь кортизола и адреналина нервная система просто привыкла так работать. Поэтому, когда мама была уже далеко и вне зоны видимости, для них ничего не изменилось, они продолжили жить в кортизоловом плену.
Как это выглядит в реальности? Человек, привыкший к тревоге, биохимически зависимый от всплесков гормонов стресса, попадая в безопасную среду, чувствует себя некомфортно. Да, на уровне ума все мы мечтаем об одном – жить в любви, счастье и благополучии, но дело в том, что человек устроен намного сложнее. Нервную систему не выкинуть из этого уравнения. Когда мальчики повзрослели, уехали подальше от мамы и, казалось бы, освободились от тревог, что они стали делать? Они стали искать людей, которые смогут обеспечить им привычный уровень стресса.
Если в детстве ребенок живет в атмосфере эмоционального насилия, то его организм привыкает к постоянно повышенному уровню кортизола и адреналина в крови. Когда этот ребенок вырастает, он испытывает более сильное влечение и привязанность к партнерам, которые смогут поддерживать и генерировать в нем тот же уровень тревоги, который он испытывал в детстве.
Это называется биохимическое влечение. Когда человек, к которому сначала возникла привязанность и устойчивое чувство, начинает вести себя непредсказуемо, становится то холодным, то безразличным, совершает поступки, которые заставляют злиться, тревожиться или пугаться, – у личности, пережившей подобное в детстве, возникает связь с этим человеком на биохимическом уровне.
Такая личность подсознательно настроена на поиск эмоционального насилия, потому что это знакомо. Представьте, что вы путешествуете где-то на лайнере, и вдруг этот лайнер врезается в айсберг – всем знакомая история. Все в панике, нужно эвакуироваться в шлюпки, люди кричат, плачут, возникает хаос. Вдруг вы видите шлюпку, рядом с которой стоит группа русскоговорящих людей, таких же, как вы. Я вам скажу, что 99 % людей на нашем месте (то есть русскоговорящих) побегут к этой шлюпке. И совсем не важно, нравятся вам соотечественники или нет, знаете вы другие языки или нет – так просто безопаснее. Этот язык вам знаком. Мозг сразу выберет безопасность. Это совсем не значит, что русскоговорящие люди самые лучшие на этом лайнере или что с ними действительно будет безопасно – нет, это вообще не про это. Это про то, что наш родной язык подсознательно воспринимается нами как безопасный.
Поэтому, если в детстве человек жил в среде эмоционального насилия, холода, тревоги – это его язык любви. И неважно, плохо это или хорошо, действительно безопасно или нет – мозг стремится к привычному. К сожалению, привычное не значит хорошее.
А вот состояние мира, безопасности и любви – вопреки тому, что все мы его ищем, воспринимается как нечто непривычное, а значит – небезопасное. И это, в свою очередь, означает, что личность будет избегать его как чего-то сложного и неприятного.
Давайте вернемся к моему клиенту. Сейчас ему тридцать шесть лет, на нашей первой встрече он рассказал, что хочет семью, поделился, что в будущей избраннице ищет спокойствие, уважение, семейственность, сказал, что не против и даже за, если у девушки уже есть ребенок – значит, она точно готова к семье и любит детей. У него напряженная работа, и он видит свою будущую семью как островок безопасности. Через несколько встреч он решился рассказать правду о его личной жизни.
Какое-то время назад они с друзьями ходили в стриптиз-клуб, где он познакомился с девушкой, которая там работала. Назовем ее А. А. запала ему в душу, он стал приходить в клуб несколько раз в неделю, чтобы пообщаться с ней. Узнал, что она из маленького городка, ее воспитывала одна мама, которая на себе тянет еще двоих сыновей, и А. работает, потому что хочет получить образование – это ее мечта. Мой клиент решил спасти ее. Он оплатил ей обучение, предложил встречаться, снял для нее квартиру, ухаживал. У них завязались отношения, но она продолжала работать в клубе. Тогда он предложил переехать к нему, оставить работу, обещал обеспечивать – она согласилась. Он был счастлив, по уши влюблен, у них были прекрасные отношения. Так продолжалось где-то два месяца, потом А. все чаще стала ночевать у подруги, уезжала навестить маму на несколько дней, пропускала университет и в целом была достаточно холодна.
Опустим детали, чтобы не делать историю слишком длинной. В итоге он узнал, что она снова работает в клубе. Его метало из стороны в сторону: он кричал о расставании и предательстве, потом решил, что ей не хватает денег и она работает из нужды, но друзья напомнили, что он платит за университет, квартиру, еду и дает деньги на расходы. Они разъехались, он очень страдал и скучал. Через три недели они снова сошлись, но он выдвинул условие – она не должна возвращаться в клуб, никаких ночевок у подруг, и если вдруг ей не будет хватать денег – надо сказать ему прямо, и он решит этот вопрос. Так счастье вновь вернулась в его сердце, и все было прекрасно ровно пять недель. Потом она перестала ночевать дома и вернулась в клуб. Он чувствовал себя преданным и сказал выметаться – мол, пусть катится на свой шест, там ей и место. А. не долго спорила, собрала вещи, уехала обратно к подруге.
Мой клиент провел несколько недель в разных чувствах: злость, отрицание, обида, разочарование, тревога, разрушение мечты, скучание. В общем, через месяц он сделал ей предложение. А. была счастлива, они оба были счастливы. Снова съехались, теперь она была в статусе невесты. Так они провели два счастливых месяца. Стоит ли мне писать, что история повторилась вновь?
Мы не будем разбирать причины поведения А., это не предмет нашего анализа. Но прошу вас обратить внимание на то, что говорил мне клиент: какую семью он хочет, что для него дом и как это расходится с реальностью его личной жизни. Он не обманывал, он действительно думает, что хочет спокойствия, любви, прозрачности и безопасности в отношениях. Это то, что он хочет из ума.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе