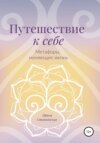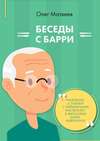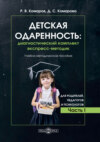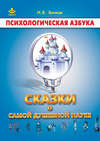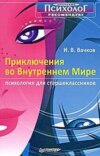Читать книгу: «Сказкотерапия и метафора. Искусство трансформации», страница 2
Видимо, стоит согласиться с точкой зрения А. Е. Наговицына и В. И. Пономаревой относительно того, что наряду с собственно сказками можно выделить сказочные повести или романы, которые и могут содержать в себе ряд сказок43.
Достоверно известно, что слово «сказка» с давних времен использовалось не в книжной, а в живой разговорной речи. Долгое время сказки не записывались, чаще они передавались из уст в уста как поучения и уроки. Уроки, например, о том, как приумножать богатства, как охотиться, как поступать в той или иной ситуации. Рассказывались такие сказки преимущественно в кругу мужчин: старейшина повествовал тем, кто готовился к инициации (переходу с одного уровня поведения и знания на другой, более зрелый). Мужская инициация предполагала становление мужчины как охотника, воина, добытчика. Часто мальчиков отводили в лес, в котором они должны были выживать. Это была проверка подрастающих ребят на мужественность. Существует множество сказок о том, как отец отводит своего сына в густой лес, но тот благодаря находчивости и изобретательности (делает зарубки на деревьях, рассыпает пепел на пути и т. п.) спасается. Подобный сюжет мы можем обнаружить в сказке «Мальчик с пальчик». У некоторых народов мальчики от 9 до 15 лет изгонялись из семьи, отправлялись в лес (в сказках порой заколдованный), где жили несколько месяцев, иногда год и более, отрезанные от своей деревни. Долгое время они проводили около костра под открытым небом, готовя себе скудную пищу. Иногда они находились не в лесу, а в специальном месте, окруженном непроходимой изгородью или терновником. Занимались охотой, разбоем, турнирами, переодевались (а в сказке – и превращались) в лесных зверей. Порой с ними находился жрец или учитель, наставляющий их в трудных обрядах посвящения. Это мог быть и добрый покровитель44. По истечении времени за теми, кто выжил, приходили, возвращали в племя, а затем проводился зрелищный обряд инициации мужчины.
Взрослые женские сказки также предполагали обряды инициации, но они во многом с течением времени, передаваясь из уст в уста, были существенно видоизменены. Это сказки, в которых рассказывалось о половой жизни, любви, деторождении, трансформации, женских таинствах. Такие сказки видоизменялись, особенно в Средневековье, в силу их «порочности».
Известный психоаналитик, философ и рассказчица К. Эстес долгое время, путешествуя по всей территории Америки, побывав в Италии, Польше, Мексике и других странах, искала первозданные сказки. Она выслушивала эти истории в естественных условиях: за кухонными столами, в виноградных беседках, курятниках, сараях, ночью под звездами в домах без крыш. Это были именно те сказки, которые возвращали женщин к их инстинктивной душе и их связи с дикой природой. Сегодня эти древние устные истории уже записаны, и мы можем ознакомиться с ними, например, в книге «Бегущая с волками»45.
После довольно длительного устного периода жизни сказок появляется лубочная литература с яркими картинками, которая является мостом между устной и книжной сказкой. По данным Н. Сахарова46, печатные издания сказок начали появляться только в XVIII веке, рукописные несколько раньше – в XVII веке. Н. Сахаровым была проделана огромная работа по поиску и систематизации русских народных сказок. По его данным, одними из первых печатных книг со сказками были «Сказки с картинками, или Лубочные издания: Эзоповы притчи», «Сказка о утке с золотыми яичками»; «Сказка о Силе царевича и о Ивашке-белой рубашке» и др. (1717). Далее к более поздним изданиям относятся: «Старинные диковинки, или Приключения Славянских князей», 1775; «Бабушкины сказки», 1778; «Сова, ночная птица, повествующая Русские сказки, из былей составленные», 1779, и т. д. Многие печатные издания сказок были уничтожены в войне 1812 года.
Именно лубочная литература поддержала сказочные традиции. По данным Н. П. Андреева47, в 70-х годах XVIII века тиражи некоторых лубочных изданий доходят до 250 тысяч экземпляров, среди них, конечно, и сказки. Но сказка еще долгое время оставалась устной, «сказкой из природы», которая особенно ценилась ее собирателями. Появление сказок «из книги» расширяет пространство их распространения и несколько видоизменяет сказку.
А. Н. Афанасьев наделял сказку характеристиками эпической поэзии: «тот же светлый и спокойный тон; то же неподражаемое искусство живописать всякий предмет и всякое явление по впечатлению, ими производимому на душу человека; та же обрядность, высказывающаяся в повторении обычных эпитетов, выражений и целых описаний и сцен»48. В ходе сказочного действия и там, где это необходимо, метко сказанное и удачно обрисованное постоянно повторяется при помощи одних и тех же оборотов речи. Сказки начинаются и заканчиваются устойчивыми фразами: «Жили-были…»; «В некотором царстве…»; «Жили они долго и счастливо…»; «…я там был, мед, пиво пил…» и т. п. Прослеживаются и некоторые часто повторяющиеся мотивы (мотив несчастного героя, изгнанного короля, противоборствующих родственников).
С одной стороны, возникает ощущение однообразия, а с другой – это восполняется неподдельной красотой языка, искренностью и чистотой, в сказке отражается духовный облик времени, который мы и сегодня можем постичь.
В сказках описываются состояния героя/героев, изменения этих состояний в результате успешного преодоления трудностей; сюжет развивается линейно, присутствуют элементы волшебства и морализаторства. Как правило, в сказках существуют две противоположные реальности: реальность «добрая» и «злая»; реальность «правды» и «кривды». При этом народная сказка часто на стороне слабого и беззащитного, на стороне нравственности, сострадательности, честности, трудолюбия, сообразительности.
Ценность сказки и в том, что она вырабатывает определенные типы фактических событий, которые могут быть легко перенесены на другие материалы (гимны, саги, песни) и, преобразованные при помощи последних, переданы по наследству дальше. С течением времени из запаса форм типичных событий и простых фраз получалось целое богатство, постоянно возраставшее и привлекавшее внимание не одного поколения.
Нельзя отрицать огромного значения сказок и для детей. Считается, что именно воспитание при помощи сказки (т. е. косвенное) может привести ребенка «от созерцания чувственного к созерцанию внутреннего мира»49.
Дискуссируя с Э. Руссо относительно вредоносности сказок для детей в силу их ложности и двусмысленности, Ф. Э. Бенеке пишет о том, что «голая истина недоступна ребенку, ему понятна истина чувственных образов»50. При сообщении ребенку образов из духовного мира, подготавливающих его к пониманию того, что вообще происходит в жизни, в сказках выражаются те самые известные общие житейские истины. Ребенок близок к природе, и в его представлении окружающий мир такой же живой, каким он был когда-то в представлениях древних людей. Именно поэтому маленьким детям так понятны сказки, кажущиеся нам, взрослым, жестокими и ужасными. Мы, взрослые, понимаем события в таких сказках буквально, а ребенок – символически, отдаваясь глубокой философии и психологии сказок.
Возможно, поэтому взрослые, отдалившись от природы, от своего естества, постоянно устраивают дискуссии о целесообразности сказок для детей. Так, еще в позапрошлом веке Михаил Борисович Чистяков51, известный российский педагог и писатель, современник Ф. И. Буслаева и А. Д. Галахова, подмечал, что, с одной стороны, в сказках жизнь представляется в извращенном виде и они способны порождать «безобразные» суеверия, влияющие на ум и характер ребенка, порождать «непреодолимую робость» перед враждебным миром. С другой – в них много «младенческого простосердечия, патриархальной простоты и лесной свежести», а потому хорошие чувства в ребенке можно пробудить только сказкой. Ученик и последователь А. А. Потебни Д. Н. Овсянико-Куликовский говорил о том, что простые сказки простых людей создают пространство доброты вокруг ребенка: «Сказка – это моральный дар»52.
Уже из этого небольшого перечня мнений о целесообразности сказок в детском воспитании видно, что они крайне противоречивы. На Втором Всероссийском съезде педагогической психологии, прошедшем в 1909 году, также развернулась бурная дискуссия относительно использования сказок для детей. На одной из секций съезда был заслушан доклад Ц. П. Балталона53 «Экспериментальное исследование классного чтения», в котором были проанализированы данные опроса впечатляющего количества детей начальной и средней школы: 1600 (!) в возрасте от 8 до 15 лет. Согласно научным результатам Ц. П. Балталона, было установлено, что дети любят длинные законченные рассказы о людях и детях, мало интересуются стихами, еще менее баснями, высоко ценят изображение правды и крайне низко – фантастические сказки. Докладчика поддержал А. И. Зачиняев54, который отметил, что сказки действительно не имеют образовательного начала, а тем более воспитательного. «Что хорошего в том, что один убивает другого, обманывает, видит счастье в золоте и в царской дочери и т. д.!» Сказочные элементы, искажающие правильное представление о жизни человека и природы, особенно ужасные, чудовищные и болезненные, безусловно, вредны с воспитательной точки зрения, – высказал свое мнение, видимо, сразу родившийся взрослым ученый.
С ними не согласилось большинство участников данной секции. Так, Г. Соловьева на примере личного опыта библиотекаря утверждала, что охотнее всего дети берут в библиотеке и читают именно сказки, что противоречит исследованию Ц. П. Балталона. Сказки вовсе не являются отжившим материалом, это та ступень, которую уже прошли все взрослые, но детям она необходима. Мы не можем лишить их сказки! С. И. Любомудров, А. П. Нечаев, Я. И. Душечкин поддержали Г. Соловьеву и указали на недостаточную корректность в постановке вопросов и поспешность, поверхностность выводов представленного экспериментального исследования. Говорилось о том, что нельзя сказки противопоставлять правде, так как в них своя, внутренняя правда; подчеркивалось воспитательное значение сказки, ее влияние на развитие мышления, эмоциональной и нравственной сфер. В резолюции было справедливо подмечено, что исследования интереса к сказкам должны лечь в основу целенаправленного воспитания детей, а оно (воспитание) в свою очередь должно быть преобразовано на началах, вытекающих из научного изучения детской природы.
Ближе всего к изучению детской природы подошла глубинная психология55, которая связала интерес к сказкам с проявлением детских инстинктивных желаний, а потому для понимания этих желаний важно изучать само содержание сказки. Несмотря на то что сюжет народных сказок часто бывает далек от реальной жизни и они так похожи одна на другую, интерес детей всех времен и народов к ним сохраняется. Так, при анализе сказок «Золушка» и «Гадкий утенок» Дж. Грин56 выводит общую их идею: несуразное существо преследуют другие, но оно в конце концов оказывается более достойным и прекрасным, чем его мучители. Данная тема отражает положение самого ребенка в семье (его заставляют делать то, что он не хочет, на него смотрят сверху вниз, им понукают, его заставляют выполнять нелюбимые дела). Поэтому так привлекательны для него сказки, которые содержат схожий сюжет. Скрытый смысл таких сказок понятен ребенку и заложен в следующем: каждый имеет право на любовь, независимо от поступков; должна сохраняться вера в прекрасное собственное Я, пока еще невидимое окружающим, как и вера в кого-то, кто сможет разглядеть это Я.
Таким образом, сказка изображает мир таким, каким ребенок сам его представляет и чувствует. «Это небольшой мирок с узкими, но яркими интересами. Обитатели этого мира или подобны ему самому, или огромны как взрослые, которые окружают его. Они или очень добры и выражают свою доброту дарами, или враждебны и имеют желание испугать, ударить, убить, лишить свободы. Это мир резких антитез, похожий на мир самого ребенка, где все бело или черно, хорошо или плохо, “мило” или “гадко”, который не знает тонких граней. Это мир, где правда торжествует, а зло карается; это именно такой мир, который мог бы быть создан людьми с небольшим и несложным опытом, живущими маленькой самодовлеющей общиной, подобной его домашнему миру»57.
Ребенок, слушая сказку, легко идентифицирует себя с его главными типами: он переживает страдания Золушки и других героев, когда его родители, бывшие ранее такими заботливыми и любящими, вдруг резко меняются и заставляют свое подросшее дитя подчиняться, например, дисциплине, делать вовремя уроки и другие дела, которые ранее были не нужны или которые взрослые делали за них сами.
Сказка многое может сказать ребенку, потому что в ней говорится о нем самом и окружающей его жизни. Особенно привлекательными являются сюжеты о победе добра над злом и установлении справедливости, что отражается в детских желаниях и вере в их исполнение. Ребенок без устали будет просить читать или рассказывать одну и ту же сказку, выучив ее наизусть, сам прочтет множество вариантов сказок с той же темой, интерес его не иссякнет, потому что нет ничего более постоянного, чем интерес к самому себе. Этот своеобразный детский поиск ответов на вопросы и многократные проживания событий любимой сказки – не что иное, как неосознанное стремление получить важный для себя опыт. Этот опыт ребенок получает в сказке.
Таким образом, сказки в самом раннем возрасте составляют одно из лучших и самых пригодных к условиям психической жизни ребенка средств для его развития. Еще в 1767 году в Генеральном плане Московского воспитательного для приносимых младенцев дома58 в разделе об обучении детей «от пяти лет, возраста, когда сами одеваться могут» сказано следующее. Вместо того чтобы рассказывать детям разные страшные и безумные повести про колдунов и ворожей, лучше бы сочинять «самым простым наречием легкие и приметные достойные нравоучительные сказки, которые бы сим приставницам (воспитательницам. – Прим. авт.) вместо неприличных разговоров при детях употреблять полезно было».
Кроме того, слушая сказки, ребенок обогащает свою речь новыми оборотами, расширяет умственный кругозор, память, усваивает нравственные понятия, развивает фантазию.
При анализе проблематики детской фантазии еще В. Вундт59 подметил, что сказка родственна детской фантазии и обладает следующими особенностями.
1) Преувеличение как фактор усиления чувств (страдание, удовольствие и т. д.);
2) Наличие образов, возбуждающих противоположные чувства: отвращение (ужасные великаны, ведьмы, карлики и т. п.) или восхищение (прекрасные принцессы, феи, доблестные рыцари);
3) Неожиданность, удивительность событий и персонажей;
4) Простота и легкость при воспроизведении сказочного сюжета в играх ребенка.
В. Вундт, выделяя народные сказки и так называемые искусственные (авторские), подметил гораздо более богатое, сложное и выходящее за пределы детского мышления содержание жизни в искусственных сказках. Искусственная сказка сродни фантастической новелле, которая не может быть адекватна детской фантазии. Она скорее для взрослых. Ребенок слушает такие сказки, удивляясь, но не принимая в них живого участия. Поэтому народные сказки – лучшее средство для усиления чувств, для знакомства с разными, даже противоречивыми эмоциями, неожиданными событиями и людьми – всем тем, с чем предстоит встретиться ребенку во взрослой жизни.
Как видим, чаще всего сказка может рассматриваться как форма эпоса, в которой создаются модели мира, наполненные невероятными событиями, которые могут быть изменены при включении образного, эмоционального и интуитивного начал человека.
Мир хаоса в сказке всегда упорядочивается, выстраивается стройная история героя или героев. Это очень важно при соотнесении с реальной жизнью людей, потому что зарождается понимание происходящего. Хаос – это всегда непонимание, а упорядочивание – постижение, пусть даже поначалу интуитивное и не совсем ясное. Бинарность сказочного мира, заключающаяся, например, в ощущении беды в начале и счастливого конца, в наличии злых персонажей и помощников, героев, предательства и верной дружбы, глупости и ума, слабости и силы, зла и добра, является отражением реальной жизни и становится хорошим целительным ресурсом для человека. В сказках мы находим переплетение невидимого (неосознаваемого) и видимого (осознаваемого), незримого присутствия внутреннего (переживания, эмоции) над поверхностью внешнего (поступки героев), что также зарождает процесс понимания.
Возможно, неслучайно в современном сложном, неоднозначном мире и обозначилось такое направление, как терапия сказкой, или сказкотерапия.
Хотя все еще недостаточно отчетливо определены теоретико-методологические основы данного направления, размыты границы, отделяющие сказкотерапию от других направлений психологической практики, не слишком ясно сформулированы основные принципы, методы и методики работы, оно все же задает вектор движения психологам-практикам.
Исходя из изложенного выше, сказкотерапию можно обозначить как один из древнейших видов психотерапии, который использовался людьми на протяжении веков – вначале интуитивно. Сегодня же усилиями специалистов осознанно делаются попытки придать данному направлению более отчетливые очертания, даже несмотря на то, что общепризнанного понятия сказкотерапии до сих пор не существует.
В общих чертах сказкотерапию можно определить в качестве направления психологической практики, которое использует сказки (и близкие к ним жанры) в качестве архетипической метафоры с целью:
1) Психодиагностики (например, проективная диагностика, описывающая целостную картину личности, ее проблемные и ресурсные элементы);
2) Психокоррекции (изменение, исправление нежелательных проявлений личности);
3) Психотерапии (излечение душевных ран);
4) Развития субъектности.
Сказкотерапия обозначается и в качестве направления полисубъектного подхода, использующего метафорические ресурсы сказки, позволяющие людям развивать самосознание и выстраивать такие уровни взаимодействия друг с другом, которые создают условия для становления их субъектности.
Сказкотерапия, сила которой безгранична, позволяет решить важнейшие задачи:
1) «Задачу зеркала» как обеспечения возможности увидеть самого себя, встретиться с собой, гармонизировать свое личностное пространство и исцелить то, что требует исцеления;
2) «Задачу кристалла» как создания возможности по-новому увидеть других людей и мир вокруг себя и, следовательно, построить новые более продуктивные и гармоничные отношения с людьми и миром.
Можно выделить следующие положения сказкотерапии как особого психологического направления60:
1) Сказочные герои представлены как субличности или персонифицированные эмоции, мысли, действия;
2) Отбираются или сочиняются сказки в соответствии с проекцией собственных переживаний и проблем;
3) При чтении (или сочинении) сказки происходит сосредоточение на проблемах путем приемов метафоризации, что позволяет человеку мягко и безболезненно продвигаться к разрешению этих проблем;
4) Использование сопоставлений, комбинации символических образов способствует более глубокому пониманию самого себя и окружающей действительности;
5) Работа со сказкой, особенно собственной (клиентской), помогает обнаружить скрытые ресурсы;
6) Написание сказки пробуждает творчество, которое заложено в каждом человеке, но не всегда проявлено.
Сказкотерапия как раз и предоставляет человеку возможность открыть в себе творческое начало, свой изначально природой данный потенциал, что уже является фактом исцеления. Еще К. Г. Юнг и Э. Нойманн предупреждали о последствиях «неродившихся историй». «Неродившееся произведение в душе художника – это стихийная сила, которая прокладывает себе путь либо тиранически и насильственно, либо с той неподражаемой хитростью, с какой умеет достигать своих целей природа, не заботясь о личном благе или горе человека – носителе творческого начала».
С помощью сказкотерапевтической практики становится возможным направить данную стихийную силу в конструктивное русло, одновременно решая и другие задачи.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе