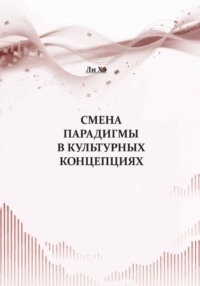Читать книгу: «Смена парадигмы в культурных концепциях»
Предисловие: Когда дует морской бриз, колокол звонит сам по себе
В 2020 году исполняется 20 лет со дня основания Китайского культурного исследовательского центра при Китайской Академии общественных наук (ранее известного как “Китайский исследовательский центр общественных наук и культуры”). В качестве одного из первых членов, я на протяжении многих лет подбирал и редактировал тексты по теории культуры и политическим исследованиям, чтобы сформировать настоящий сборник. Переживая эти тексты заново, я один за другим вспоминал взлеты и падения в развитии Культурного центра, и при глубоком осмыслении они предстают как смесь удовлетворения и разочарований.
Моя специальность – не исследование политики в области культуры, а феноменология и герменевтика западной философии. В целом, их можно отнести к так называемым “неясным наукам”, которые специализируются на постановке сложных вопросов в отношении, казалось бы, простых проблем. В Китае очень мало людей занимаются этими исследованиями. Несмотря на то, что малодоступность пониманию широкой публики не способствует расцвету, это своего рода наука о размышлениях во имя размышлений, которая находится на пределе возможностей мышления. Нация, имеющая такого рода науку, часто не чувствует, что у нее что-то есть, но без нее она чувствует, что у нее нет совсем ничего.
По сравнению с чистой философией текст настоящего сборника крайне прост и понятен. Вся книга состоит из трех разделов: первый раздел сфокусирован на современной политике в области культуры внутри страны; во втором разделе рассматривается современная зарубежная политика в области культуры; а третий раздел акцентирует внимание на мнениях о состоянии культуры на местах, а также в районах компактного проживания этнических меньшинств. Почему человек, занимающийся чистой философией, считает политику в области культуры второй специальностью? Для понимания сути дела нужно вернуться на 30 лет назад.
В 1988 году я поступил на философский факультет Амстердамского университета в Нидерландах, чтобы изучать феноменологию Гуссерля, и впервые столкнулся с домашним компьютером “Apple” стоимостью 4000 гульденов. Однажды во время летних каникул я отправился навестить друга с математического факультета. А он вдруг загадочно сказал: “Я ненадолго выйду, а ты внимательно следи за компьютером”. Вскоре после того, как он вышел из комнаты, на темном экране компьютера передо мной одно за другим появилось несколько слов: “How do you do? (Как дела?)”. Друг вернулся и взволнованно сказал: “Это слова, которые я набрал на соседнем компьютере. Их можно передать на это устройство, верно?”. Это был первый раз, когда я испытал на себе магию компьютерных сетей, и я внезапно осознал, что стою на пороге совершенно новой эры. В 1991 году я приобрел свой первый компьютер модели “286”. Несколько лет спустя, видя, что Интернет демонстрирует тенденцию “охватить всю” человеческую жизнь, мой друг пригласил меня написать короткие статьи под литературным псевдонимом “Хэ Сифэн” для недавно начавших выпуск еженедельника «Саньлянь Шэнхо» (“Жизнь Саньлянь”) и “Наньфан Чжоумо” (“Южный уикэнд”) в рубрике “Информационная эра”. Эти тексты, несомненно, отзываются в моем сердце порывистыми волнами цифрового морского бриза. Ранней весной 1997 года, при поддержке госпожи Чжан Шусинь из компании “Инхайвэй”, мой коллега Го Лян объединил несколько человек, включая Ву Бофаня, Ван Сяодуна, Ху Юна, Цзян Цзипина и меня, чтобы написать первый том “Собрания сочинений об Интернет-культуре” в Китае. Моя книга называется «Найденный рай? Потерянный рай? – Легенда Интернета и цивилизации», с темами того периода, которые до сих пор интересны для чтения: “Мир, рожденный по зову”, “Интернет должен быть реализован”, “Иммиграция в Новый мир (Интернет)”, “Завтра – важное событие”, “Я – терминал, остальные – X”, “Как предсказать, как жить” и так далее. После того, как вышеуказанная книга была опубликована в декабре 1997 года, она несколько недель подряд занимала первое место среди бестселлеров в книжном магазине “Фэнжусун”, и впоследствии была включена в список справочников по специальности новостного вещания в некоторых отечественных университетах.
Времена изменились! А масштаб этих перемен сродни эволюции от обезьяны к человеку! Именно это я чувствовал в то время. В моем понимании Интернет – это не только канал из волоконно-оптических кабелей, и не только информационное содержание, загружаемое по этому каналу. Это “живая” библиотека, архив данных, тематическое хранилище и кладезь, которые стремительно расширяются при передаче и обработке огромных объемов данных. В прошлом всегда считалось, что человеческий мозг является источником всех ценных идей, а компьютеры и Интернет – это всего лишь инструменты, помогающие человеческому мозгу реализовывать и распространять творческие идеи. Человеческий мозг – это “исходный мозг”, а компьютер и Интернет – всего лишь “внешний мозг”. Но сегодняшняя реальность такова, что Интернет, обладающий сверхбольшими запасами информации и знаний, а также супермощными возможностями обработки данных, стал “исходным мозгом” и “мозгом мира”, который превосходит каждого человека, и каждый человек, находящийся в конечной позиции, по одиночке больше похож на необязательный “внешний мозг” для него! Вся природа и вся без исключения человеческая деятельность представлены в Интернете. Объединение различных представлений приводит к появлению новых представлений. Такого рода “появление представлений – объединение представлений – формирование новых представлений” лишило людей возможности тратить столетия на неспешные споры о том, действительно ли определенное представление воспроизводит фактическую реальность. Реальность, представление, действительность, имитация, симулякры (simulacra), созидание – все эти понятия необходимо заново углубленно и полностью исследовать в нашу эпоху “символического имплозивного взрыва” (произвольно перефразируя концепцию Бодрийяра). В этом смысле Интернет является “поставом” (Ge-stell) нашей эпохи. Независимо от того, отдаляет ли нас судьба от поэтической среды обитания, первое, что необходимо подтвердить, это то, что “это становится нашей судьбой!”. Если философы будут безразличны к этому, это может привести к тому, что философия превратится в современную мумию. Эта идея подтолкнула меня к стремлению “думать о мирских радостях”, и время от времени я сворачивал с ипподрома чистой философии в идеологическую сферу современной технологической философии или цифровых гуманитарных наук. В августе этого года я опубликовал большую статью в издании “Китайские общественные науки”, озаглавленную “Технологии от “замещающих” до “заместивших” и люди в процессе “устаревания””, предоставив философскую интерпретацию концепции постчеловека / культуры постчеловека (post human): технологии завершают процесс естественной эволюции человека, и это с каждым днем все более глубоко влияет на современный процесс гуманитарного воспитания. “Замена” человека современными технологиями вот уже 500 лет бросает судьбоносный вызов главным ценностям человеческой культуры, основанным на антропоцентризме.
Первоначально в сборник статей я включил четвертый раздел “Старых фотографий важной эпохи 286”, где я собрал более десяти статей, опубликованных в “Саньлянь Шэнхо”, “Наньфан Чжоумо”, “Шишан” (“Мода”) и в начавшем впервые издаваться в 2001 году “Экономическом обзоре 21 века”, чтобы не забывать мою “историю того, как я оказался в сети”. Когда дело дошло до публикации, учитывая, что текст вышеуказанного раздела контрастировал со стилем трех других разделов, мне пришлось отказаться от этого дорогого сердцу раздела. Эта часть текста содержала не только такие по-прежнему актуальные темы, как “Скорость жизни и смерти в эпоху цифровых технологий”, “Человек – это объект экспериментов для человека”, “Поклонение скорости и поклонение будущему”, но и одновременно имела другое особое значение: именно эти темы втянули меня в сферу ис следований современной политики в области культуры.
В 1998 году я отправился на стажировку в Исследовательский центр “Восток-Запад” Мичиганского университета США к профессору Дональду Манро. Вскоре после моего возвращения на родину исследователь Цзинь Вулунь с кафедры философии науки и техники Института философии пригласил меня принять участие в дискуссии на тему “экономика знаний”. Поводом для обсуждения послужили два ежегодных доклада “Экономика, основанная на знаниях” (Knowledge Based Economy) и «Национальная инновационная система” (National Innovation System), опубликованные “Организацией экономического сотрудничества и развития” (именуемой в дальнейшем “ОЭСР”) в 1996 и 1997 годах, соответственно. В первом документе делался вывод о том, что в то время более 50% объема производства в 24 странах – членах ОЭСР приходилось на экономику знаний, и по этой причине мир уже вступил в “эпоху экономики знаний”. Во втором документе подчеркивалось, что в ответ на наступление эпохи экономики знаний страны должны создать лучшие институциональные условия для проведения технологических исследований, разработок и инноваций. Под влиянием этих двух документов в Китае началось обсуждение “национальной инновационной системы Китая”, но обсуждение, в основном, ограничивалось областями естественных наук и инженерных технологий.
Я и несколько моих коллег имеем сильное чувство того, что для нашей страны с развивающейся рыночной экономикой “трансформация результатов естественнонаучных исследований и разработок в материальные производительные силы”, конечно, важна, однако другой вопрос, который не менее важен, но игнорируется, заключается в том, как создать новые институциональные условия для обеспечения того, чтобы “результаты исследований в области гуманитарных и общественных наук превратились в продукты общественной системы”? Разница между нами и развитыми странами отражается не только в низком коэффициенте трансформации научно-технических достижений, но и в еще более низком коэффициенте трансформации достижений в области гуманитарных и общественных наук! По причине веры в то, что власть является непосредственным создателем продуктов общественной системы, многие ученые в области гуманитарных и общественных наук считают, что они не несут никаких обязательств и ответственности за предоставление обществу продуктов общественной системы.
Осознавая это, мы приступили к написанию статьи “Развитие гуманитарных и общественных наук в эпоху “экономики знаний””. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как “экономика, основанная на знаниях”, “экономика, основанная на культуре”, “необходимость стимулирования трансформации достижений гуманитарных и общественных наук в продукты общественной системы” и “настоятельная потребность в трансформации исследований в области гуманитарных и общественных наук в нашей стране”. После многократных обсуждений рукопись менялась почти 20 раз и, наконец, была опубликована в “Гуанмин жибао” (Ежедневная газета “Гуанмин”) в августе 1999 года. В конце того же года вышеупомянутая статья была сокращена и опубликована под названием “Доклад о нескольких важных вопросах, касающихся плана создания “Китайской инновационной системы” (КИС)”, за что дважды, в 1999 и 2000 годах, она была удостоена премии Китайской Академии общественных наук за выдающиеся достижения на уровне академии. Эта статья стала одним из основополагающих документов Культурного центра, созданного в октябре 2000 года. Как основной автор вышеупомянутых статей и докладов, я заручился согласием своих коллег и включил их в первый раздел этого сборника статей.
После создания Культурного центра его фактический руководитель, заместитель директора Чжан Сяомин, и Чжан Цзяньган, в то время заместитель директора департамента эстетики, с большим энтузиазмом взялись за основное созидание. Под их редакцией вышла серия “Синих книг” включая: “Доклад о развитии индустрии культуры Китая” (на данный момент опубликовано 13 изданий), “Доклад о развитии системы общественных культурных услуг Китая” (на данный момент опубликовано 2 издания), “Доклад о развитии культуры этнических меньшинств Китая” (на данный момент опубликовано 3 издания), “Доклад о развитии международной индустрии культуры” (на данный момент опубликовано 2 издания) и т. д. Эти работы уже стали академической визитной карточкой Культурного центра. Поскольку я был главным редактором периодического издания “Мировая философия” с апреля 2000 года и в течение двух лет, с 2001 по 2003 год, находился на стажировке в Гарвард-Яньцзинском институте, я не участвовал в работе Культурного центра. Весной 2004 года исследователь Ли Дэшун, в то время директор Культурного центра, предложил основать внутренний журнал “Исследования политики в области культуры”. Мне было поручено переводить и редактировать специальную рубрику “Сборник документов по зарубежной политике в области культуры”. В этот период мы скачали, перевели и воспроизвели в сокращённом размере документы по политике в области культуры из Финляндии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Австралии, Канады, Японии и других стран. Кроме того, я также написал статьи о модели функционирования Би-БиСи и модели развития радио и телевидения в США. Я осуществил специальное представление системы управления культуры Франции с сильной “системой протекции”, модели развития радио и телевидения в США, основанной на “принципе невмешательства”, британской совместной модели общественно-управляемого и коммерческого радио и телевидения, системы Британского совета по искусствам, которая воплощает принцип “равноправия и незаинтересованности сторон” (Arm’s Length), немецкой политики в области культуры, основанной на “принципе децентрализа ции” и т. д. Сегодня кажется, что факты, обсуждаемые в этих статьях, и используемые данные, возможно, устарели, но в их идеях по-прежнему нет недостатка в справочной информации. Я включил их во второй раздел сборника статей как историческую справку. За два года было опубликовано в общей сложности 38 выпусков “Исследований политики в области культуры”, и по каждому выпуску информация поступает напрямую в высшие эшелоны государственного управления.
В конце 2004 года Культурный исследовательский центр принял задание Китайской Академии общественных наук по теме “Глобализация и культурное развитие Китая”. Вдохновленные исследованиями зарубежной политики в области культуры, мы сосредоточились на теме “современной политики в области культуры Китая”. Хотя термин “политика” не является новым в Китае, изучение ключевых моментов и предпосылок развития политики в области культуры в Китае за последние 30 лет с точки зрения теории государственной политики, исследование особенностей трансформации китайской политики в области культуры и изучение сходств и различий между китайской и современной зарубежной политикой в области культуры – литература такого рода редко встречается в Китае. В 2008 году мы завершили подготовку проекта общего доклада на китайском и английском языках “Вовлечение в глобализацию: 10 лет политике Китая в области культуры”. Позже вышеуказанная статья многократно адаптировалась для публикаций, а также была переведена на русский язык для издания. Как основной автор доклада, я включил его в первый раздел этого сборника статей.
Благодаря накопленному академическому потенциалу влияние Культурного центра на внешнюю среду неуклонно росло. В 2005 году Отдел культуры и пропаганды Государственного комитета по делам национальностей установил партнерские отношения с Культурным центром. Помимо публикации “Доклада о культурном развитии этнических меньшинств Китая”, с 2010 года также было выполнено множество исследований культурного статуса этнических меньшинств в приграничных районах, в том числе: исследование Южного Синьцзяна в сентябре 2010 года, исследование приграничной зоны Юньнань – Гуанси в начале сентября 2011 года, исследование китайско – монгольской, китайско – российской и китайско – северокорейской приграничных зон во Внутренней Монголии – Ляонине – Цзилине в начале сентября 2012 года, исследование в Юньнане и Гуйчжоу в начале сентября 2013 года. В октябре 2015 года было проведено второе исследование Южного Синьцзяна, исследование этнической культуры хэчжэ на Северо – Востоке в октябре 2016 года, исследование Ганьсу – Цинхай в начале сентября 2017 года и т. д. В этот период я также участвовал во многих исследованиях в Тибете, Дуньхуане и других регионах. Эти исследования позволили мне непосредственно познакомиться с положением вещей в области культуры этнических меньшинств в Китае в переходный период, и за этот срок было подготовлено несколько исследовательских докладов. В марте 2015 года я также написал основной материал для “Доклада о культурном развитии китайских этнических меньшинств” (третий сборник). Статьи по этому докладу включены в третий раздел этого сборника статей.
С 2014 по 2015 годы Культурный исследовательский центр был преобразован в культурную экспертно – аналитическую структуру высшего уровня при Китайской Академии общественных наук. Название было изменено на “Китайский культурный исследовательский центр”. А его наименование на английском языке стало ещё более внушительным – “China National Center for Culture Studies”, что буквально переводится как “Китайский национальный центр культурных исследований”. Однако в этот период по причине смены старых и новых кадров развитие культурного центра пошло на спад, и он был почти на грани ликвидации. В конце 2017 года тогдашний руководитель попросил меня, вернувшегося в исследовательский отдел, возглавить Культурный центр и стать его руководителем. Первое, что я сделал – это составил проект плана возрождения Культурного центра на период с 2018 по 2020 годы.
За последние три года мне удалось реализовать в Культурном центре несколько вещей: во-первых, мы повторно привлекли к работе ученых, вышедших на пенсию, в частности, тех, кто когда-то сыграл ключевую роль в создании и развитии Культурного центра, и тем самым восстановили традиционные успешные проекты Культурного центра, такие как “Синяя книга по культуре”, “Летний трудовой лагерь для тех, кому еще не исполнилось 40 лет” и так далее. В конце 2020 года мы торжественно выпустили “Доклад о культурном развитии Китая (за 2018-2020 гг.)”, который я называю обновленной версией 2.0 “Синей книги по индустрии культуры”, опубликованной в последнее десятилетие. Во-вторых, что касается “Исследования культурного статуса этнических меньшинств в приграничных районах Китая” за последние десять лет, в начале 2018 года я запланировал и запустил проект “Исследование статуса культурного развития соседних с Китаем стран” и определил его как “проект функционального стимулирования” Культурного центра. С конца декабря 2017 года мы дважды подряд проводили исследования в Азербайджане, Казахстане и Вьетнаме. Важнейшим результатом стало совместное с иностранными учеными исследование и публикация серии докладов “Китайско – зарубежный культурный обмен”. Во второй половине 2019 года ученые из Культурного центра и ученые из Российской Академии наук, Вьетнамской Академии общественных наук и других учреждений совместно написали “Ежегодный доклад о китайско – российских культурных обменах” и “Ежегодный доклад о китайско – вьетнамских культурных обменах”. Эти два доклада были публично представлены общественности по случаю 20-летия основания Культурного центра в 2020 году. В-третьих, во второй половине 2019 года я активно продвигал “цифровую трансформацию” Культурного центра и в 2020 году основал Лабораторию гуманитарных вычислений Культурного центра.
Я уже много лет уделяю внимание состоянию культуры в соседних странах. В 2011 году мы совершили 9-дневный культурный визит в Южную Корею. С тех пор я шесть раз участвовал в “Гуманитарных обменах и диалогах высокого уровня между Китаем и Южной Кореей”. В августе 2015 года я отправился в Мьянму, чтобы принять участие в культурном форуме и экскурсии на местах. В октябре того же года я отправился в Россию, чтобы исследовать Москву, Казань, Уфу и Екатеринбург. В ходе моего исследования стран Восточной Азии я заметил, что то, что Хантингтон назвал “кругом китайской цивилизации”, распалось в процессе модернизации, и соседние страны, в целом, демонстрируют чувство культурного национализма, в котором “декитаецентризм” является основным содержанием формирования их национальной культуры. По этой причине я написал большую статью “Культурный национализм в странах Восточной Азии и деконструкция круга китайской цивилизации” в 2012 году. В статье упоминалось, что культурный национализм позволил Китаю и соседним странам вступить в процесс культурного “взаимного отдаления”. “Соседние страны находятся далеко, а Запад близко” – это обобщение основных реалий международных отношений между странами Восточной Азии. Однако даже сегодня наша политика в области культуры все еще усиливает некоторые аспекты, которые в культурном отношении чужды соседним странам. Я включил соответствующие статьи во второй раздел данного сборника статей.
Закончив редактирование сборника, я вдруг вспомнил одну фразу: “Когда дует морской бриз, звон колокола раздается сам по себе”. Раньше она казалась мне наполненной той же совершенно чистой дзэн – концепцией, что и строки “расцветающие ветви полны весны, а полная луна – центр небосвода” или “лицом к морю – пора весны и распускания цветов”. Но теперь я осознал, что это идеальная метафора работы нашего коллектива в сфере политики в области культуры. Как ученым, погруженным в изучение политики в области культуры, нам дана возможность оценивать развитие отечественной культуры, преодолевая ведомственные интересы и в полной мере сохраняя нейтральный академический взгляд. Благодаря этому академическому видению мы весьма восприимчивы к революционным изменениям в области медиа – технологий в современном мире, концепциям развития передовых стран и корректировке политики в области культуры. Наши статьи и политические рекомендации подобны звону колоколов провинциального храма на берегу моря, и каждый звон – это отклик на далекий морской бриз. “Уловить веяние времени первыми” – это важная движущая сила, побуждающая наш коллектив посвятить себя культурным исследованиям. Оглядываясь назад, на прошедшие более чем 20 лет, мы стали первыми в Китае, кто заговорил о цифровой эпохе в контексте развития культуры и цивилизации; первыми, кто раскрыл значение индустрии культуры через призму социальных трансформаций и “освобождения от чарующих иллюзий”; первыми, кто систематически наблюдал и отслеживал зарубежную и отечественную политику в области культуры. Что касается меня лично, то благодаря моему опыту в области западной философии и исследований зарубежной политики в области культуры, с 2009 по 2013 годы я был рекомендован в качестве одного из первых шести экспертов – рецензентов “Международного фонда культурного разнообразия” ЮНЕСКО (IFCD). Эта работа дала мне наглядное и ясное представление об общем состоянии культуры в других развивающихся странах и о возможностях реализации культурных проектов.
Слова “звон колокола раздается сам по себе” имеют и другое значение: наши исследования – это, в первую очередь, процесс “возделывания земли без ожидания урожая”. Порой люди говорят, что, хоть Ваша теория и логична с культурологической точки зрения, она не соответствует действительности. На самом деле однобокое требование соответствия теоретической логики реальности является устаревшим утверждением с философской точки зрения. Зачастую теория может оказаться той самой реальностью, на которую следует обратить наибольшее внимание. В нашей стране, где теоретические исследования всегда были неразвиты, больше всего необходима не только связь между теорией и практикой, но и связь реальности с теорией, чтобы можно было продемонстрировать логику теории. Если в статьях этого сборника и есть какие-то сожаления, то они связаны именно с тем, что время от времени мне приходится записывать некоторые шаблонные фразы, чтобы соответствовать реальной ситуации. Шаблонные фразы – это существующие утверждения, которые были распространены в политических исследованиях нашей страны на протяжении многих лет. Они часто сухи и бессодержательны, но они также крайне необходимы для изучения общественных проблем. По этой причине наш общеупотребительный язык – возможно, самый пресный в истории китайского языка, и брезгливые ученые, что привыкли работать в “белых перчатках” профессиональной чистоты, вполне себе справляются и таким образом в исследованиях на темы государственной политики.
В конечном счете, я понимаю, что наши исследования в области гуманитарных и социальных наук часто сводятся к тому, что “звон колокола раздается сам по себе”, и это может даже стать тем, что Дунфан Шо называл “ударом палкой по колоколу” – его слабый звон не услышит никто, кроме звонаря. Но, несмотря ни на что, пока звон колокола доносится от дуновения морского бриза, почему бы вновь не ударить в него?
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе