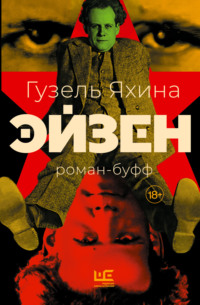Читать книгу: «Эйзен», страница 4
– Дави! Беляков, буржуинов, профессоров – дави! Уклонистов, контру, англичан! Врачей, купцов! Монархистов с анархистами! Поляков с бюрократами! Всех дави!
Последняя часть фильма – четырнадцать минут без малого – уже чистое и беспримесное насилие: рабочих лупили нагайками, топтали копытами коней, прищемляли дверьми и сбрасывали с лестниц. Жестокость изливалась с экрана таким плотным потоком, что ошеломляла публику и гасила её немалый запал: крики смолкали. Молча и раскрыв рты, смотрели в зале на летящего с верхнего этажа белокурого младенца, брошенного безжалостной рукой.
Расправа над мирной стачкой завершалась метафорой – забоем быков. Однако понять её зрители не сумели – ни на одном показе. Почему кадры умирающих рабочих перемежались кадрами умирающих быков, так и осталось загадкой.
– Что ли, до скотобойни добежали? – спрашивали друг у друга. – Может, спрятаться там хотели?
Анкеты, которые заполняли после просмотра, пестрели отзывами: от «истинно пролетарская фильма» до «непонятный ребус» и «скукота зевотная».
Фильм заметили критики – о редкой ленте писали так много, как о «Стачке». Причём реакция была такая же – очень пёстрая: картину и беспощадно ругали, и отчаянно хвалили. Авторитетный Дзига Вертов обозвал её актёрским навозом и циркачеством, заодно обвинил Эйзенштейна в плагиате. Ехидна Плетнёв из Пролеткульта затеял на газетных полосах свару об авторстве… И неясно было, считать ли эдакую шумиху провалом или всё же успехом. Эйзен предпочитал второе, причём не чурался добавлять к слову «успех» эпитеты «оглушительный», «сотрясающий» и «единогласный».
Ажиотаж мог бы привлечь зрителей и пойти на пользу сборам – однако не случилось: фильм собрал мало и скоро был снят с проката. Но расстроить автора это уже не могло: четырнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать пятого он заключил годовой контракт на работу режиссёром в Госкино.

Он знал про себя, что – вор. Не признавался себе в этом, и даже само слово – короткое, как боксёрский удар, – не было у него в ходу. «Грабители», «хищники», «урки» и ещё десятки синонимов, не исключая и площадные, использовал в речи. Это слово – никогда. И только в глубине души, под ворохом сомнений, страхов и оправданий, за самой потайной своей душевной складкой, Эйзен понимал про себя: ворует.
Как давно это началось? Когда уносил в памяти со стола в отцовской бильярдной абрисы зверей, начертанные рукою взрослого? Когда вгрызался взглядом в литографии Домье, чтобы позже срисовать позу или ракурс? Когда подсмотрел в «Кино-глазе» Вертова бытовую сцену с забоем быка – и решил обернуть её христианской аллюзией в «Стачке»?
Впрочем, называть ли это воровством? Веками черпали художники из библейского источника, сотнями и тысячами воспроизводя одни и те же сюжеты. Годами подмастерничали друг у друга, выведывая секреты. Копировали работы старших. Заимствовали фабулы фольклора и перелицовывали на нужный лад. И если уж разбираться всерьёз, то что есть искусство, как не бесконечный поток одних и тех же вопросов и одних и тех же ответов об устройстве мира? Да, ответы могут чуть разниться, как различаются голоса в хоре, – но исполняют эти голоса одну и ту же песню. И потому даже сам разговор о воровстве в искусстве – странен и неумён.
«Если я вижу мысль, которую я разделяю, я имею её своей», – писал юный Эйзен. Это был не просто девиз, а неотъемлемое свойство сознания: каждая вброшенная извне ценная идея не забывалась и в нужную минуту летела в топку творческого процесса. Так был устроен мозг: при получении художественной задачи память тотчас разворачивала перед внутренним взором когда-либо виденные решения. Оставалось только выбирать.
Необходимо снять лицо крупным планом? – Сию минуту! К нашим услугам Серов, Караваджо, Ван Дейк. Веласкес и Рембрандт. Скульптурные портреты Шубина. Маски комедии дель-арте. Сакральный канон Древнего Египта. Иконы, европейские и Древней Руси. И ещё добрая сотня вариантов.
Нужна человеческая фигура в движении и средним планом? – Извольте! В распоряжении вся скульптура Древней Греции, наскальная живопись Гибралтара, карикатуры Домье. Конечно, Леонардо и Дега. Современники – Дейнека и Пименов. И ещё сотня вариантов.
Требуется в кадре толпа? – Берём Брейгеля, Сурикова, Репина. Литографии о Французской революции.
Природа? – Берём импрессионистов.
Любовная сцена? – Родена…
Вот она, радость эрудита, – начитанность и насмотренность, позволяющие на любой вопрос найти уже данные кем-то ответы. Это ли именовать воровством?!
От любого произведения – будь то фильмы незнакомца Фрица Ланга или декорации Головина – можно протянуть вглубь веков многие нити, связующие сегодня с подзабытым вчера или с канувшим в Лету позавчера. Да будь то хоть сами спектакли великого Мейера.
О Мейерхольде услышал ещё ребёнком – вместе со Станиславским, Таировым и Вахтанговым он составлял пантеон театральных божеств. Увидел воочию в Александринке, на премьере «Маскарада». И не когда-либо, а аккурат двадцать пятого октября семнадцатого года. В столице империи свершалась революция, а в сердце этой столицы, на галёрке императорского театра, который и был-то императорским уже последние секунды, сидел Рорик – и в сердце его вершилась иная революция: поворот судьбы от инженерии к искусству.
Познакомился с Мейером тремя годами позже, придя к нему на Высшие режиссёрские. К тому времени Великий уже снял хрустящую кожанку с будёновкой и перестал носить на бедре револьвер, чтобы при случае угрожать артистам за непокорство; ходил всего-то в военной тужурке и солдатских башмаках, на голове неизменно – красная феска. Но всё равно и всегда был – самым ярким в помещении. Не человек – факел.
«Божественный. Несравненный… Буду обожать его всю жизнь», – напишет когда-нибудь Эйзенштейн. А ещё: «коварно-злонамеренный», «духовный инквизитор», пожирающий своих учеников, как Сатурн собственных детей. А ещё: «я недостоин развязать ремни сандалий на ногах его».
Конечно, это была любовь. Любовь-откровение, любовь-отрицание. И преклонение. Два с половиной года лекций, репетиций, занятий биомеханикой (наравне со всеми студентами) и бесед в доме у Мастера, где способного ученика принимали как своего (уже наедине). Был вхож на правах зятя – ухаживал за дочерью Старика Ириной. И ста́тью, и лицом, и голосом та походила на отца, носила короткую стрижку и часто – брюки. Разговаривала как Он. Смеялась как Он. Прикрывала веки, вздымала руки – всё как Он. И не было счастья больше, чем целовать эти руки, глаза и губы – общие, на двоих. Однако дальше поцелуев дело не заходило, и через много месяцев роман с Ириной увял, так и не начавшись по-настоящему.
Мей-ер-хольд! Хрустальное имя. Для студента Эйзена – не просто синоним театра или искусства в целом, а приобщение к самому акту творения. Никогда со времён меловых рисунков на бильярдном сукне не испытывал он подобного ошеломления: Учитель рассказывал – метался по сцене, воплощался в мужчину и женщину, в реку и пустыню, в солнечный свет и ураган, а затем летал по-над землёй, гонимый этим ураганом, стекал каплей, прорастал из почвы, леденел и оттаивал, взвивался пламенем и рассыпался искрами. Движения Его были – ветер, парение птицы и бег облаков. Мановения рук – музыка, песни и битвы народов. Изгиб Его стана – танец и страсть. Улыбка – рассвет. Взмахи ресниц – надежда.
Великий не мнил жизнь театром, а превращал её в театр каждым своим жестом и словом – как царь Мидас, обращавший в золото всё, к чему прикасался. Эйзен тоже беспрестанно играл роли и менял маски, однако всегда и только – для зрителей. Мейер же играл бы, останься он один во вселенной. Потому что творил эту вселенную – как хотел и как понимал. В этом были его гений и его проклятие. Мелкие события – к примеру, не дали денег на ремонт студии, – он воспринимал как актёр и работал трагедию. «Зовите фотографа! – стонал, обессиленно валяясь на полу. – Пусть снимает! И пусть весь мир узнает, как обходятся с Мейерхольдом!» На события же крупные, исторические отзывался режиссёр: восторженно встретивший революцию Мейер не только переоделся на несколько лет в галифе и фуражку со звездой, а изобрёл Театральный Октябрь – объявил театр не чем иным, как средством политагитации. То хотел учредить военную комендатуру при каждом театре, то мобилизовать столичных актёров на работу в провинции, то придумывал новые жанры – спектакль-митинг и спектакль-политобозрение… «Бешеного гения» лелеяли. Поручили было управлять Театральным отделом республики, но вовремя спохватились и с тех пор держали подальше от административной работы: пылкие и абсолютно безумные инициативы рисковали превратить в балаган саму революцию.
А рождались они легко и быстро: Мейер придумывал на лету – выдыхал идеи, как воздух из лёгких. Его мозг производил идеи, как железы производят пот, а женские груди – молоко. Отменить сценические костюмы и играть в прозодежде – одинаковой для всех униформе. И декорации отменить, заместив их станком для игры. Ввести элементы театра в быт каждого советского гражданина… Новое щедро сыпалось на головы студентов (их почему-то именовали лаборантами), рождалось на лекции и порой забывалось тотчас – только поспевай! И Эйзен поспевал: слушал, но не забывал.
И что с того?! Да, записывал за Мастером. Да, шлифовал его мысли, развивал и наращивал; а нет – исчезли бы бесследно. Да, читал его главный труд – «О театре» – и черпал, черпал.
Вычерпал многое. Среди прочего и термин «аттракцион», использованный позже в фирменной методе Эйзена – «монтаже аттракционов». (На всякий случай он даже сочинил алиби, придумал несколько версий, как именно пришло ему в голову это слово. Пригодилось в беседах с прессой.)
Но главное искомое так и не обнаружил, на главный вопрос – не ученичества, а всей своей будущей творческой жизни – ответа не нашёл. Как воздействовать на зрителя и подчинить его – полностью, без остатка? Что есть золотой ключ, отмыкающий сердца? В чём рецепт идеального произведения? Иначе говоря – в чём тайна самого искусства?
Не может быть, чтобы истинные мастера – Эль Греко, Леонардо, Верди – творили только по наитию. Не может быть, чтобы к концу своих длиннющих жизней они всё ещё оставались бы слепцами. Были, были великим старцам явлены откровения! Были перед их взорами развёрнуты формулы человеческой души. Иначе как бы пронзали время их произведения, являясь нам сегодняшним в той же мощи, что и сотни лет назад? Как бы заставляли цепенеть от восхищения людей самых разных рас и религий? Где-то – на небесных ли скрижалях, в договорах ли с дьяволом – были начертаны интегралы гнева и восторга, стыда и ярости, ужаса и ликования. И Мейер этой высшей математикой – владел. А Эйзен пока что колупался с арифметикой.
Два года ежедневного общения с Мастером не приблизили к разгадке. Прямые вопросы вызывали недоумение. Великий мог изобразить кого угодно – от червя и до Вседержителя. Мог поставить на сцене что угодно – от похабной частушки и до списка реквизита. Раскрыть же тайну своего умения словами – не умел.
Или не желал? Жадничал, скрывая от ученика эту последнюю и главную тайну? Мучимый сомнением, Эйзенштейн отдалялся, отлынивал от учёбы и страдал – долгие месяцы, пока его не уволили с курсов по совершенно формальному поводу. Озлившись, написал было жалобу на Великого в комячейку (фарса дурнее невозможно было и вообразить), но одумался и снял претензии. Ушёл – гордый, искать разгадку уже не в учёбе, а в режиссёрском труде.
А Старик остался, тоже гордый. Уязвлённый последней выходкой ученика, не разговаривал с ним несколько лет, хотя публично отзывался с одобрением и поддерживал. Это подливало масла в огонь их странных отношений – смеси любви, ненависти, восхищения и горчайшей обиды со стороны каждого. Эти отношения не закончились с расставанием и не закончатся уже никогда – пока смерть не разлучит.
На память Эйзен унёс ворох идей и мыслей Мастера – заслуженные трофеи. Что-то перекроил и переназвал, что-то использовал в готовом виде в «Стачке». После успеха фильма задумал было расквитаться с Учителем и сочинить обличительную статью про разложение мейерхольдовского театра, но не докончил, бросил. Вместо этого, описывая трофеи в дневнике, пометил большими буквами: «МОЁ».

В то время как на городских экранах прокатывали картину Эйзенштейна о восстании рабочих в царской России, в деревнях молодого Советского Союза не затухали восстания крестьян.
Их потрошили вот уже семь лет – красные, белые, снова красные; продразвёрстка, затем продналог. Стране действительно нужно было есть – пока она воевала на фронтах, а её заводы и фабрики стояли, пока деньги стоили дешевле бумаги, на которой были напечатаны. Хлеб же имелся только у тех, кто его выращивал, – и этот хлеб забирали. А также мясо, масло, картофель, шерсть, лён, воск, соль, дрова, орехи, гусиное перо, виноград, сено, мёд, сусличные шкуры, битых зайцев и моржовую кость, берёзовый сок, тюлений жир и жир курдючный, сушёную воблу, оленьи рога и кизяк для растопки печей.
«Крестьянин должен несколько поголодать», – объяснила партия. «Мы принесём в жертву интересы крестьян на алтарь мировой революции», – рьяно согласились на местах.
Отъём хлеба превратился в «выкачку». У несогласных продотряды призывали «взять крови вместо хлеба»; нередко так и случалось. На помощь продармии спешили военные и милиция, чекисты и коммунисты, отряды-гастролёры из пролетариев. Но бунты крестьян как запылали с началом красной диктатуры, так и не прекратились до сих пор.
В девятнадцатом полыхнуло на юге – Вёшенским восстанием по донской степи. Тогда же загорелось на Волге – чапанной войной по самарским холмам. В двадцатом перекинулось дальше – вилочной войной по Башкирии. Снова вернулось в центральную Россию – войной в тамбовских лесах, что длилась почти год. И занялось уже везде: Сибирь, Алтай, Туркестан. В двадцать четвёртом докатилось до Дальнего Востока – у маньчжурской границы случился Зазейский мятеж.
Где называли их мятежниками, где бунтовщиками, басмачами или партизанщиной (не забывая в начале слова добавить «бело-») – но везде это были они, крестьяне, истощённые семилетним голодом и бесконечной войной против них. Это был необъявленный фронт по сути: с одной стороны стоял мужик – с вилами, а то и берданкой. С другой – государство.
Война велась на поражение: авиацией, бронетехникой и арторудиями. Кое-где применялось химическое оружие – от баллонных газовых атак до обстрела химснарядами. Военачальники были – лучшие полководцы, каких рождала Красная Революция: Тухачевский, Фрунзе, Сергеев – товарищ Артём (они ещё не знали, что Красная Революция их сожрёт, как и положено любой революции). Крестьян брали в заложники, включая детей; сажали в лагеря, включая женщин. В ходу были показательные расстрелы.
Одновременно шла и война просветительская: агитпоезда и агиттеатры колесили по сёлам-весям – предостерегая, убеждая и доказывая. В стране, где читать умели немногие, лучшим средством пропаганды по-прежнему оставалась пламенная речь или правильная кинолента. «Стачку» решено было для агитцелей не использовать. Вместо этого её отправили прямиком в Париж – на Всемирную выставку. Жюри необыкновенно восхитил новаторский монтаж и необыкновенно поразила «славянская жестокость» автора. Картина получила золотую медаль, а советский кинематограф – славу авангардного.
Мать
Взрываем кино,
Чтобы
КИНО
Увидеть.
Дзига Вертов. 1923

Двадцатилетие Первой русской революции решено было отметить пышно. Гражданская война закончена, её недобитки – басмачьё, кулачьё и прочее мелочьё – ещё подают жалкие голоса, но судьба их предрешена. Страна вернулась в прежние, имперские границы. Европа же, обломав зубы в туркестанских пустынях о штыки Красной армии, Советскую республику признала – почти полным составом, от англичан до французов. Можно праздновать. Не можно – нужно.
Главным фильмом победительного празднества назначили эпопею «1905 год». Режиссёром – перспективного Сергея Эйзенштейна, которому только-только исполнилось двадцать семь. Масштаб задумали воистину циклопический: показать все значимые события горячих лет, от Кровавого воскресенья в Петербурге до армянской резни на Кавказе. Съёмки – по всей Советской республике. Съёмочных дней – сотни. Статистов – десятки тысяч.
Законтрактованный режиссёр ликовал. Как умно он отказался недавно от мелкой затейки – рекламной ленты для Госторга об экспорте пушнины! Заказ в итоге перехватил Дзига Вертов. Так ему и надо, зазнайке. Пусть снимает беличьи шкурки, пока Эйзен будет воссоздавать Цусимскую битву в Японском море. Пусть возится с бобрами и выхухолями, пока Эйзен будет командовать боями на баррикадах Красной Пресни. Обличительные статьи о конкуренте Эйзен писал исправно (самая хлёсткая получилась после недавнего успеха «Стачки»). А теперь и сама жизнь расставляет всё по местам: кому поделки рекламные клепать, кому детективчики дешёвые стряпать и сказочки – это о Фрице Ланге, недавно выпустившем эпос «Нибелунги», – а кому историю на экране вершить.
Прессе Эйзен пообещал, что «1905 год» станет постановкой «грандиозной, подобно немецким „Нибелунгам“». Про себя знал: ещё грандиознее. Матери в Ленинград написал, что работа предстоит адова. Про себя знал: самая адская из возможных.
Это наполняло восторгом. Чем смелее замысел – тем острее мысль. Чем шире замах – тем больше сил. И пусть исполнится не всё задуманное (остались же лежать в архивах намётки цикла «К диктатуре», из которого отснята всего-то одна «Стачка»). Но чтобы сделать хоть что-нибудь, надо – замахнуться. А уж замахиваться Эйзен умел.
Тем более что в кино у него получилось то, что долгие годы не выходило ни в рисовании, ни в театре, – страшное. Как замирали зрители, когда младенец в «Стачке» висел над пропастью, когда кровь хлестала из шеи быка! Одно было трюком, другое не было, но в оба кадра зритель верил. И боялся – оба раза по-настоящему.
Объектив обладал качеством удивительным, почти волшебным: помещённое в его рамку приобретало свойство правды. Не зря говорила мудрая Эсфирь про собаку о трёх головах – мол, поверят в неё, только покажи с экрана. Не только в трёхголового Цербера поверят – и в сам Аид, и в древних богов совокупно с новыми. Или в их отсутствие. Смотря что и как смонтирует режиссёр.
Нынче Эйзен хотел монтировать страшное. Тревожное, вселяющее трепет. Жестокое, кровавое, беспощадное. Нагоняющее ужас и панику. Всё, что не удалось нарисовать за годы отрочества и юности. Всё, что не вышло сыграть на сцене. Всё, что не сумел поставить, пока клоунадничал и увеселял. Всё нынче восполнить, всё!
И как же благодатен был для этой задачи материал. История Первой русской революции была полна тем, о чём грезил будущий её воспеватель, – насилием и кровью жертв. Сердце его бухало от радости, а голова – от идей, что бесконечным потоком извергались на страницы записных книжек (это когда работал дома), на салфетки (когда едал в ресторанах), на трамвайные билеты (когда трясся в вагоне по Чистым прудам к себе в коммуналку).
Расстрел безоружных рабочих в Кровавое воскресенье показать непременно на Дворцовой. Пусть сначала она запрудится людьми – статистов нагнать побольше, чтобы волновалась, как поросшая травой, – а потом пусть все они полягут, обездвиженно. И чтобы на мостовой ни единого булыжника не видать – одни только убитые… А вот когда их будут хоронить в общей могиле, пусть изредка среди мертвецов шевельнётся кто-то живой и тут же будет засыпан сверху другими телами… А московскую часть начать с покушения на великого князя Сергея – и взрыв бомбы заснять, и разорванное на куски тело, причём заснять крупно, долго. Манекеном не обойдёмся, ассистентам придётся достать из прозекторской настоящий труп, чтобы разъять на куски… И для мятежа на «Очакове» трупы понадобятся – сделать кадр, как рыбы поедают лица сброшенных в море убитых матросов… Для кадра с растоптанными детьми трупы понадобятся детские… А вот на вилы поднимать придётся живого человека – это уже для сцены крестьянского восстания. Пригласить циркача? Чтобы в кадре насаженный на вилы казак умер бы не сразу, а постепенно, шевеля конечностями… О, как же хочется работать!

Однако запускался фильм небыстро. Пару сцен отсняли, затем решили всё же докрутить сценарий – и в июне тысяча девятьсот двадцать пятого рабочая группа собралась в подмосковной Немчиновке на даче у «комиссара по делам кино» Кирилла Шутко. Хозяин – по совместительству большевик-подпольщик и революционер со стажем – выступал консультантом по идеологической части. Его крошечная голубоглазая жена Нина Агаджанова (муж на людях называл её по фамилии, присовокупляя неизменное «товарищ», а Эйзен повадился по-армянски, фривольничая – Нунэ) – автором исходного сценария, который и требовалось основательно докручивать. Эйзенштейн – основной тягловой силой, оруженосец Гриша Александров – ассистентом.
Живущий в отдельной части того же дома Казимир Малевич непосредственного участия в написании не принимал, но вечерами в угловой беседке пил зубровку с режиссёром, что весьма способствовало творческому процессу. Наезжал из Москвы Исаак Бабель. С ним Эйзен взялся сладить второй сценарий, по рассказам об одесском налётчике – параллельно основной эпопее: утром надиктовывал Грише революционные сцены (это в верхнем этаже), а после полудня Бабелю – криминальные (это уже в нижнем).
Бабель, который над каждым своим рассказом бился месяцами, «словно в одиночку срывая до основания Эверест», смеялся над напарником, но в смехе том Эйзен улавливал восхищение. «А как иначе? Восхищаюсь, конечно. И в первую очередь – вашим юным нахальством», – подтверждал Бабель. (Старше был всего на четыре года, но казалось, – на пару поколений: Бабель прошёл Первую мировую и Гражданскую военкором и красным кавалеристом.)
Хозяева дачи как могли старались обеспечить уединение творцу: часто отъезжали в город, уходили на длинные прогулки. Нужды в подобной деликатности не было: чем больше собиралось вокруг народа, тем эффективнее работал режиссёрский мозг. Лучше бы вместо вымученных прогулок и отлучек в Москву по придуманным поводам сели супруги напротив Эйзена и наблюдали за мыслительным процессом, восхищённо и безмолвно. Вот пошла бы работа! Но просить о таком он смущался (редкий случай, когда испытывал неловкость), а сами Кирилл с Нунэ о потребностях автора не догадывались.
В отсутствие иных зрителей роль публики отводилась Грише. А также роли секретаря, манекена для проверки мизансцен, груши для битья и плакальной жилетки (когда дело стопорилось). Со всеми ролями выходец из рабоче-крестьянской самодеятельности Гриша Александров справлялся удовлетворительно. Высоченный, плечистый, с огромными светлыми глазами и пухлыми губами, более всего он напоминал античный идеал красоты: эдакая ожившая статуя Аполлона Бельведерского, лопочущая с уральским выговором и в блузе, пошитой из суконного одеяла. Прозвище Григ (сам себе придумал, в подражание Эйзену и Тису) шло к его добро- и простодушному виду не больше, чем фрак, в котором он ходил по проволоке над ареной Пролеткульта. Младше Эйзена всего на пять лет, Гриша смотрел на него как на отца, начальника, гения и бога одновременно. Хотя и сверху вниз – был выше на целую голову. Подобная влюблённость Эйзену нравилась, а элементарность – нет.
«За неимением гербовой пишем на простой», – вздыхал он, глядя в преданные глаза наперсника. Во всей фразе Гриша понимал единственное слово – послушно кивал и тотчас доставал блокнот с карандашом: пишем так пишем.
За пару недель разделались с Русско-японской войной, бакинской резнёй и еврейскими погромами – всё получилось вполне кроваво, как и замыслил режиссёр. Принялись за восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». Мятеж вполне мог претендовать на место главного символа революции: горстка матросов против мощи всей Российской империи – идеальная формула для создания легенды.
Дело несколько осложнилось тем, что как раз в эти дни Эйзен прихватил халтурку: взялся срочно состряпать ещё один – третий – сценарий, который довольно скоро следовало сдать в Пролеткино. Режиссёру нужны были деньги, а Пролеткино – история, обличающая пороки буржуазии. И Эйзен решил: сдюжит. Вдохновленный предстоящими съёмками революционной эпопеи, он готов был писать не три сценария одновременно, а хоть все пять. У коммерческого проекта уже было название, и весьма гривуазное: «Базар похоти». Сюжет предполагался из жизни публичных домов – само собой, в предреволюционной России.
Зубровку временно пришлось отменить, визиты Бабеля сдвинуть на five-o-clock, а кропание «Похоти» объединить с созданием картины матросского мятежа. Режиссёра подобный синтез нимало не смущал. Мысль его, разогнанная до курьерской скорости предыдущими неделями сочинительства, неудержимо рвалась вперёд – по обоим направлениям одновременно, выдавая сцены то из быта кокоток, то из флотской жизни. Гриша за шефом не поспевал и чуть не плакал от растерянности.
– Мясо! – диктовал Эйзен скороговоркой, в своём обычном телеграфном стиле. – Гнилое мясо с червями – подают на обед! Мясо тухлое, черви крупные, ползают. Снять так, чтобы зрителя стошнило. Это очень хорошо.
– Где подают? – прилежно уточнял Гриша. – В борделе?
Перед ним лежали две тетради – одна серая, другая розовая, – самолично купленные и надписанные Эйзеном. На обложке каждой – одинаковые буквы «Б.П.». Строгий серый цвет скрывал записи к «Базару похоти», а игривый розовый – к «Броненосцу „Потёмкин“». Эта цветовая шутка бесконечно веселила её автора и постоянно сбивала с толку секретаря, который всё порывался поместить развратные сцены под розовую обложку, а революционные – под серую.
– При чём тут бордель?! Мясо на корабле подают, матросам.
Сцена фиксировалась на бумаге.
– Русалки! – уже торопил Эйзен дальше. – Назовём следующую сцену именно так: «Русалки». Женщин бросают в воду, а затем вылавливают неводом.
– Матросы бросают?
– Какие ещё матросы?! Это оргия – бляди веселятся с клиентами. Пометь: дать в подробностях и увести в затемнение.
Оргия фиксировалась.
– Ещё непременно нужен поп, с шевелюрой полохматей и бородой как у Саваофа.
– Попа – это куда? – оставлял Гриша всяческие попытки угадать.
– В обе истории. В «Похоти» пусть соблазняется беременной девкой и пытается ею овладеть. А в «Броненосце» – эксплуатирует команду, наравне с офицерами.
Так сцена за сценой и день за днём заполнялись тетради. И к середине июля были исписаны до последней страницы.
Читку обоих сценариев устроили в один день: «Базар похоти» – до ужина, а «Броненосец» как вещь серьёзную и требующую длительного обсуждения – после.
Презентуя первый опус, Эйзен внимательнее всего следил за лицом Нунэ – именно она предполагалась режиссёром будущей ленты вместе с начинающим Валерием Инкижиновым. Женщина, снимающая фильм о борделе, – как это всё же пикантно! Да не просто женщина, а член РСДРП с тысяча девятьсот лохматого года; до революции арестантка и ссыльница, стачкистка, подпольщица, а после – депутат Петросовета и член ревкома. Ни разу во время читки не уронила Нунэ чести большевика: ангельское личико её даже не дрогнуло, когда автор в красках живописал сцены изнасилования (их было ровно семь штук на сценарий), секса по согласию (этих было девять), самоубийства (три штуки), убийства (также три, включая удушение младенца подушкой), одно массовое заражение сифилисом солдат вражеской армии и одну массовую же смерть от пожара.
После оглашения финальных титров «Не с проститутками боритесь, а с породившим их строем!» слушатели захлопали, Гриша даже вскочил от чувств. Шутко отметил «крайне высокую концентрацию социальных проблем на полтора часа фильма». Немногословная Нунэ только кивнула: хорошо получилось, берём в работу.
Второй текст вызвал дебаты. Сложность матросского сюжета, как и любого сюжета «1905 года», была в том, что из реальных событий двадцатилетней давности требовалось аккуратно отобрать и смонтировать лишь те, что безупречно ложились в канву революционной идеи. (Отбор очень даже напоминал «осовечивание» заграничных фильмов с Эсфирь Шуб, хотя, пожалуй, «осовечивать» реальную историю было легче: в отличие от готовых кинолент жизнь предлагала для монтажа безграничные возможности.) А уже отобранные события до́лжно эмоционально раскрасить и преподнести зрителю в виде драматического действа. В этом трюке для Эйзена тоже не было ничего нового: подобное проделывал в «Стачке».
Вопросов перед автором сценария и слушателями вставало множество. Отразить ли в фильме роль социал-демократического движения, фактически взявшего на себя руководство мятежом, или представить его как порыв матросских масс? (Конечно да – именно порыв, именно масс, и только так.) Показать ли, что в мятеже приняла участие не вся команда, а только небольшая её часть? (Конечно нет.) Признать ли, что мятеж случился под воздействием выпитой на голодный желудок водки? (Разумеется, нет.) Рассказать ли, что всё началось от случайного выстрела в чайку, а первую пулю в человека пустил предводитель восстания Вакуленчук? (Нет, разумеется. Из Вакуленчука сделать героя и невинную – невиннейшую! – жертву.) А финал? Что делать с тем, что мятежный броненосец после побега из русских вод помыкался по Чёрному морю, помыкался, да и сдался-таки румынским властям? (Отрезать бесславное охвостье и не показывать вовсе.)
В конце концов постановили принять предложенный режиссёром вариант событий, хотя и с некоторыми правками. Времени дольше работать над сюжетом уже не было. До конца лета требовалось «осоветить» ещё многое: бунт на «Очакове», Красную Пресню, издание царского манифеста, созыв Государственной думы плюс полдюжины прочих эпизодов российской истории.

История стала религией – не вся, а только юная советская, что началась двадцать пятого октября семнадцатого, в день сотворения нового мира. Предыдущее было сброшено со счетов и объявлено ересью. А наступившее – истинным. Прошлое обернулось первородным хаосом, посреди которого возник остров: Революция – плацдарм и исходная точка новой истории. Революция – новорождённое божество.
История стала культурой. Отныне всё, что производил человек, служило Революции и одновременно было ею: и тракторы, и зерновые, и младенцы в родильных домах, и стихи в журналах. Впрягли воедино колхозы с наукой, заводы с искусством, университеты и школы с агитпропом, чтобы рожать, рожать и рожать новое – взамен ушедшего в небытие.
История стала этикой. Кому-то заменила совесть. Именем Революции и во имя её писали пьесы и доносы, строили железные дороги и исправительные лагеря (недавно открыли огромный, на Соловецких островах). Отказывались от родителей и усыновляли бездомных. Сеяли и собирали хлеб. Кого-то, кто сеял и собирал, убивали, объявляя кулаками; кого-то награждали и снимали в кино. Добро и зло сплелись, как Лаокоон со змеями, и отделить змеиное от человеческого уже не представлялось возможным.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе