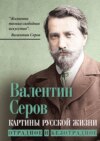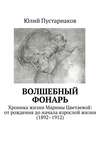Читать книгу: «Основы истории философии. Том 3. Докантовская и кантовская философия», страница 7
Государственное учение Кампанеллы (в «Городе Солнца») опирается на платоновскую «Республику», но у него призванные к власти философы рассматриваются как священники, и потому к этой платоновской доктрине (в его поздних сочинениях) примыкает идея универсального владычества папы. Он требует подчинения государства церкви и преследования еретиков в духе Филиппа II Испанского.
Лучилио Ванини (род. ок. 1585 в Неаполе, сожжён в Тулузе в 1619), продолжая александризм Помпонацци, развил натуралистическую доктрину. То, что он заявлял о подчинении церкви, не спасло его от приговора, более ужасного, чем трагичного.
В Англии борьбу против схоластики успешно возглавил Фрэнсис Бэкон Веруламский (1561—1626). Бэкон стоит на рубеже переходной эпохи, однако, отчасти потому, что он отбрасывает теософский элемент и ищет методологию для чисто естественнонаучного исследования, отчасти потому, что с ним связана новая, по сути современная линия развития, достигающая кульминации в Локке, он может быть более уместно рассмотрен ниже (§ 9).
В натурфилософии всех упомянутых до сих пор мыслителей в той или иной степени присутствуют теософские элементы. Однако теософия преобладает особенно у Валентина Вейгеля и Якоба Бёме.
Валентин Вейгель (род. в 1533 г. в Хайне близ Дрездена, ум. после 1594 г.; см. о нём работу Юлиуса Отто Опеля, Лейпциг, 1864) примыкал к Николаю Кузанскому и Парацельсу, отчасти также к Каспару Швенкфельду из Оссинга (1490—1561), стремившемуся к одухотворению лютеранства.
Библия, догматическая теология его времени, труды Парацельса и Вейгеля, а также астрологические сочинения вдохновили гёрлицкого сапожника Якоба Бёме (род. в 1575 г. в Альт-Зайденберге, с 1594 г. жил в Гёрлице, часто вступал в конфликт с жесткой ортодоксией, † 1624). Он приобрёл философское значение благодаря идее, возникшей у него в ходе догматических споров о первородном грехе, зле и свободной воле – идее тёмного, отрицательного принципа в Боге (который вечно преображается в свет), в чём ему переосмыслилось учение Экхарта о нераскрытом в себе Абсолюте. Эта мысль стала важной точкой соприкосновения для спекуляций Баадера, Шеллинга и Гегеля, которые вновь подхватили её. В остальном же, развивая свою теософию, Бёме, с одной стороны, действует лишь в религиозно-назидательном ключе (при этом, по мнению Харлесса, «он устранял Христа для нас, оставляя только Христа в нас»), а с другой – когда пытается философствовать, впадает в фантастику, психологически и теософски истолковывая непонятые химические термины, отождествляя минералы с человеческими чувствами и божественными личностями.
Бог, говорит Бёме в «Mysterium magnum», не есть личность, кроме как во Христе. Отец есть воля Бездны, Ничто, которое жаждет Нечто, воля к Ichts (Нечто), которая сосредотачивается в стремлении к самооткровению. И это стремление есть уловленная сила воли и есть Его Сын, сердце и престол, первое вечное начало в воле; воля выражает себя через сосредоточение, как излияние или откровение, как Дух Божества. Бездна вводит себя через своё собственное стремление в имагинацию, в которой Ничто становится Нечто.
Во всех вещах есть злое и доброе; без яда и злобы не было бы ни жизни, ни движения, не было бы ни цвета, ни добродетели, ни плотного, ни тонкого, ни какого-либо ощущения, но всё было бы Ничем. Без противоположности нет движения. Зло относится к образованию и подвижности, добро – к любви, а строгое или отталкивающее – к радости. Зло вызывает добро как волю, которая вновь устремляется к своему изначальному состоянию, к Богу, а добро как добрая воля становится жаждущим; ибо вещь, которая только добра и не имеет Qual (мучения), ничего не желает, ибо не знает ничего лучшего в себе или вне себя, к чему могла бы стремиться. Добро становится восприимчивым, волевым и действующим в зле.
Поскольку тварь пребывает в свете Божьем, гневное или отталкивающее создаёт восходящую вечную радость; если же свет Божий угасает, оно порождает вечную восходящую мучительную Qual (муку) и адское пламя.
Два мира – свет и тьма – пребывают друг в друге как одно. Все вещи состоят из «Да» и «Нет», будь то божественное, дьявольское, земное или что-либо иное. «Да» как единое есть чистая сила и жизнь и есть истина или сам Бог. Однако оно оставалось бы в себе непостижимым, не было бы в нём никакого достоинства или значимости без «Нет». «Нет» есть противоположность «Да» или истины, и потому сама истина есть нечто, в чём заключено противоборство.
§ 8.
Учение о праве и государстве было разработано самостоятельным образом, независимо от аристотелевского и церковного авторитета и в большей степени соответствуя изменившимся политическим условиям Нового времени. Никколо Макиавелли односторонне переоценивал политическую власть и подчинял её достижению и сохранению все остальные жизненные цели, однако считал задачей политика укрепление национальной мощи и самостоятельности, особенно в противовес церкви, претендующей на всё. Томас Мор уделял особое внимание уменьшению социального неравенства и смягчению суровости законодательства и изобразил в своей «Утопии» идеальное государство. Жан Боден на основе исторического анализа отстаивал преимущества монархической формы правления и защищал религиозную терпимость, тогда как Иоганн Альтузий полностью приписывал права верховной власти народу. Альберико Джентили уже в либеральном духе преподавал естественное право, а Гуго Гроций, наряду с позитивным историческим правом, подчёркивал всеобщее и вечное право, заложенное в природе человека, и заложил основы теории международного права.
О правоведах и политиках переходного периода подробно пишет К. фон Кальтенборн в работе «Предшественники Гуго Гроция» (Лейпциг, 1848). См. также Иоганна Якоба Шмаусса, «Новая система естественного права» (Гёттинген, 1754), кн. I, стр. 1—370: «История естественного права» (особенно ценна для периода до Гроция), а также соответствующие разделы у Л. А. Варнкёнига («Философия права как естественное учение о праве», Фрайбург, 1839; новое издание 1854), у Г. Ф. В. Гинрихса («История принципов права и государства со времён Реформации», Лейпциг, 1848—1852), у Роберта фон Моля («История и литература политических наук», Эрланген, 1855—1858), далее – в «Истории международного права» Уитона и в других трудах, касающихся истории права, философии права и политики.
Сочинения Макиавелли, впервые опубликованные в Риме в 1531—32 гг., многократно переиздавались вплоть до новейшего времени, часто переводились на французский и английский, на немецкий – Циглером (Карлсруэ, 1832—41). Его книга «Государь» («Il Principe») впервые вышла на итальянском в Венеции в 1515 г., затем неоднократно переиздавалась, в том числе на латыни с комментариями Конринга (Хельмштедт, 1643). На немецкий она переводилась несколько раз, начиная с 1580 г. (Франкфурт), в последние десятилетия – Альфредом Эберхардом (с комментариями, Берлин, 1868), а также В. Грюцмахером в «Историко-политической библиотеке» (куда вошёл также «Анти-Макиавелли» Фридриха II в переводе Л. Б. Фёрстера вместе с двумя небольшими политическими эссе Фридриха), Берлин, 1870. Литературу о Макиавелли систематизировал Роберт фон Моль в «Истории и литературе политических наук» (т. III, Эрланген, 1858, стр. 519—591), дав обстоятельный и ясный обзор разнообразных мнений различных авторов. Среди попыток опровержения особенно примечательна юношеская работа Фридриха Великого «Анти-Макиавелли»; см. об этом, помимо Моля (который здесь судит односторонне, применяя к сочинению, весьма слабому как историческая оценка и опровержение Макиавелли – хотя сам Фридрих видел его именно так, – но весьма достойному уважения как этико-политическое размышление о поведении, подобающем правителю при уже упрочнённой власти, и самоопределение относительно будущих принципов правления, исключительно первую мерку, что не оправдано даже неразличением самим Фридрихом обеих задач), особенно Тренделенбурга («Макиавелли и Анти-Макиавелли», лекции в память Фридриха Великого, прочитанные в Королевской академии наук, Берлин, 1855) и Теодора Бернхарди («Книга Макиавелли о Государе и Анти-Макиавелли Фридриха Великого», Брауншвейг, 1864). См. также Карла Твестена («Макиавелли» в 3-й серии «Сборника общедоступных лекций и статей», Берлин, 1868) и работу К. Джамбелли о Макиавелли (Турин, 1869). Виллари, «Н. Макиавелли и его время» (3 т., Флоренция, 1877 и след.; нем. пер. Мангольда, Лейпциг, 1877—1883). В. Лутославский, «Сохранение и разрушение государственного устройства по Платону, Аристотелю и Макиавелли», Бреслау, 1888. Гео. Эллингер, «Античные источники политического учения Макиавелли», Тюбинген, 1888 (из «Журнала общей политической науки»).
О Томасе Море писали: Рудхардт (Нюрнберг, 1829; 2-е изд. 1855), Джеймс Маккинтош («Жизнь сэра Т. Мора», Лондон, 1830; 2-е изд. 1844), В. Джозеф Уолтер («Сэр Т. Мор, его жизнь и время», Филадельфия, 1839; пер. с англ. Огюста Сюагнера, 5-е изд., Тур, 1868), Р. Баумштарк («Т. Мор», Фрайбург, 1879), Лина Бегер («Томас Мор и Платон. I. Обзор платонического гуманизма», дисс., Тюбинген, 1879), Теобальд Циглер («Томас Мор и его сочинение об острове Утопия», речь, Страсбург, 1889).
«Шесть книг о государстве» Жана Бодена (Париж, 1577), затем на латыни (Париж, 1584). Его «Colloquium heptaphomeres de abditis rerum sublimium arcanis» был частично переведён Гурауэром на немецкий (с фрагментами латинского текста, Берлин, 1841); полный оригинальный текст из рукописи Гиссенской библиотеки издал Людвиг Ноак (Шверин, 1857). Заметку по истории этого произведения опубликовал также Э. Г. Фогель в «Serapeum» (1840, № 8—10). Подробно о Бодене пишут: А. Бодрийяр («Ж. Боден и его время, обзор политических теорий и экономических идей XVI века», Париж, 1853) и Н. Планшено («Исследования о Жане Бодене, магистрате и публицисте», Анже, 1858).
«Politica methodice digesta» Иоганна Альтузия (Херборн, 1603), значительно переработанное и расширенное издание (Грёнинген, 1610), затем неоднократно переиздавалось. Его же «Dicaeologica» (3 книги, охватывающие всё действующее право методологически, Херборн, 1617). Альтузия из забвения вывел Отто Гирке («Иоганн Альтузий и развитие естественно-правовых государственных теорий» в «Исследованиях по немецкой государственной и правовой истории», Бреслау, 1880).
Главный труд Гуго Гроция «О праве войны и мира» вышел в Париже в 1625, 1632 и др. годах. Его обширные библейские исследования содержатся прежде всего в «Annotationes in Novum Testamentum» (Амстердам, 1641—1645 и др.) и «Annotationes in Vetus Testamentum» (Париж, 1644 и др.). Канцлер Самуэль Кокцеий издал в 1751 г. в 5 кварто-томах свой и своего отца комментарий к Гроцию «De jure belli ac pacis». О Гроции в новое время писали: Г. Люден («Г. Гроций по его судьбе и сочинениям», Берлин, 1806), Ч. Батлер («Жизнь Г. Гроция», Лондон, 1826), Ф. Кройцер («Лютер и Гроций, или Вера и наука», Гейдельберг, 1846). См. также: Омптеда («Литература международного права», т. I, стр. 174 и след.), Шталь («История философии права», стр. 155 и след.), фон Кальтенборн («Критика международного права», стр. 37 и след.), Роберт фон Моль («История и литература политических наук», т. I, стр. 229 и след.), Гартенштейн (в «Трудах Саксонского общества наук», I, 1860; также в его «Историко-философских очерках», Лейпциг, 1860), Ад. Франк («О праве войны и мира Гроция» в «Journal des Savants», 1867, стр. 428—441), К. Броэре («Возвращение Г. Гроция к католической вере», пер. с голл. Людвига Кларуса [псевд. Вильгельма Фолька], изд. Ф. Х. Шульте, Трир, 1871). Основной труд Гроция «О праве войны и мира» перевёл и прокомментировал фон Кирхман в «Философской библиотеке» (т. 16, Берлин, 1869).
Никколо Макиавелли (род. во Флоренции в 1469 г., ум. 12 июня 1527 г.), будучи секретарём канцелярии Совета Десяти, неоднократно приезжал в Рим с дипломатическими поручениями и познал всю испорченность курии, а также вёл переговоры с Чезаре Борджа в Романье. Через собственные судьбы – будучи то советником Медичи во Флоренции, то отстранённым от всех политических дел или даже изгнанным из родного города – он испытал всё бедствие тогдашней общественной жизни в Италии.
В области учения о праве и государстве он утвердил принципиально современную идею в своих «Историях Флоренции» (1215—1494; Флоренция, 1532; нем. пер. Реймонта, Лейпциг, 1846; см. об этом, среди прочего, у Ранке: «К критике новейших историков», Берлин и Лейпциг, 1821). Для него, прежде всего в отношении Италии, национальная независимость и могущество, а также – насколько это совместимо с ними – гражданская свобода являются идеалом, к которому политик должен стремиться наиболее подходящими средствами. В одностороннем увлечении этим идеалом Макиавелли оценивает средства исключительно по их целесообразности, недооценивая моральную оценку характера, который они несут в себе и для других нравственных благ.
Ошибка Макиавелли заключается не в убеждении (на котором, среди прочего, может основываться лишь моральное оправдание войны), что средство, с которым неизбежно связаны чувственные и нравственные страдания, тем не менее должно быть желаемо по нравственным причинам, если цель, достижимая только этим средством, перевешивает эти страдания благодаря заключённым в ней чувственным и нравственным благам. Ошибка – в односторонности оценки, которая, определяясь одной целью, рассматривает всё остальное лишь в его отношении к ней.
Эта односторонность представляет собой относительно необходимое противоположное крайности, практиковавшейся представителями церковного принципа – оценки всех человеческих отношений исключительно с точки зрения их связи с церковным учением, отождествляемым с абсолютной истиной, и с церковной общиной, приравниваемой к Царству Божьему.
Макиавелли обвиняет церковь, неспособную нравственно формировать жизнь, как препятствие единству и свободе его отечества; он предпочитает христианской религии, отвлекающей взгляд от политических интересов и склоняющей к пассивности, древнеримскую, которая поощряет мужество и политическую активность.
Способ Макиавелли отодвигать всё ради одной преследуемой цели придаёт его различным сочинениям разный характер. Из двух сторон его политического идеала – гражданской свободы и независимости, величия и мощи государства – в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» (о принципах сохранения государства) подчёркивается первая, а в сочинении «Государь» (о возможности восстановить испорченное государство) – вторая, причём в «Государе» республиканская свобода приносится в жертву абсолютной власти князя, по крайней мере временно. Однако Макиавелли смягчает это противоречие, различая испорченные состояния, требующие деспотических средств, и подлинный общественный дух, обусловливающий свободу.
Сама по себе республиканская форма правления, блестяще доказавшая себя в Спарте, Риме и Венеции, – наилучшая. Но для особенно развращённых состояний, как во времена Макиавелли, уместен безусловно властвующий князь, не гнушающийся даже тиранических средств.
«Кто с ужасом читает книгу Макиавелли о Государе, не должен забывать, что Макиавелли годами видел, как его горячо любимое отечество истекало кровью под властью наёмных орд всех наций, и тщетно рекомендовал в отдельной книге введение милиционных армий из местных жителей» (Карл Книс, «Современное военное дело», лекция, Берлин, 1867, с. 19).
Свободно перерабатывая идеальное государство Платона, Томас Мор (род. в Лондоне в 1480 г., казнён в 1535 г.) в своём сочинении «De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia» (Лувен, 1516; затем многократно издавалось на латыни и в англ. переводах; лучшее изд. – Э. Арбера, Лондон, 1869; нем. пер. Эттингера, Лейпциг, 1846; Г. Коте, Лейпциг, 1874) выразил философские мысли о возникновении и задачах государства в фантастической форме. Он требует, среди прочего, равенства собственности и религиозной терпимости.
Философское учение о праве и государстве в то время у католиков и протестантов в основе своей оставалось аристотелевским, у первых – модифицированным схоластикой и каноническим правом, у вторых – особенно библейскими положениями.
Лютер имеет в виду лишь уголовное право, говоря (в письме к герцогу Иоганну Саксонскому): «Если бы весь мир состоял из истинных христиан, не было бы нужды в князьях, королях, господах, мече или праве. Ибо для чего они? Праведник сам собой делает всё и даже больше, чем требуют все законы. Но неправедные не делают ничего правильного, потому они нуждаются в законе, который учит, принуждает и заставляет их делать добро».
Основные черты jus naturale (естественного права) находят Меланхтон (во второй книге своего сочинения «Philosophiae moralis libri duo», 1538), Иоганн Ольдендорп («Εἰσαγωγή, sive elementaris introductio juris naturalis, gentium et civilis», Кёльн, 1539), Ник. Хемминг («De lege naturae methodus apodictica», 1562 и далее), Бенедикт Винклер («Principiorum juris libri quinque», Лейпциг, 1615) и другие – в Декалоге, причём Хемминг особенно во второй скрижали Закона, тогда как первая носит этический характер и касается vita spiritualis (духовной жизни). (Сочинения Ольдендорпа, Хемминга и Винклера по естественному праву переизданы в извлечениях в упомянутом выше труде Кальтенборна.)
Как в этике, так и в учении о праве и государстве протестанты подчёркивают божественный порядок, а католики, особенно иезуиты (как Фердинанд Васкес, Луис Молина, Мариана, Беллармин, также Суарес и др.), – соучастие человеческой свободы.
Государство (как и язык), согласно схоластическо-иезуитской доктрине, имеет человеческое происхождение. По Беллармину, народ имеет право отнять власть у князя, поскольку он сам её ему даровал. Испанский историк-иезуит Мариана в своей книге «De rege et regis institutione» (Толедо, 1599) учил, что народ может требовать отчёта у короля, а если тот становится тираном, то даже позволительно его устранить или убить.
Лютер называет власть знаком божественной милости, ибо без правления народы истребили бы друг друга в убийствах и резне. Власть не может быть без греха в своей должности и мирском правлении, но Лютер не одобряет ни самопомощи пострадавших, ни конституционных гарантий, а желает, чтобы молились Богу за власть.
Старопротестантская доктрина благоприятствует (склонному к справедливости и милосердию благодаря сознанию ответственности перед Богом) политическому абсолютизму, но способствует социальной и религиозной свободе индивида.
Заслуга в утверждении равноправия различных конфессий в государстве, а также в обосновании естественного права и политики на этнографии и историческом анализе принадлежит прежде всего Жану Бодену (родился в Анжере в 1530 году, умер в 1596 или 1597 году), который достиг этого благодаря своим трудам о государстве. Изучив государственные устройства, проявившиеся в истории, он приходит к выводу, что наилучшей формой правления является наследственная монархия, ограниченная законами, при которой монарх обязан подчиняться законам Бога или природы и несёт ответственность только перед Богом. Его Colloquium heptaplomeres представляет собой беспристрастную беседу между семью лицами, принадлежащими к различным религиозным направлениям, о разных религиях и вероисповеданиях; признавая относительную истину в каждой из них, этот диалог обосновывает требование терпимости. Для достижения спасения и блаженства достаточно одного лишь разума и естественного закона, а потому нет необходимости в бесчисленных установлениях языческих и богооткровенных религий. Долгое время Colloquium считалось крайне опасным и распространялось лишь тайно, в рукописных копиях. Мораль Бодена основывается на деистических принципах.
В противоположность Бодену, Иоганн Альтузий (Альт, Альтузен; родился в 1557 году в Диденсхаузене, графство Витгенштейн-Берлебург; с 1586 года – преподаватель права в Херборне, с 1604 года – синдик в Эмдене, умер в 1638 году) решительно встаёт на сторону «монархомахов». Государство, по его мнению, есть universalis publica consociatio, qua civitates et provinciae plures ad jus regni habendum, constituendum, exercendum et defendendum se obligant (всеобщее публичное объединение, посредством которого многие города и провинции обязуются совместно обладать, устанавливать, осуществлять и защищать право правления). Народ является безусловно суверенным, а носители власти, даже если они получили власть над отдельными лицами, всегда остаются подчинёнными суверенному целому. Правитель, или summus magistratus, избирается эфорами либо в совершенно свободной форме, либо в порядке, ограниченном конституцией; его отношения с народом представляют собой взаимную клятву и обязательный договор, и ему вручается лишь отзывной мандат. Если народ нарушает договор, правитель освобождается от своих обязанностей; если же его нарушает правитель, народ может избрать себе нового. Эфоры, как члены различных органов власти, призваны защищать права народа перед лицом правителя. Во многих фундаментальных идеях Общественный договор Руссо поразительно напоминает Politica Альтузия.
Альберико Джентили (родился в 1551 году в провинции Анкона, умер в 1611 году, будучи профессором в Оксфорде) стал предшественником Гуго Гроция, главным образом благодаря своим сочинениям: De legationibus libri tres (Лондон, 1585 и др.), De jure belli libri tres (Лейден, 1598 и др.), De justitia bellica (1590), в которых он выводит право из природы, особенно человеческой, вместе с Мором и Боденом выступает за терпимость и, среди прочего, требует свободы морской торговли.
Гуго Гроций (Хёйг де Гроот, род. в Делфте в 1583 г., ум. в 1645 г. в Ростоке) стяжал себе непреходящую заслугу в области естественного права и научно обосновал международное право или право народов отчасти благодаря сочинению Mare liberum seu de jure, quod Batavis competit ad Indica commercia (Лейден, 1609), в котором он, защищая право голландцев на свободу торговли с Ост-Индией, философски изложил основные принципы морского права, а отчасти благодаря своему главному юридическому труду De jure belli et pacis (Париж, 1625, 1632 и др. изд.).
У Гроция, в действительности, не проведено полного разделения между моралью и правом, что уже видно из его определения естественного права, которое, по его мнению, есть веление разума и указывает, что в действии, в силу его соответствия или несоответствия разумной природе, заложена моральная необходимость или порочность.
Как в отношении права лиц, так и в отношении права народов или международного права, Гроций различает jus naturale и jus voluntarium (или civile); последнее основывается на положительных установлениях, тогда как первое с необходимостью вытекает из человеческой природы. Под jus divinum Гроций понимает предписания Ветхого и Нового Завета; он отличает от него естественное право как jus humanum.
Человек одарён разумом и речью, а потому предназначен для жизни в сообществе; то, что необходимо для существования сообщества, есть естественное право (а также то, что способствует приятности общественной жизни, относится к jus naturale laxius – естественному праву в более широком смысле). Из этого принципа общительности вытекает разумное решение, с результатом которого обыкновенно согласуется обычай у цивилизованных народов, что в этом смысле служит эмпирическим критерием естественного права.
Государственное сообщество основывается на добровольном согласии участников, то есть на договоре. Право наказывать принадлежит государству лишь постольку, поскольку этого требует принцип custodia societatis (охраны общества), – следовательно, не как возмездие (quia peccatum est), но лишь для предотвращения нарушений закона через устрашение и исправление (ne peccetur).
Гроций требует терпимости ко всем положительным религиям, но нетерпимости к отрицающим положения о Боге и бессмертии, признаваемые даже чистым деизмом. Тем не менее, в своём сочинении De veritate religionis christianae (изд. в 1619 г.) он защищает и христианские догматы, общие для всех конфессий.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе