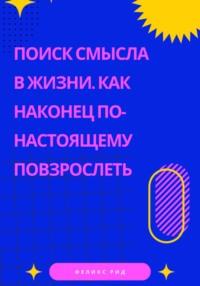Читать книгу: «Поиск смысла в жизни. Как наконец по-настоящему повзрослеть», страница 3
Несомненно, его слова говорят о самом распространенном и соблазнительном заблуждении нашего времени – о том, что мы можем найти что-то "там" – какого-то человека, социальное положение, идеологическую цель, внешнее подтверждение, – что заставит нашу жизнь работать на нас. Если бы это было правдой, мы бы видели доказательства повсюду вокруг нас. Вместо повсеместного удовлетворения мы видим неистовство популярной культуры, отвлечение праздных людей, ярость лишенных собственности, и лишь изредка – человека, который проходит через эту жизнь с чувством трансцендентной цели, глубокой психической опорой и духовно расширенной жизнью. Развитие более просторной личности, если воспользоваться удачной фразой Юнга, звучит приятно, но редко когда мы растем в этом направлении без того, чтобы старый порядок не был принят во внимание. Как правило, мы растем именно через опыт непрошеных страданий, а не потому, что жизнь без испытаний оказалась легче.
Чтобы ускорить этот переход к более подлинному существованию, полезно лучше узнать, как работает психика. Нам предлагается по-другому взглянуть на наши симптомы. Наше первое, естественное желание – подавить их, но мы должны научиться читать их как подсказки к уязвленным желаниям души или как автономный протест души против нашего неумелого управления. Мы учимся соблюдать дисциплину, которая требует ежедневной проверки жизни: "Что я сделал, почему, и откуда это во мне?" Мы участвуем в программе нашей души, которая требует смиренного отношения и настороженной бдительности. Это требует от нас понимания того, что наша жизнь, даже если она сопряжена с внешними трудностями, всегда разворачивается изнутри. (Юнг с тревогой заметил, что то, что мы игнорируем или отрицаем внутри себя, потом с большей вероятностью придет к нам в виде внешней судьбы). "Так откуда же во мне взялся этот результат, это событие?" – важнейший и потенциально освобождающий вопрос. Чтобы задавать его постоянно, требуется ежедневная дисциплина, повышенная личная ответственность и немалая доля мужества. Это значит, что, как бы мы ни нервничали, мы должны выйти на центральную сцену в той пьесе, которую мы называем своей жизнью, – единственной, которая нам достается.
Остальная часть этой книги проиллюстрирует некоторые из многих вещей, которые мы можем узнать о себе за это время: как работает психика, как мы можем сотрудничать с ней и как мы можем расширить наши путешествия, найти их различные значения и в конечном итоге прожить их для улучшения нашего мира. Эта работа, к которой вы приступаете, отнюдь не упражнение в самолюбовании или самоуничижении. (И пусть никто не говорит вам, что это так!) Качество наших отношений, качество нашего воспитания, качество нашей гражданской позиции и качество нашего жизненного пути никогда не будет выше того уровня личностного развития, которого мы достигли. То, что мы приносим на стол жизни, зависит от того, насколько осознанным было наше путешествие и сколько мужества мы смогли набраться, чтобы прожить его в реальном мире, который преподнесла нам жизнь. Это более осознанное путешествие, требующее жизни в духовной и психологической целостности, – единственное путешествие, которое стоит пройти. В конце концов, отвлекающие, вызывающие зависимость альтернативы окружают нас повсюду, и их печальные свидетельства говорят о том, что более эффективный путь должен заключаться в риске поиска перемен внутри себя.
Эта книга может стать для читателя своеобразным пропуском, предлагающим оставить старые предположения, рискнуть пожить некоторое время среди реальных двусмысленностей жизни и перейти к более значительной роли в ведении своей жизни, чем когда-либо прежде. Это путешествие по самому архаичному, самому пугающему, самому манящему морю – по нашей собственной душе.
Глава вторая Стать тем, кем мы себя считаем
"Теперь я постараюсь спокойно взглянуть на себя и начать действовать внутренне, ибо только так я смогу, как ребенок в своем первом сознательном действии называет себя "я", назвать себя "я" в более глубоком смысле". Сёрен Кьеркегор, Бумаги и дневники
КАК МЫ СОВЕРШИЛИСЬ теми, кто мы есть в этом мире, именно таким способом, который теперь известен окружающим как то, кто мы есть, или, по крайней мере, кем они нас считают? И кем мы себя считаем, тоже можно спросить. Что эго знает, а чего не знает? И не играет ли то, чего оно не знает, большую роль в повседневной жизни? Опять же, то, что не осознается, владеет нами и привносит груз истории в наше настоящее.
Наша жизнь всегда висит на тонкой ниточке. До появления сознания эта нить была пуповиной, ведущей к нашей матери, нашему источнику. Мы плыли во времени и пространстве, пока не существовало ни одной из категорий сознания, когда наши элементарные потребности были удовлетворены, а наш дом был надежно защищен. А потом нас насильно выбросило в этот мир – и с тех пор он никогда не был таким безопасным. У всех народов есть свои племенные рассказы об этом событии, и они почти одинаково представляют его как потерю, упадок, падение из "высшего" сословия. В истории об Эдеме иудео-христианской традиции нам рассказывают, что есть два дерева, с одного из которых можно есть, а другое запрещено. Откусить от Древа Жизни – значит навсегда остаться в мире инстинктов – цельным, связанным и живущим в глубочайших ритмах без сознания. Приобщение к Древу Познания приносит смешанное благословение сознания. Феномен сознания – это одновременно и травма, и великий дар, и эти кажущиеся противоположности навсегда остаются товарищами. Из отделения ребенка от утробы матери рождается сознание, всегда основанное на расщеплении и противоположностях. Рождение жизни – это и рождение невроза, так сказать, потому что с этого момента мы находимся на службе у двух планов – биологического и духовного стремления к развитию, к движению вперед и архаического желания снова погрузиться в космический сон инстинктивного существования. Эти два побуждения действуют в каждом из нас всегда, независимо от того, осознанно мы их воспринимаем или нет. (Если вы являетесь родителем подростка, вы видите эту титаническую драму каждое утро.
Если вы внимательны, вы увидите это и в себе).
Однако наше бытие неизбежно зависит от повторяющихся разлук, повторяющихся развивающих отъездов, все дальше и дальше от архаичного, безопасного места. Дрейфуя в этом танце жизни, мы испытываем ностальгию – слово, греческое происхождение которого означает "боль по дому". Мы должны помнить, что эти две программы – прогрессирования и регресса – борются в нас каждый день. Когда желание "вернуться домой" берет верх, мы предпочитаем не выбирать, спокойно сидеть в седле, оставаться среди привычного и удобного, даже если оно усыпляет и опустошает душу. Каждое утро близнецы-гремлины – страх и вялость – сидят у изножья нашей кровати и ухмыляются. Страх перед дальней дорогой, страх перед неизвестностью, страх перед вызовом величия пугает нас, заставляя вернуться к удобным ритуалам, привычному мышлению и знакомому окружению. Постоянно испытывать страх перед жизненной задачей – это форма духовного уничтожения. С другой стороны, летаргия соблазняет нас вкрадчивым шепотом: откинься назад, расслабься, оцепеней, успокойся на время. …иногда надолго, иногда на всю жизнь, иногда в духовном забвении. (Как посоветовал мне один друг в Цюрихе: "Если сомневаешься, возьми шоколад"). Однако путь вперед грозит смертью – по крайней мере, смертью того, что было привычным, смертью того, кем мы были.
Эту фундаментальную амбивалентность можно увидеть в стихотворении Д.Х. Лоуренса "Змея". В стихотворении рассказчик спускается к деревенскому колодцу, чтобы набрать воды, и встречает там змею, которая царственно восседает на солнце, не обращая внимания на говорящего. Они разглядывают друг друга. С одной стороны, рассказчик восхищается величием существа, с другой – боится его. Невыносимое напряжение нарастает, и оратор бросает в змею свое ведро. Его побуждает к действию осознание того, что змея решает войти в глубины, те самые глубины, которых боится оратор. Он пытается убить свой страх, нападая на животное, подобно тому, как люди нападают на геев за то, что они вызывают неосознанную неуверенность в собственной сексуальной идентичности, или на меньшинства за то, что они просто не такие, как те, что попадают в узкие рамки эго. Страх рассказчика перед глубиной понятен, но в суровом самоосуждении он считает, что встретил одного из властелинов жизни, ужаснулся вызову на большую встречу и теперь должен вечно жить с ничтожной душой.
Ежедневная конфронтация с этими гремлинами страха и вялости заставляет нас выбирать между тревогой и депрессией, поскольку каждая из них пробуждается в результате дилеммы ежедневного выбора. Тревога станет нашим спутником, если мы рискнем перейти на следующий этап нашего путешествия, а депрессия – если не рискнем. Подобно Бабе Яге, чья голова в русских сказках кивает на перекрестке, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, мы вынуждены выбирать, хотим мы того или нет. (Или, как сказал известный американский философ Йоги Берра, "Когда вы дойдете до развилки дороги – идите по ней"). Отказ от осознанного выбора пути гарантирует, что его за нас выберет наша психика, и в результате возникнет депрессия или болезнь в той или иной форме. А движение по незнакомой территории активизирует тревогу как нашего постоянного товарища. Очевидно, что психологическое или духовное развитие всегда требует от нас большей способности терпимо относиться к тревоге и двусмысленности. Способность принять это тревожное состояние, смириться с ним и посвятить себя жизни – вот нравственное мерило нашей зрелости.
Эта архетипическая драма повторяется каждый день, в каждом поколении, в каждом учебном заведении и в каждый решающий момент личной жизни. Столкнувшись с таким выбором, выбирайте тревогу и двусмысленность, потому что они всегда развивают, в то время как депрессия регрессирует. Тревога – это эликсир, а депрессия – успокоительное. Первая держит нас на краю жизни, а вторая – в детском сне. Юнг наиболее красноречиво говорил о той роли, которую играет в нашей жизни пугающий страх:
Дух зла – это страх, отрицание… Дух регрессии, который угрожает нам рабством у матери, растворением и исчезновением в бессознательном… . . Страх – это вызов и задача, потому что только смелость может избавить от страха. А если риск не принят, то смысл жизни так или иначе нарушается.
Мать", к которой он обращается, когда-то была буквальным родителем для ребенка, но для взрослого "она" теперь символизирует безопасную и укрытую гавань: старую работу, знакомые теплые руки и ту же неоспоримую и удушающую систему ценностей. Доминирование нашего "материнского комплекса", который имеет мало общего с нашей личной матерью, означает, что мы служим сну, а не задаче жизни, безопасности, а не развитию. Эта архетипическая драма разыгрывается в каждый момент нашей жизни, независимо от того, осознаем мы это или нет. Этот выбор создает наши шаблоны, ценности нашей повседневной жизни и наше разнообразное будущее, независимо от того, знаем ли мы, что делаем выбор, и питается ли этот выбор из глубоких источников души или из нашего судьбоносного, повторяющегося психологического наследия. Борьба за рост ведется не только ради нас самих, она не направлена на самоудовлетворение. Это наш долг и служение окружающим, ведь отступая от привычного, мы приносим им больший дар. И когда мы не справляемся сами, мы не справляемся и с ними. Пражский поэт Рильке выразил этот парадокс следующим образом:
Время от времени кто-нибудь встает с вечерней трапезы, выходит на улицу и идет, и идет, и идет. . .
Потому что где-то на Востоке стоит святилище.
А его дети сетуют, как будто он умер.
И еще один, который умирает в своем доме,
Остается там, среди тарелок и бокалов,
Чтобы его дети вошли в мир
В поисках того святилища, которое он забыл.
Как страшно, что то, что мы не делаем в удивительном приключении этого путешествия, придется делать нашим детям, потому что они будут ограничены нашим печальным примером или перегружены тем, что им придется делать это за нас? В последнем разговоре со своим умирающим отцом, самым лучшим, мягким и добрым человеком, которого я когда-либо встречал, я сказал ему в иррациональный, незапланированный момент: "Папа, я пошел и надрал тебе задницу". Я сказал это в знак благодарности и благословения. Он недоуменно посмотрел на меня. Я на мгновение подумал, что он все понял и гордится мной. Но когда я размышляю об этом спонтанном моменте, у меня возникают сомнения. Насколько то, что я делал, расширяя границы и путешествуя по неизведанным странам, было компенсацией за его непрожитую жизнь или, точнее, сверхкомпенсацией, чтобы помочь искупить гнет его жизни?
Несмотря на этого хорошего человека, я должен спросить, как много в моей жизни было действительно моим, а не каким-то призрачным планом, вытекающим из его. Я вспоминаю, как во время футбольного матча в колледже я намеренно ударил коленом крайнего, который опустился, чтобы блокировать меня, и, не справившись, заехал в меня ногами и ударил по голени. Когда судья выбросил желтый флаг и дал моей команде пятнадцать ярдов за неспортивное поведение, я был горд этим моментом. Насколько эта извращенная гордость объясняется компенсацией за пассивную, непрожитую жизнь моего отца? Когда моя взрослая жизнь была потрачена на расширение возможностей других людей через образование, писательство, терапию, преподавание – насколько это компенсация за нереализованный потенциал жизни моего отца? Почему мое детское "я" стало бы так сильно ориентироваться на задачу расширения прав и возможностей, если бы в глубине души оно не пришло к выводу, что исцеление окружающей среды имеет решающее значение и для его собственного выживания? Насколько это природный талант, служащий природному призванию? Я все еще пытаюсь разобраться во всем этом. Дифференциация различных уровней психики, которые задействованы во всем, что мы делаем, требует времени, терпения, а зачастую и мужества. Эти вопросы тревожат всех нас, но читатель должен задать их, чтобы обрести свободу в тот драгоценный момент, который есть сейчас, в тот момент, который на короткое время принадлежит вам.
Почему трагический смысл жизни имеет для нас значение
Слово "трагедия", как и слово "миф", в наше время было опошлено. Оно стало означать нечто ужасное, катастрофическое, как во фразе диктора новостей: "Трагедия сегодня вечером на скоростном шоссе в Вест-Сайде – пять человек погибли в результате столкновения такси и внедорожника". (У греков действительно было слово для обозначения такого рода событий: катастрофа.) Но мы можем многое узнать о нашей жизни, вспомнив о том, что наши предки прочувствовали двадцать шесть веков назад и воплотили в своем "трагическом видении" или "трагическом чувстве жизни". Их образное представление о человеческой дилемме, диалектической игре судьбы, предназначения, характера и выбора, остается лучшей парадигмой того, как жизненные перестановки разыгрываются на этом ограниченном плане.
Наши предшественники заметили, что мы часто планируем определенный результат, усердно работаем над его достижением, но в итоге оказываемся совсем не там, где ожидали. И, что особенно тревожно, этот измененный курс в значительной степени обусловлен выбором, который сделал предположительно сознательный человек. Как такое может быть, что мы сами себе враги? Они понимали, что в космосе существуют силы, которым подвластны даже боги. Эти силы они назвали Мойра, или "судьба", Софросина, или "что происходит, то происходит", Дике, или "справедливость", Немезида, или "последующее возмездие", и Проэрисмус, "судьба". Сегодня эти силы можно перевести как организующие, уравновешивающие, структурирующие силы космоса – слово, которое само по себе означает "порядок". Когда мы не знаем, как действуют эти силы, а это часто бывает, мы, скорее всего, делаем выбор, который противоречит принципам и энергиям нашей собственной глубинной природы, и тогда мы страдаем от компенсаторной и восстановительной деятельности.
Более того, наши предки верили, что мы часто "обижаем богов", то есть нарушаем энергетические замыслы, драматическими олицетворениями которых они являются. Так, рана, нанесенная Афродите, проявится в интимных отношениях; или одержимый Аресом человек будет действовать в беспричинном гневе со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, они верили, что, "читая" текстуру своей жизни, можно выявить игнорируемые или подавляемые архетипические силы, обиженных богов, и предложить им почтение и компенсирующее поведение для восстановления баланса. (Эта древняя практика не так уж далека от современной идеи терапии, которая пытается прочесть текстуру жизни человека, выявить очаг раны и наметить программу, которой подчиняется эго-сознание, чтобы обеспечить коррекцию, компенсацию, исцеление и правильные отношения с душой).
Кроме того, наши предшественники признавали роль индивидуального характера, который неоднократно играл роль в формировании нашего выбора и моделей поведения. То, что они называли hubris, часто переводимое как "гордыня", можно более прагматично определить как нашу склонность к самообману, особенно к заблуждению, что мы владеем всеми фактами, когда принимаем решения. То, что они называли хамартией, иногда переводимой как "трагический недостаток", я бы предпочел назвать "раненым видением", то есть присущей нам предвзятостью при выборе в результате нашей собственной психологической истории.
Наша склонность к неправильному выбору, или непредвиденным последствиям, подпитывается этими двумя обязательствами. Первая – это наше искушение верить в то, во что мы хотим верить, – предположение, что мы знаем о себе и ситуации все, что нам нужно знать, чтобы сделать мудрый выбор. (На самом деле мы редко знаем достаточно, даже чтобы понять, что знаем недостаточно. Любой человек в возрасте сорока или пятидесяти лет, который не ужасается некоторым из своих решений, сделанных в предыдущие десятилетия, либо тупо везунчик, либо находится в бессознательном состоянии.)
Более того, здесь есть и второй элемент, а именно – искажение нашего видения под глубоким влиянием нашей личной и культурной истории. Наш опыт тонко изменяет, даже искажает, линзу, через которую мы видим мир, и выбор, который мы делаем, основан на этом измененном видении. При рождении каждый из нас получает от родной семьи, культуры, Zeitgeist линзу, через которую видит мир. Поскольку это единственная линза, которую мы когда-либо знали, мы будем считать, что видим реальность прямо, даже если она окрашена и искажена. Как мы можем сделать мудрый выбор, если наша информация необъективна и даже неточна? Только исправления со стороны других или исправления со стороны нашей искалеченной психики могут заставить нас задуматься о том, что наш фундаментальный способ видения и понимания вызывает подозрения. Когда я был молод, я фантазировал, что могу узнать все, что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор; сегодня я знаю, что никогда не могу знать достаточно, что всегда действуют бессознательные факторы, которые станут очевидны только впоследствии, если вообще станут, и что старые силы, "не заправленная постель памяти", гораздо сильнее, чем я когда-либо им придавал значение. То, что когда-то было уверенностью молодости, хотя часто просто свистело в темноте, теперь я вижу как сочетание высокомерия, хамартии и бессознательности. Из этой встречи с нашими ограничениями рождается мудрость смирения: знать, что мы не знаем даже того, чего не знаем, и что то, чего мы не знаем, часто будет делать выбор за нас.
Классическим прототипом смиренного знания стал Эдип Софокла. Одаренный умом, он, тем не менее, увлекся исполнением мрачных пророчеств, то есть разворачивающихся тенденций истории, которые в критические моменты выбора брали верх над разумом. Насколько отличается полукомический тон недавнего фильма "Пегги Сью вышла замуж", в котором показана зрелая женщина, которая, обладая знаниями более зрелых лет, возвращается к прошлому, выходит замуж за того же придурка, повторяет те же неверные решения, что и в первый раз, и таким образом заново ложится в "не заправленную постель памяти". И все же как схож посыл. (Если бы только мы могли жить в более широких возможностях фильма "День сурка", повторяя один день снова и снова и делая лучший выбор. Однако даже в этом случае возможности неэффективного выбора в любой день кажутся бесконечными, так что мы можем так и не прожить первые двадцать четыре часа).
Такая смиряющая мудрость ощущается как поражение в высокомерии наших предположений, но она также облагораживает и исцеляет, поскольку снова приводит нас в правильные отношения с богами. "Правильные отношения с богами" как психологическая концепция означает, что мы гармонизируем нашу сознательную жизнь с глубочайшими силами, управляющими космосом и проходящими через нашу собственную душу. Такие моменты конгруэнтности будут ощущаться как чувство благополучия, обновленное отношение к себе и миру и ощущение "дома" посреди путешествия. (Не является ли это углубленное путешествие души, по сути, нашим "домом"?) Трагический смысл жизни, таким образом, не болезненный, а скорее героический, поскольку это призыв к осознанию, изменению и смирению перед потрясающими силами природы и нашей собственной разделенной психикой. Кто игнорирует этот призыв, того постигнет гнев богов, расщепление души, которое мы называем неврозом. Трагический смысл жизни – это постоянное приглашение к осознанию, которое, будучи принятым, парадоксальным образом расширяется благодаря смиренному восстановлению нашего места в общей схеме вещей. Традиционное наставление ходить смиренно и в страхе перед богами имеет непреходящее значение для всех нас.
Экзистенциальное ранение и программирование нашего чувства собственного достоинства
Вспомните, что наш жизненный путь начинается с травматичного расставания, шока, от которого мы никогда полностью не оправимся. Основное послание, которое мы извлекаем из этого события, называемого нашим рождением, заключается в том, что мы изгнаны из дома и отправлены в неизвестный мир с множеством пугающих сил. Все мы получили одно и то же послание: мир большой, а вы нет; мир могущественный, а вы нет; мир непостижим, но вы должны разобраться в его путях, чтобы выжить. Присутствие любящих родителей и постоянное заверение в жизни ребенка в значительной степени сглаживает остроту этого послания и активизирует природные ресурсы силы, которые скрыты в каждом из нас. Другие дети, которым повезло меньше, получают послания, лишающие их сил, и чувствуют себя еще более подавленными миром. И все мы, в той или иной степени, переживаем две категории экзистенциальных ран, которые влияют на всю нашу дальнейшую жизнь.
Силу этих первичных, формирующих переживаний в программировании нашего самоощущения, нашего восприятия мира "снаружи" и того, как мы должны к нему относиться, трудно переоценить. В первые годы жизни – без поддержки развития эго, которое исследует мир и его альтернативы, изучает параллельные возможности, учится лучше различать причину и следствие – мы все ограничены модальностью переживания, которую антропологи и архетипические психологи называют "магическим мышлением". Магическое мышление возникает из-за недостаточной способности различать себя и мир. Ребенок приходит к выводу, что "мир – это закодированное сообщение для меня, утверждение обо мне, о том, как меня ценят и как я должен себя вести". По-другому это можно сформулировать следующим образом: "Я – это то, что происходит или происходило со мной". Спустя десятилетия мы можем начать лучше различать. Мы узнаем, что гнев матери, или отчужденность отца, или обедненность воображения, преследовавшая наше племя, были ограничением другого, а вовсе не нас самих. Но это осознание приходит поздно, если вообще приходит, и после многих болезненных поворотов и возвращений. Задолго до этого первобытная интернализация зашифрованных посланий жизни, отождествление себя с условным и требовательным миром стали парадигмой нашего основного самоощущения.
Не имея других "прочтений" мира, ребенок вполне естественно приходит к выводу: "Я такой, каким меня считают". Как сказала мне одна женщина, рожденная от глубоко ограниченных родителей, которые были равнодушны к ее потребностям: "Меня никогда не любили. Я всегда считала, что это потому, что я не стою того, чтобы меня любили". Она интернализировала то, как ее держали, как к ней относились, как обращались с ней, как фактическое утверждение о себе, как это делают все дети. Дети интернализируют психологическую атмосферу родителей, а также внешние условия окружающей среды. Общая динамика семьи, социально-экономические ресурсы и другие культурные условия усиливают первичные послания о себе и мире. Лишь спустя десятилетия, а то и раньше, мы способны отличить этого могущественного "другого" от самих себя.
Кроме того, ребенок наблюдает за поведением больших людей, когда они борются за адаптацию, за выживание, за высказываниями о мире. Является ли мой мир безопасным, заботливым, надежным или отсутствует, враждебен, проблематичен? (Будучи ребенком во время Второй мировой войны, хотя лично я был в безопасности, я обоснованно заключил, что мир – это тревожное, опасное место, поскольку чувствовал вокруг себя эту тревожную атмосферу). Фундаментальные ценности формируются таким примитивным образом и усваиваются десятилетия спустя в совершенно других условиях: доверие/недоверие, приближение/отвращение, близость/дистанция, жизнеспособность/депрессия и так далее.
Отрезвляет мысль о том, насколько случайными являются эти причинные события. Вырываясь наружу из вращающихся циклов судьбы, они не имеют ничего общего с сущностью ребенка, и все же они так часто интернализируются как набор утверждений о себе и других, что доминируют в отношениях взрослого с миром. Да, Самость активна, выражая симптоматический протест против своей покорности такой судьбе, но силе наших ранних посланий необычайно трудно противостоять, особенно когда она действует бессознательно. То, чего мы не знаем, действительно причиняет боль нам и другим и способно направить наш выбор в совершенно ином направлении, чем того желает душа.
Давайте рассмотрим общие категории экзистенциальных травм и посмотрим, как психика реагирует на них. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни применял каждую из этих бессознательных стратегий, хотя одна или две могут оказаться более знакомыми, чем другие. Если мы не замечаем их применения в своей жизни, возможно, мы еще не осознаем, как многообразно они сплели и продолжают сплетать нашу историю. По-настоящему отрезвляет размышление о том, что в основе столь многих наших жизненных решений и их последствий может лежать нечто столь изначальное, оказывающее столь длительное влияние на исход всех наших поступков.
Рана переполнения
Первую категорию неизбежных экзистенциальных, детских ран мы можем назвать подавленностью, а именно, переживанием нашего сущностного бессилия перед лицом окружающей среды. Это подавляющее окружение может состоять из инвазивного родительского присутствия, социально-экономического давления, биологических нарушений, мировых событий и так далее. Перед лицом этого подавляющего окружения центральное послание заключается опять же в том, что человек бессилен изменить ход событий во внешнем мире. Каким образом это послание интериоризируется и воплощается в наших стратегиях совладания с ситуацией – вопрос почти бесконечного разнообразия. Однако можно выделить три основные категории рефлексивных реакций.
Важно помнить, что все, что мы делаем во взрослом возрасте, "логично", если мы понимаем бессознательную психологическую предпосылку, из которой оно исходит. Рефлекторное поведение или отношение – это выражение состояния, которое является досознательным, производным и причиной наших реакций. Таким образом, мы никогда не ведем себя как "сумасшедшие"; мы скрытно выражаем логику нашего внутреннего опыта, даже если эта предпосылка глубоко ошибочна, неверна, взята из другого времени и места и полностью игнорирует то, что взрослый человек считает истиной.
Что представляют собой эти три категории рефлексивного ответа на экзистенциальную рану переполненности? Посмотрите, что кажется знакомым, ведь все мы в своей жизни использовали эти логические стратегии и, возможно, используем их и сегодня.
Во-первых, учитывая, что мир больше и могущественнее, мы можем логично попытаться избежать его потенциального карающего воздействия на нас, отступая, избегая, откладывая, прячась, отрицая, диссоциируя. Кто не избегал того, что казалось болезненным или непреодолимым? Кто не забывал, не откладывал, не диссоциировал, не подавлял или просто не бежал? Мы все так делали. И для некоторых эта примитивная защита становится глубоко запрограммированной моделью неприятия больших жизненных требований. Для ребенка, который глубоко пережил переполнение мира, испытал опустошение от психического вторжения, мотив избегания может стать доминирующим в жизни в так называемом расстройстве личности под названием "избегающая личность". Избегание, диссоциация, подавление становятся первой линией обороны для тех, кому не хватает ресурсов, чтобы иначе защитить хрупкость своего состояния. Однако проблема возникает у всех нас, когда такие рефлекторные реакции принимают решение за нас и оттесняют сознание с его широким спектром альтернатив. Я видел, как люди выходили замуж за нелюбимого человека, потому что чувствовали себя неспособными подойти к тому, кого любили, потому что рефлекторно наделяли этого другого такой передаваемой силой, что боялись подойти к нему. Другие избегали поступления в колледж, или стремились к более сложной карьере, или рисковали своим талантом перед лицом мира, который, по их мнению, был слишком силен, чтобы противостоять ему.
Вторая логическая реакция на подавляющее воздействие проявляется в наших частых попытках взять ситуацию под контроль. В самой примитивной форме ребенок, подвергшийся жестокому обращению, может превратиться в социопатическую личность, служащую основной идее, которую он или она усвоили: "Мир причиняет боль и вторгается в него. Ты должен причинить ему боль или вторгнуться в него первым, или же вместо этого ты должен причинить боль и вторгнуться в него". Большинство из нас научились другим, менее экстремальным, механизмам преодоления. Мы можем стремиться к образованию как к средству понимания, потому что понимать – значит контролировать… возможно. Например, некоторые эксперты утверждают, что страх смерти и умирания сильнее у медицинских работников, чем у обычных людей. Если это так, то можно утверждать, что врачи, которые выходят на арену угрозы, предпринимают "героические меры" и воспринимают смерть как врага, а не как естественный процесс, могут иллюстрировать рефлексивный ответ на экзистенциальный посыл переполненности.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе