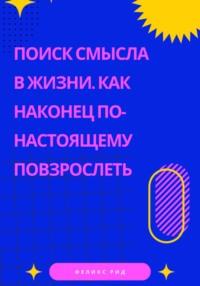Читать книгу: «Поиск смысла в жизни. Как наконец по-настоящему повзрослеть», страница 2
Глава первая Дорогие призраки: Как мы дошли до этого момента?
"Главная причина человеческих ошибок кроется в предрассудках, усвоенных в детстве".
Рене Декарт, Рассуждение о методе
"Мы тащим дорогие призраки по неубранной постели памяти". Пол Гувер, "Теория пределов"
Не было ли у вас ощущения, когда вы едете в вечерний час пик, или сидите на пляже, или в 3 часа ночи, в час волка, что вы понятия не имеете, кто вы и что такое этот занятой бизнес. М., в час волка, что вы понятия не имеете, кто вы такой и что это за занятие? Если у нас не было таких моментов искренней растерянности, недоумения и сомнений, то, скорее всего, мы просто живем на автоматическом управлении. Недавно я услышал рассказ одного адвоката о том, как страховая компания, которую он представлял, была вынуждена выплатить одному человеку огромную сумму. Этот достойный джентльмен купил дом на колесах, выехал на шоссе, а затем вернулся в дом, чтобы приготовить чашку кофе. Когда автомобиль разбился и нанес ему травмы, он утверждал, что его вины нет, потому что дилер не объяснил, что "круиз-контроль" – это не то же самое, что "автоматический пилот". Невероятно, но присяжные встали на его сторону. Разве не здорово, если кто-то присудит нам награду за глупость, за то, что мы остаемся без сознания и не несем ответственности за то, что находимся за рулем своей жизни? Наш величайший грех, возможно, заключается в том, что мы предпочитаем оставаться в бессознательном состоянии, несмотря на все доказательства того, что другие элементы внутри нас активно делают выбор от нашего имени, часто с катастрофическими последствиями.
Что же привело вас к этому моменту в жизни? Вы сами выбрали такую жизнь, такие последствия? Какие силы формировали вас, возможно, отвлекали, ранили и искажали; какие силы, возможно, поддерживали вас и продолжают действовать внутри вас, признаете вы их или нет? Единственный вопрос, на который никто из нас не может ответить: что мы не осознаем? Но бессознательное обладает огромной властью в нашей жизни, возможно, в настоящее время делает за нас выбор и, несомненно, неявно конструирует модели нашей личной истории. Никто не просыпается утром, не смотрит в зеркало и не говорит: "Я думаю, что сегодня я повторю свои ошибки" или "Я ожидаю, что сегодня я сделаю что-то очень глупое, повторяющееся, регрессивное и противоречащее моим интересам". Но зачастую именно это повторение истории мы и делаем, потому что не осознаем молчаливого присутствия тех запрограммированных энергий, тех основных идей, которые мы приобрели, усвоили и предались им. Как заметил Шекспир в "Двенадцатой ночи", нет более тесных тюрем, чем те, о которых мы не знаем, что в них находимся.
Синтия гордилась тем, что освободилась от семейных уз. Она сбежала из фермерской общины, в которой родилась, получила юридическое образование, вышла замуж за человека с высокой карьерной лестницей и добилась процветания в своей практике еще до того, как ей исполнилось тридцать. К сорока годам она достигла всех своих целей и чувствовала себя несчастной. Как она могла не быть счастливой, достигнув того, что так высоко ценила ее культурная среда и ее тонкий ум? И все же депрессия нарастала, тело болело, и каждый понедельник ей приходилось заставлять себя идти на работу. Она сообщила о своем недомогании терапевту и начала принимать ряд антидепрессантов. Она обнаружила, что они снимают напряжение, но при этом ощущает странную деперсонализацию. Когда она пришла на терапию, то принесла с собой этот первоначальный сон:
Я нахожусь в своем кабинете, но это также спальня моих родителей.
Я не вижу их, но знаю, что они присутствуют.
Это короткий сон, который мог бы присниться каждому из нас, ведь кто когда-либо оставляет призраки предков полностью позади? Сон – это подсказка, которую дает нам Я, привлекает внимание сознания и задает вопрос. "Как это возможно, что я могу одновременно находиться в своем мире и в мире своих родителей?" спросила себя Синтия. В последующие недели она поняла, что, пытаясь отбросить их определения того, кем и чем она должна быть, она вложила себя в их противоположности. Чем больше она выбирала противоположное их указаниям, тем больше эти незримые присутствия диктовали ей выбор. Отвергнув их планы на ее счет и их мрачные альтернативы, Синтия с ужасом обнаружила, что на самом деле она не была таким уж свободным агентом в своей жизни, как предполагала. Она реактивно отвергала сужающийся мир своих родителей, выбирала то, что одобряла культура среднего класса, но все равно не выбирала жизнь в соответствии с собственными желаниями души. От старых представлений о безопасности и зажатости она бежала в компенсирующий профессиональный мир, но оказалась зажатой сильнее, чем могла себе представить. Почему бы ей не впасть в депрессию из-за такого положения? Почему бы нам не ожидать, что тело взбунтуется, а психика заберет энергию оттуда, куда эго, движимое комплексом, хочет ее вложить? Однако этот тревожный мятеж в психике – друг, потому что он приводит Синтию к отчету и возможности большей осознанности. В данный момент она добросовестно разбирается со своими выборами, выясняя, какие из них действительно ее, а какие – производные. Это процесс различения, который должен продолжаться до конца ее пути, как и нашего. Мы все живем с дорогими призраками в неубранной постели памяти, ведь то, что мы не помним, все равно помнит нас.
Вряд ли кому-то из нас придется задуматься о возможности присутствия в нашей жизни таких автономных сил, если по счастливой случайности мы сделаем выбор, полностью соответствующий нашей собственной природе. Когда мы молоды, мы готовы предположить, что, будучи сознательными существами, мы сделаем правильный выбор и избежим глупостей тех, кто был до нас. Тем не менее, возникающий конфликт между нашим сознательным выбором и симптоматическими комментариями нашей природы говорит нам о том, что что-то не так. Как терапевт, я никогда не рад видеть, как люди страдают, и все же наличие страдания – это уже проявление работы психики. Самость автономно, иногда драматически, протестует через симптомы – через зависимости, через аффективные состояния, такие как тревога или депрессия, или через конфликты во внешнем мире, – которые, несмотря на наши неистовые усилия, сопротивляются изменению через простые акты намерения эго. Никто из нас не рад узнать, что нашей воли недостаточно и что наши благие намерения часто приводят к нежелательным последствиям для нас самих или других. (Как гласит ироничная наклейка на бампере: "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным").
Как терапевт, я первым делом обращаю внимание на эту большую драму, разыгрывающуюся в театре нашей жизни, на природу и динамику симптома; затем наша совместная задача – проследить симптом или паттерн до его происхождения. Всегда существует "логическая" связь между поверхностным симптомом или паттерном и исторической душевной раной. Даже если внешние симптомы могут казаться иррациональными, даже "безумными", они всегда проистекают из нанесенной раны и дают ей символическое выражение. Поэтому мы, как это ни парадоксально, обязаны благодарить симптомы, поскольку они привлекают наше внимание, заставляют быть серьезными и дают глубокие подсказки о глубинной воле или намерениях нашей собственной психики. В конце концов, мы преобразимся только тогда, когда сможем признать и принять тот факт, что внутри каждого из нас существует воля, совершенно неподвластная сознательному контролю, воля, которая знает, что для нас правильно, которая постоянно сообщает нам об этом через наше тело, эмоции и сны и непрерывно поощряет наше исцеление и целостность. Мы все призваны соблюдать эту встречу с внутренней жизнью, но многие из нас никогда этого не делают. К счастью, это настойчивое приглашение приходит к нам снова и снова.
Свобода этого современного часа
До начала прошлого века мы не могли бы вести беседу, к которой приглашает эта книга. В 1900 году средняя продолжительность жизни североамериканца составляла всего сорок семь лет. Хотя некоторые люди жили дольше, статистическое большинство доживало свой земной путь, служа тому, что мы сегодня назвали бы программой первой половины жизни. (Даже сегодня, если кого-то из нас переедет грузовик в день нашего тридцатипятилетия, мы, скорее всего, жили исключительно в соответствии с ограниченным сознанием первой половины жизни, единственным доступным сценарием, единственной программой, которую мы знали). Кроме того, на прошлое наложили свой груз социальные институты в виде семейных, социальных, этнических и гендерных ценностей, а также определяющих санкций брачных и религиозных институтов. Прежде чем предаваться ностальгии по прошлому, вспомните, что многие души погибли в рамках этих жестких ролей и сценариев. Сколько женских душ было подавлено, сколько мужчин раздавлено ожиданиями и ролями, которые не давали каждому из них возможности выразить бесконечное разнообразие души?
Сегодня, когда эти нормативные роли и институты разрушаются, а также когда благодаря улучшению санитарных условий, диете и медицинскому вмешательству нам удается продлить жизнь, которую мы часто воспринимаем как должное, неизбежно возникают другие, более масштабные вопросы. В новом столетии мы имеем вдвое большую продолжительность взрослой жизни, чем было дано нашим предшественникам. Таким образом, мы сталкиваемся с беспрецедентной возможностью и ответственностью жить более осознанно. Мы можем задать вопрос: "Кто я, если не считать ролей, которые я играл – некоторые из них были хорошими, продуктивными и соответствовали моим внутренним ценностям, а некоторые нет?". Или мы можем задаться вопросом: "Раз уж я оправдал ожидания своей культуры, воспроизвел свой вид, стал социально продуктивным гражданином и налогоплательщиком, что теперь?" Короче говоря, для чего нужна вторая половина жизни – время между тридцатью пятью и почти девяноста годами, – если не для того, чтобы повторить сценарий и ожидания первой половины жизни?
Чтобы эти вопросы стали для нас осознанными, должны произойти две вещи. Во-первых, мы должны прожить какое-то время, достаточно долгое, чтобы развить достаточную силу эго, чтобы быть в состоянии сделать шаг назад, изучить свою историю и быть готовыми справиться с любыми разочарованиями или несбывшимися ожиданиями. Чем моложе мы и чем менее сформировано наше чувство осознанного "я", тем более пугающими и дестабилизирующими кажутся подобные вопросы. Молодой человек не может позволить себе такие вопросы, которые грозят разрушить хрупкую структуру эго. Но к середине жизни человек, возможно, становится достаточно сильным или отчаянным, чтобы задавать эти вопросы осознанно – возможно, впервые. Во-вторых, мы должны прожить достаточно долго, чтобы понять, что в нашей жизни сложились шаблоны – шаблоны в отношениях, шаблоны на работе и, очень часто, шаблоны саморазрушения, которые подрывают наши лучшие интересы. Мы вынуждены признать, что единственный человек, который неизменно присутствует в каждой сцене той затянувшейся драмы, которую мы называем своей жизнью, – это мы сами. Поэтому вполне логично, что мы несем определенную ответственность за то, как разворачивается эта пьеса или мыльная опера. Мы, безусловно, являемся главными героями этой драмы, но возможно ли, что мы также являемся ее автором, и если не мы, то кто или что?
Том Стоппард написал замечательную пьесу об этом вопросе авторства жизни под названием "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Название пьесы происходит от строки из "Гамлета". Мы все знаем историю Гамлета, в которой Розенкранц и Гильденстерн – второстепенные персонажи, которые на короткое время выходят на сцену, а затем погибают. Но что, если мы – Розенкранц или Гильденстерн, а не Гамлет? Его история – материал высокой трагедии, но что, если наша – материал банальности и безвестности? В пьесе Стоппарда два героя-прилипалы бродят в тумане, как и мы, и пытаются, как и мы, понять, что происходит. Время от времени их путь пересекает некий Гамлет, но это какой-то другой человек в какой-то другой пьесе. В чем смысл их жизни, так и не ясно, пока они не становятся жертвами сил, приведенных в движение неизвестными им агентами и ведущих к нежелательным для них целям. Если мы неловко сдвигаемся в своих креслах, то это потому, что пьеса чувствует себя очень неловко рядом с домом. Какую роль мы играем в наших собственных драмах? Кто мы – главные герои или второстепенные персонажи в чужом сценарии? И если да, то по чьему сценарию, и что это за история?
Тихий переход во вторую жизнь
Уже в первые месяцы работы терапевтом я начал различать закономерности в жизни практически всех своих пациентов. У каждого из них была своя история, своя семья происхождения, разнообразный набор внешних проблем и эмоциональных расстройств. Их возраст варьировался от тридцати пяти до семидесяти с лишним лет, но общим для всех, что и привело их ко мне в кабинет, было то, что их понимание себя и соответствующих стратегий поведения в мире претерпевало некий морской сдвиг. Каким бы ни был "план" их жизни, сознательным или бессознательным, он, похоже, не слишком хорошо работал.
Никто из них не пришел к терапии в качестве первого выбора. Их первоначальной линией защиты от извержений бессознательного в их жизни было отрицание. (Это наша самая понятная, самая примитивная защита, которая, если ее продолжать бесконечно, оказывается единственным по-настоящему патологическим состоянием бытия). Как правило, вторая стратегия заключалась в том, чтобы возродить свои усилия в служении старому плану. Третьим выбором было устремиться к какой-то новой проекции – новой работе, лучшим (другим) отношениям, соблазнительной идеологии, а иногда и погрузиться в бессознательный "план самолечения", такой как зависимость или роман. Четвертым вариантом, после того как они испробовали все вышеперечисленное, было признать бесполезность и неохотно прийти на терапию, чувствуя разочарование, иногда злость и поражение, и всегда, всегда смирение. Это шаткое начало ознаменовало собой начало самого глубокого исследования, которое они когда-либо предпринимали, рискованное приключение – узнать, кем они были на самом деле, часто совершенно отдельно от тех, кем они стали.
Кризис среднего возраста?
В профессиональных кругах ведутся споры о том, существует ли так называемый "кризис среднего возраста". Эти профессиональные дебаты не помешали общественности использовать этот термин, чтобы пренебрежительно отнести бедственное положение своих собратьев к "минутному безумию", не имеющему более глубоких последствий для всей жизни этого человека, да и для их собственной тоже. Другие используют этот термин для описания широкого спектра неадекватных форм поведения, продолжая отвергать возможность того, что он может иметь значение, а именно: почему возникло это расстройство и что оно может означать для жизни человека, страдающего от него? Независимо от дискуссии, мало кто сомневается в том, что в середине тридцатых – середине сороковых годов у многих возникают различные волнения и замешательство, хотя некоторые обманчиво кажутся проплывающими через мели среднего возраста и беспрепятственно вплывающими в более спокойные моря последующей жизни.
Есть причины, по которым эти нарушения часто проявляются в том возрасте, который мы обычно считаем "серединой жизни". Человек должен отделиться от родителей достаточно долго, чтобы быть в мире, делать выбор, видеть, что работает, что нет, и переживать крах или, по крайней мере, эрозию своих проекций. К этому возрасту сила эго, необходимая для самоанализа, может достичь уровня, когда оно способно размышлять о себе, критиковать себя и рисковать, изменяя выбор, а значит, и ценности. (Я также встречал многих, кому не хватает этой основной силы, и они находят способы саботировать это приглашение к восстановлению своей жизни. Они редко придерживаются терапии или даже приходят на нее). Это более радикальное исследование своей жизни, это более убедительное взаимодействие с душой не может быть предпринято по прихоти или отлажено на семинаре выходного дня. Принять вызов нашей души – значит шагнуть в глубочайший океан, не зная, сможем ли мы доплыть до какого-то нового, далекого берега. И все же, пока мы не согласимся выплыть за пределы знакомых огней оставленного порта, мы никогда не приплывем к новому берегу. Для одних это происходит постепенно, другие оказываются в глубоких водах внезапно.
Как все начиналось
Джозеф пришел на первый час терапии, убежденный в том, что это будет быстрая работа по смазке, как во франчайзинговом чоп-шопе на шоссе. После того как он рассказал о ссоре с женой, я спросил: "Если бы вам пришлось выбирать между вашим браком и азартными играми, что бы вы выбрали?" Он улыбнулся и ответил: "Ну, вы всегда можете жениться". Тогда я понял, что мы попали в глубокую воду. Он пришел на терапию не за исцелением. Он пришел, чтобы выполнить ультиматум жены. Как работающий профессионал, он ускользал из офиса и спускал до тысячи в день на зеленые войлочные столы, а к обеду возвращался, и никто ничего не замечал. Только когда его первому ребенку исполнилось восемнадцать и фонд обучения в колледже был разграблен, все узнали об этой привычке. Джозеф не собирался признавать эту привычку, ее влияние на его семью или то, что в глубине души приводило его на эту ежедневную грань. Каждый, кто имеет дело с любой формой зависимости, знает, что внутри этих людей, отчаянно пытающихся "лечить" свою беду все более дорогостоящими лекарствами, таится целый мир боли.
В моем профессиональном аналитическом тренинговом обществе стажеры после обширного личного анализа и многочисленных экзаменов должны написать пять крупных кейсов, два из которых должны считаться "провальными". В этих так называемых неудачных случаях они должны проанализировать свои собственные недостатки и понять, чему следует научиться в следующий раз. В случае с Джозефом я знал, что имею дело с глубокой тревогой, в ответ на которую он с мостика сознательной жизни упорно шел к айсбергу катастрофы. Он признавался, сам не понимая, что говорит, что готов пожертвовать всем, лишь бы продолжать лечить свою глубокую тревогу. Хотя такой человек создает неприемлемую ситуацию для других, его страдания вызывают жалость. После третьего сеанса, не найдя ни волшебной пули, ни стратегии, как получить пирог и съесть его тоже, он ушел. Больше я его не видел. Встреча с его печальной историей не состоялась, и я могу лишь предположить, что вскоре после этого корабль жизни потерпел крушение.
По моему опыту, такой дистресс среднего возраста, хотя и вызван внутренними двигателями, часто проявляется сначала во внешнем контексте интимных отношений, затем в карьере, а потом в более личных симптомах, таких как депрессия. Интимные отношения, о которых пойдет речь в следующей главе, несут особую нагрузку, поскольку они являются носителем наших глубочайших ожиданий дома, подтверждения нашей идентичности, заботы и защиты. Со временем наши партнеры оказываются несовершенными и смертными, как и мы для них, и мы обвиняем их, когда наши спроецированные сценарии разрушаются и переходят в конфликт.
Точно так же мы часто возлагаем огромные надежды на то, что карьера принесет удовлетворение в нашей жизни, и, как бы хорошо или плохо ни работала наша работа на нас, во второй половине жизни мы часто обнаруживаем, что работаем на нее, испытывая все меньшее удовлетворение, даже когда достигаем своих целей, получаем зарплату и вкладываем деньги в 401(k). Если бы душу можно было так легко купить, то наша культура действительно работала бы. Только бессознательное думает, что это так. Оглянитесь вокруг, загляните внутрь себя. Будьте честны. Насколько хорошо работает материальный достаток? И какова его цена?
Психика всегда говорит, и ее побуждения проявляются сначала в виде тоски, затем более осознанной скуки, затем внутреннего сопротивления нашим сознательным сценариям и, когда мы продолжаем оставаться глухими, наконец, извержения навязчивых чувств и поведения: прерванный сон или привычка есть, соблазн любовной связи, тревожные сны, пристрастие к самолечению и так далее. Общим для всех этих, казалось бы, разрозненных явлений в столь разных жизнях является исчерпание сценариев, которые человек якобы выбрал и ожидал получить в ответ. Мы задаем себе вопрос: "Я сделал все, что от меня ожидали, в соответствии с моим лучшим пониманием себя и мира, так почему же моя жизнь не кажется правильной?" Это болезненные вопросы, и все мы, все мы рано или поздно испытываем это несоответствие между тем, к чему мы стремились, чему служили и чего достигли, и тем, что мы чувствуем в наши личные, искренние моменты.
Однако, хотя эти столкновения внешних ожиданий и внутренней реальности часто выходят на поверхность в хронологическом среднем возрасте, я бы предположил, что каждый из нас переживает вызов души не один, а много раз в течение жизни. Так или иначе, существенный кризис идентичности возникает всякий раз, когда мы переживаем неизбежный конфликт между естественным "Я" и приобретенным "чувством собственного достоинства" с сопутствующими установками, поведением и рефлексивными стратегиями. Иногда этот конфликт возникает, когда мы проходим через развод и обнаруживаем, что наши проблемы сохраняются и в следующих отношениях. Иногда он возникает в результате травматической потери партнера, которая открывает нам зависимость, о которой мы и не подозревали, но которая скрывалась под нашим, казалось бы, независимым поведением. Иногда она проявляется в уходе наших детей, которые несут в себе больше наших проекций и непрожитой жизни, чем мы могли себе представить. Иногда это проявляется в контексте угрожающей жизни болезни или другого столкновения со смертью. (Достаточно обнаружить комок в груди или повысить уровень ПСА, чтобы дно нашей хорошо спланированной жизни провалилось). А иногда это просто приходит к нам как внезапный шок, как закрытый грозовой фронт иногда проходит над солнечным полем, и мы понимаем, что не знаем, кто мы и зачем живем, или начинаем чувствовать, что то, как мы проводим наше ограниченное, драгоценное время на этой планете, может быть действительно поставлено на карту.
Таким образом, независимо от их возраста, я видел, что клиент за клиентом проходил через некий переход, к которому их сознательная жизнь была не готова, в результате чего они были растеряны, разочарованы, дезориентированы. Такие существенные переходы наблюдались повсеместно. Традиционные культуры разработали общинные ритуалы, чтобы поддержать человека, проходящего через такие периоды, и предоставили яркий набор мифологических образов, которые переносили потерю старого в более широкую, трансцендентную сферу смысла. В нашу эпоху, однако, такая поддержка, такие обряды перехода, как правило, отсутствуют или ослаблены, и эти периоды оставляют человека дрейфующим, дезориентированным, одиноким. Эти мультикультурные обряды перехода всегда опирались на трансцендентные образы и священную историю племени; таким образом, человеку говорили: "Мы делаем это, или понимаем это, или практикуем это, как впервые смоделировали и предписали наши боги и наши предки, и наше сегодняшнее повторение отражает и оживляет их значимые парадигмы для нас". Сравните это историческое ощущение большого смысла наших естественных смертей и возрождений с тем, как сегодня, когда структура личности человека распадается, его могут стыдить, высмеивать или жалеть, а друзья и коллеги почти всегда отдаляются от него. Для таких изолированных людей единственным поддерживающим сообществом может стать компания психотерапевта.
Самой общей характеристикой такого перехода, несмотря на то, что каждый из нас воплощает разные истории, является разрушение "ложного Я" – ценностей и стратегий, которые мы выработали в результате усвоения динамики и посланий нашей семьи и нашей культуры. Каждого человека приглашают к новой идентичности, новым ценностям, новому отношению к себе и миру, которые часто резко контрастируют с жизнью, прожитой до этого призыва. В отсутствие племени еженедельный ритуал анализа становится для некоторых поддерживающим обрядом перехода. Хотя этот переход от прежней жизни и принятых ценностей может оказаться пугающим и дезориентирующим, он ошеломляет и в конечном итоге преображает, когда обнаруживается, что нечто большее желает появиться. На этом этапе путешествия человек приглашается ощутить более глубокий смысл своих страданий и узнать, что нечто, превосходящее прежний образ жизни, всегда приходит, когда у него хватает смелости продолжить путешествие по темному лесу.
В такие моменты я не могу не думать о Джулии. Она провела всю свою жизнь, на шаг опережая ярость и депрессию, служа другим. Она чувствовала, что ее никогда не любили саму по себе, начиная с неполноценных родителей, нарциссического мужа и заканчивая нуждающимися детьми. Работа со своими снами, которую она начала делать из любопытства по рекомендации своего терапевта, привела ее к неизбежной встрече с огромным внутренним миром. Ее сны говорили о ее истории, ежедневных дилеммах и непрожитой жизни. Из этого непрекращающегося диалога она ощутила любовь, наконец-то из какого-то источника внутри нее, который заботился о ней, любил ее без всяких условий так, как она никогда не испытывала. Естественно, потребовалось время, чтобы старое эго, движимое страданиями от необходимости служить другим, чтобы чувствовать себя ценным, отпустило старую программу. Если Джулия на самом деле была любима, из какого-то глубокого места, не зависящего от эго, то ее прежнее чувство собственного достоинства и эксплуатация других, которую оно предполагало, тоже должны были уйти. Эта переориентация личности заняла время, потребовала проб и ошибок, но привела к тому, что Джулия стала жить более полной жизнью, в которой ее собственные потребности стали цениться так же, как и потребности других. Мы не можем недооценивать, что даже перемены к лучшему – это прорыв, смерть старого понимания и его постепенная замена чем-то большим.
Некоторые из нас, по понятным причинам, не хотят слышать даже эту весть о надежде и личностном росте. Мы хотим, чтобы наш старый мир, наши прежние представления и уловки были восстановлены как можно скорее. Мы отчаянно хотим услышать: "Да, ваш брак можно восстановить в первозданном виде; да, ваша депрессия может быть волшебным образом устранена без понимания причин ее возникновения; да, ваши старые ценности и предпочтения все еще работают". Это понятное стремление к тому, что называется "регрессивным восстановлением личности", лишь прикрывает растущую внутри трещину, и мы отправляемся на поиски другого паллиативного лечения или другого, менее требовательного взгляда на наши трудности. Вполне естественно цепляться за известный мир и бояться неизвестного. Мы все так делаем – даже когда щель между ложным "я" и естественным "я" становится все больше и больше, а старые установки все более и более неэффективны. Большинство из нас живут, заглядывая в свое будущее, делая выбор в каждый новый момент на основе данных и планов старого, а потом удивляются, почему в нашей жизни появляются повторяющиеся шаблоны. Лучше всего нашу дилемму описал в XIX веке датский теолог Сёрен Кьеркегор, отметив в своем дневнике парадокс: жизнь нужно вспоминать задом наперед, а проживать вперед. Не является ли самообманом продолжать делать одно и то же, но ожидать других результатов?
Для тех, кто готов встать в жар этого трансформационного огня, вторая половина жизни дает шанс вернуть себя. Они все еще могут с нежностью смотреть на старый мир, но они рискуют вступить в более широкий мир, более сложный, менее безопасный, более трудный, тот, который уже неудержимо рвется к ним.
Парадоксально, но этот призыв требует, чтобы мы начали относиться к себе серьезнее, чем когда-либо прежде, но совсем по-другому, чем раньше. Такой самоанализ невозможен без, например, большей честности, чем та, на которую мы были способны. В большинстве случаев мы приходим к этому моменту жизни, имея заниженное мнение о себе. Как однажды с юмором сказал Юнг, мы все ходим в слишком маленьких для нас ботинках. Живя в рамках суженного представления о своем путешествии и отождествляясь со старыми защитными стратегиями, мы невольно становимся врагами собственного роста, собственной широты души, благодаря повторяющемуся, связанному с историей выбору.
Серьезное отношение к себе начинается с радикального принятия некоторых истин, которые кажутся очевидными для тех, кто стоит вне нас, но пугают то неуверенное эго, с помощью которого мы управляем непростой повседневной жизнью. На ум приходит недавний пример. Один мой знакомый присутствовал на тридцатой встрече выпускников школы и, придя домой, сказал жене, что увидел свою возлюбленную детства и хочет прожить с ней всю жизнь. Его охватила мощная проекция на этого сравнительного незнакомца, и он стремился вернуть молодость, надежду и жизненную силу прошлого, а также подпитать фантазию эмоционального обновления. Эти цели не так уж плохи, но фантазия о том, что роман со старым пламенем приведет к этому, – глубокое заблуждение. Все, кто стоит снаружи, знают об этом, но человек, находящийся в тисках этой бессознательной программы, не может увидеть, что внешняя женщина – это суррогат его внутренней жизни, которой он пренебрегал все эти годы. Проблема с бессознательным заключается в том, что оно бессознательно. Многие ли из нас знают достаточно, чтобы понять, что на самом деле мы знаем недостаточно?
Вторая половина жизни – это непрерывная диалектическая встреча с расходящимися истинами, которые, как правило, довольно трудно довести до сознания, пока мы не будем вынуждены это сделать. Эти истины включают в себя признание того, что это наша жизнь, а не чья-то еще, что после тридцатилетия только мы несем ответственность за то, как она сложится, что мы здесь – лишь мимолетное мгновение в крутящемся челноке вечности и что внутри каждого из нас идет титаническая борьба за суверенитет души. Понять эту реальность, жить с ней, принять ее призыв – значит уже расширить рамки отсчета, через которые мы видим свою жизнь. Какими бы скромными ни были наши обстоятельства, нам необходимо выйти на центральную сцену, где на кону стоят большие вопросы и где мы вовлечены в божественную драму. В своих мемуарах Юнг красноречиво говорит о нашей борьбе:
Я часто видел, как люди становятся невротиками, когда довольствуются неадекватными или неправильными ответами на жизненные вопросы. Они стремятся к положению, браку, репутации, внешнему успеху или деньгам и остаются несчастными и невротичными даже тогда, когда достигают того, к чему стремились. Такие люди обычно находятся в слишком узком духовном горизонте. Их жизнь не имеет достаточного содержания, достаточного смысла. Если дать им возможность развиться в более просторную личность, невроз обычно исчезает.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе