Приступая к чтению романа самого "депрессивного" классика русской литературы следует запастись большим количеством душевных сил, которые, впрочем, вам все равно не помогут. К окончанию книги главное самому не лишиться здравого рассудка, последовав примеру здешних героев, которые пропустив себя через мясорубку гнетущей русской реальности, нашли самый верный и однозначный путь - покинуть этот мир навсегда. Но обо всём по порядку.
Сюжет Сюжет и персонажи отсылают читателя к петербургским событиям 1869 года, когда был убит студент Иванов, член революционного кружка "Народная расправа". Руководитель кружка С.Г. Нечаев принял решение об убийстве Иванова после заявления того о выходе из организации. Жестокое преступление должно было кровью связать остальных членов кружка. Убийство было исполнено по-дилетантски, а плохо спрятанный труп обнаружен случайным прохожим. Структура организации состояла из законспирированных "пятерок", находящихся в разных городах. В итоге всех причастных к убийству Иванова и других кружковцев быстро накрыли, а состоявшийся суд приговорил всех активных участников к различным видам наказания.
Достоевский, возмущенный дерзкими лозунгами "нечаевцев" и их жестокими методами "переустройства" решил представить своё видение ситуации, заодно осудив "вдохновителей" "нечаевщины" в лице "русской либеральной интеллигенции". Многие напрямую не относящиеся к кружку герои романа так или иначе имеют свои прототипы в реальной жизни (Тургенев, Карамзин и др.).
Вся история разворачивается вокруг семейств Верховенских и Ставрогиных, проживающих в губернском городе "N".
Степан Трофимович Верховенский - экзальтированный, совершенно оторванный от реальности, не приспособленный к самостоятельной жизни, возвышенный либерал, который на досуге создал в городе политический клуб по интересам, собравший в себя местных сторонников "прогресса" в лице мелких чиновников и студентов.
Антон Лаврентьевич Г-в - рассказчик, ближайший друг и доверенное лицо Верховенского-старшего.
Петр Степанович Верховенский - главный интриган, мошенник, жестокий и лицемерный человек, готовый пойти на всё, во имя исполнения своих тщеславных интересов. Создатель революционной ячейки.
Варвара Петровна Ставрогина - генеральша, помещица, жестокая и деспотичная женщина, патронесса Верховенского-старшего, взявшего на себя обучение ее сына - Николая.
Николай Всеволодович Ставрогин - сын генеральши, молодой дворянин, так пресытившийся жизнью, что для эгоистического развлечения совершал самые гнусные поступки, в результате чего потерял образ человека и превратился в мерзкого бездушного монстра (с чем, впрочем, не совсем согласны окружающие, которых он обольщает своими манерами, образованностью, красотой и другими "светскими" качествами).
Иван Шатов - бывший студент, разуверившийся в идеях революционного движения, славянофил.
Алексей Кириллов — инженер, когда-то "растленный" идеями Ставрогина. Философия в стиле "отрицающий идею бога - сам становится богом". Высшим актом проявления собственной воли считает самоубийство. Сочувствует революционерам и предлагает использовать его смерть для их целей. Остальные герои в той или иной степени служат раскрытию основных персонажей, хоть и заслужили в романе десятки страниц описания их характеров, идей и мотиваций.
Итак, в город возвращается Николай Ставрогин, который в свой прошлый приезд наделал много шума из-за своих наглых выходок, которые позже доктора спишут на "белую горячку". С ним же прибывает Петр Верховенский, который видит в темной личности Николая идеальные черты будущего лжецаря, который при зарожденной сторонниками Верховенского смуте, захватит государственную власть, выбрав в ближайшие сподвижники своего верного "вдохновителя". Сам же Петр признается, что он не социалист, а мошенник. Эта мотивация далеко не глупого Верховенского-младшего крайне спорна и превращает политическую идею романа в какой-то абсурд.
Петр Степанович путем мастерских интриг быстро добивается расположения местных высших чинов, в том числе новой губернаторши Юлии Михайловны фон Лембке и ее мужа, которые попадают под его влияние. Петр строит перед Юлией Михайловной картину всеобщего тайного заговора, в случае удачного раскрытия которого тщеславная губернаторша и ее муж получат высочайшие благодарности из столицы и продвижение по службе.
Попутно Петр Степанович производит в городской среде различные манипуляции, направленные на расшатывание общественного порядка, распространяет прокламации и ведет пропагандистскую работу с "пятеркой", при этом не забывая участвовать в жизни Николая Ставрогина, который стал всё больше отдаляться от роли, назначенной для него в мечтах Верховенского.
В результате действий Верховенского-младшего в городе начинается абсолютный хаос, выступления рабочих, которые оканчиваются огромным пожарищем, кровавыми убийствами и форменным сумасшествием части главных героев, в том числе губернаторши и ее мужа.
В это же время Петр Степанович, опасаясь доноса Шатова, изменившего свои убеждения, замышляет его убийство, которое позволит связать кровью местную "революционную" ячейку. Под вымышленным предлогом Шатова выманивают в лес, где убивают. Один из членов "пятерки" не выдерживает свалившегося груза и сдаёт всех своих товарищей по опасному делу. Петр Верховенский успевает сбежать за границу.
В последней главе-исповеди мы наконец узнаем подробности жизни Николая Ставрогина, который уже настолько раздавлен обстоятельствами и грузом своих прошлых грехов, что начинает видеть галлюцинацию - "беса" рядом с собой. Как оказалось, главной мотивацией мерзких поступков разбалованного дворянина служило удовольствие от осознания их низости. Чувствуя приближающийся конец своей гнусной жизни, "барчонок" не раскаивается в содеянном, а даже пытается бросить вызов обществу, составив и растирожировав листовки с собственным признанием.
Эгоизм и тщеславие жалкой натуры Ставрогина не позволяют ему прийти к полноценному раскаянию и в конец замученный своими галлюцинациями и призраками прошлого, он кончает жизнь самоубийством с малодушной предсмертной запиской в которой просит никого не винить в его смерти...
Вывод. У романа "Бесы" Ф.М. Достоевского есть сильные и слабые стороны. Богатейшая, неповторимая красота русского языка, выверенные до милимметра живые характеры, тысячи мелких деталей, тонкий юмор и вечная интрига в сюжете - всё это в совокупности увековечивает его бессмертные произведения и даёт почву для размышления. В то же время, политические взгляды и религиозное мировоззрение автора, каким бы многоуровневым и взвешенным не было данное произведение, оставили свой тяжелый след на мотивациях героев и представлении происходящего под определенным углом, а где-то были откровенно извращены поступками протагонистов. Политические цели Петра Верховенского явили собой злую карикатуру на реальные вызовы того времени, которые определенные личности пытались решить путем страха и террора. Также под заслуженный удар Федора Михайловича попала бесчисленная толпа либералов, болтающих с кафедры о свободе и совести, которые, в случае пожара, быстро бы покинули "любимое отечество". При этом автор, полностью поглощенный идеалистическими и шовинистическими идеями, метафизическими понятиями о "русском народе-богоносце", "царе-батюшке" и "русской миссии" почему-то проигнорировал главные причины и язвы сословного общества крепостных рабов, униженных, бедных и стонущих от гнёта царского феодального режима в самой "свободной стране на свете", оставив меня перед вопросом "Так кто же породил бесов?..
Политическая штука, антиреволюционная, как при СССР не запретили — загадка. Проводится параллель между нигилизмом и одержимостью. Если вести её дальше, можно оказаться в точке, где все наши демократы, богоборцы и прочие «право имеющие» - опасные психи, исцелять экзорцизмами их и святой водой! Но если даже не доводить идею Фёдора Михайловича до абсурда, то уже та кунсткамера человеческих монстров, что представлена на страницах книги, время от времени вызывает желание перекреститься и плюнуть через плечо. Главный экземпляр «паноптикума» — Ставрогин, он же Иван Царевич, он же Принц Гарри (вернее бы подошёл другой шеспировский принц — Гамлет, вокруг него тоже люди мрут, как мухи). Предполагаемый насильник малолетних, дуэлянт, убийца — словом, незаурядная личность. Тайное общество спасителей народа, показанных на заседании смешными горлопанами без конкретных целей и принципов («Я на вас смотрел, вы не подняли, так и я не поднял (руку)»), - считает Ставрогина своим лидером. Тот ошалело норовит соскочить с пьедестала, но приятели ласково, настойчиво напоминают: ты куда, мол? Убивай уже кого-нибудь! А то народ волнуется. Ставрогин, при всей своей асоциальности, укушенном губернаторе и женитьбе на пари, не слишком рвётся в федьки-каторжники. Бессмысленное разрушение ему теперь претит — этакий аристократический burn-out. Однако вокруг носятся «на бреющием полёте» истребители любящие, а потому — беспощадные. Женщины Достоевского чудовищно жестоки к себе и другим. Мне, как женщине, это и лестно, и позорно. Зачем с Лизой так обошелся, хотела бы я спросить автора, если бы Фёдор Михайлович давал автографы в Кёльне. Но, увы, приходится только делать предположения. Может быть, Достоевский решил, что такая вот Лиза не будет счастлива ни с кем из её одержимого окружения. Вариант «одна и 30 котиков» в те времена ещё не рассматривался, значит... «Бесы» содержат множество прекрасных мелочей, заставляющих их любить, даже не соглашаясь с центральными идеями. Например, «поэзия» Лебядкина — что-то уже за пределами добра и зла, его стихи были бы уместны на форуме по соседству с порошками-пирожками. «В случае, если б она сломала ногу» - ультимативный бред, за который хочется уже не по уху засветить, а участливо по плечу похлопать. Почти Пригов... Восхищает и Варвара Петровна: остра на язык, любую её речь можно растащить на цитаты. Вот, как убеждает Дашу в положительных качествах жениха: «Он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже...» Порадовало очень современное: «А вы эмигрируйте! ...я вам советую в Дрезден, а не на тихие острова. Во-первых, это город, никогда не видавший никакой эпидемии, а так как вы человек развитый, то, наверно, смерти боитесь; во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы». Наконец, повергло в смятение дикое самоубийство Кириллова! Квинтессенция добровольного безумия, воинствующего нигилизма. Читается с не меньшей дрожью, чем ужасы Стивена Кинга. Можно понять суицид от беспомощности, разочарования, усталости или боли, но убить себя, чтобы, проще говоря, показать Богу фигу?! Тут вера посильнее, чем в притче о священнике, который отправляется молиться о дожде в засуху и берёт с собой зонтик... Шатову жалко, может быть, больше всех. За всё это: власть бредовых идей, муки гордости и унижения, роды, злая судьба мужа — Фёдор Михайлович, что же вы так-то!.. Перечитала дважды, чтобы больше не возвращаться.
Очень сложно писать рецензию на романы Федора Михайловича.
«Бесы» – антинигилистический роман. Многие знают, что кульминацию Достоевский взял из реальной жизни – писателя впечатлило «Нечаевское дело», когда лидер революционного общества Нечаев (кстати, очень интересная у него биография, рекомендую хотя бы кратко ознакомиться) решил сплотить группу с помощью убийства.
Мне хотелось бы написать о проблематике, о первой и второй частях, но упорно выходит только лишь: Бесы в романе всюду. Они неотступно следуют за Верховенским. Сидят, свесив ножки, на плече у Кириллова. Диктуют страшные, дикие идеи на ушко Шигалеву. Искушают Юлию Михайловну, тонко играя на ее гордыне. И табуном резвятся в душе Ставрогина, самого противоречивого героя романа.
Третья часть – сплошной Nadryw, вытрясающий всю душу. А зацензуренная в свое время глава «У Тихона» меня окончательно добила. Казалось бы, что же пугает – ведь сейчас каких только ужасов не пишут – а все равно страшно. Ведь, заканчивая читать, понимаешь – а ведь таких Ставрогиных полно среди нас и сейчас. И то, как глубоко сумел Достоевский заглянуть в его душу, в самое нутро, ужасает и восхищает.
Конечно, «Бесов» я со временем перечитаю. Думаю, что это одна из тех книг, в которых открываешь со временем что-то новое. И «Братьев Карамазовых» осилю. Но не сейчас.
«Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный… Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмём? Я поехал — свирепствовал тезис Littr?, что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!» Но это лишь ягодки. Русский Бог уже спасовал пред «дешовкой». Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они ещё попьянее стали! Ах как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идёт…»
Ох, Федор Михайлович, откуда же вы знали?…
Культовый для меня роман. Скажу именно так, ибо не знаю, как еще выразить его значимость для меня. Перевернул сознание, увлек, заставил перечитывать, вдумываться в каждый образ, в каждую мысль. И - думать О СЕБЕ. О себе как о человеке - в самом полном смысле этого слова. Писала по нему курсовую, диплом - тогда, когда практически не было монографий, исследовательских работ.
Образ Ставрогина - самый противоречивый, пожалуй, в литературе (для меня). И самый притягательный...
А еще вспоминается девяти(!!!)часовой спектакль в Малом драматическом театре (СПб). Вырваться из суеты сует и...замереть...замереть на 9 часов вместе с Достоевским. Это дорогого стоит.
Читать или не читать роман Достоевского "Бесы"?
Читать, если вам приятно тонуть в долгих, политически заряженных историях и в печальных размышлениях о человеке.
История "Бесов" начинается так: Антон Лаврентьевич Г-в рассказывает нам хронику драматических событий, которые произошли в губернском городке. Городок этот запущенный, умирающий. Его жители катятся по неким плохо смазанным рельсам: изображают из себя интеллектуалов, но их идеи ветхи и непрочны; собирают сплетни, балуются ни к чему не обязывающими либеральными разговорами; якобы жаждут перемен и справедливости, но никак не могут отличить рудимент от новшества, а достоинства от порока. И в такую питательную среду прибывают два ярких персонажа: Николай Всеволодович Ставрогин и Пётр Степанович Верховенский. Каждый из них по-своему, один коварно и злобно, другой — безразлично и пошло, сгубят несколько жизней, а может быть и весь городок.
Главное, чем для меня ценен роман "Бесы" — это его актуальность и художественная мощь. Да, простите, такое часто пишут про классику. Но "Бесы" настолько охотно и бойко впитываются мозгом, что даже не верится, что роману больше 150 лет. За это время ни красота слога Фёдора Михайловича, ни глубина его размышлений нисколько не поблёкли.
Смыслы "Бесов" так вовсе с каждым новым десятилетием всё жирнее и гуще. Как для человечества, так и для каждого отдельного читателя. Мне вот в школьные времена показалось, что "Бесы" — это ядовитый коктейль из бичевания по государственности и политическим движениям, из всевозможных размышлений на тему Бога, и из триллера, скрещённого с камерным ужасом. В общем, школьницей я прочитала ровно то, что было напечатано на бумаге.
Сейчас, перечитав роман человеком взрослым, я вижу насколько текст насыщеннее и сложнее. В это прочтение меня потрясли несколько тем: 1 - как же легко, увлёкшись какой-либо идеей, довести её до безобразного абсолюта; если не расставить у этой идеи границ, правил, целей, то даже самая благая концепция переродится в монстра. И 2 - это насколько долго и разрушительно могут уживаться в человеке красота и сила вместе с цинизмом и бессердечностью; и не потому, что "жизнь такая", а потому что так характер сформировали общество, родители, наставники. Отдельный поклон Фёдору Михайловичу за всестороннее изучение типажей "Степан Трофимович Верховенский", которые своими размытыми ценностями и вялыми характерами калечат до бесноватости тех, кого обязаны были учить и поднимать на ноги.
Если хотите прочесть кровавый триллер в декорациях губернского городка России 19 века, то читайте Бесы. Роман о том, как в тихое застойное болотце городка попал бесенок и взбаламутил весь честной народ. По итогу больше 10 человек автор замочил разными способами, несколько человек тронулись рассудком (в том числе и губернатор этого городка). Совсем не буду писать анализ и разбор. Об этом уже много написали умные люди. Напишу о том, что тронуло меня. Это чтение не было лёгким и праздным. И дело даже не в количестве трупов. В этом романе описано полно, дотошно очень много людей, не имеющих к непосредственным событиям вообще порой никакого отношения. Люди, события, сплетни, уездные байки. Обычно кто то из героев симпатичен, ты следишь за его судьбой, переживаешь. А тут я для себя не выделила ни одного персонажа, который бы мне был близок и симпатичен, за кого можно было переживать. Все странные. Женщины Достоевского это та ещё песня. Два гадливеньких героя. Ставрогин и Верховенский. Один рос без отца, без матери и без любви, потому нет у него ни любви, ни эмпатии. А второй без отца, был избалован, все дозволено и все прощалось, барченок. От того тоже никогда никого не любил и только и вядумывал, как бы посильнее поразить общество своими выходками. Какие страшные люди. Удивило, как можно было взрослым людям замутить мозг так, что 5 мужчин разного возраста из приличных семей в трезвом уме и при памяти пошли на преступление. Действие в романе происходило в 1869 году, осенью. Верховенский назначил время смуты на февраль, то есть 1870 год. Как мы уже знаем, события произошли. Но на несколько десятилетий позже. Кстати, по тем же идеям. Все сломать. А что дальше делать не понятно. 9/10 обратить в рабство. И вот она райская жизнь. Ну и ещё одно добавление. Без главы У Тихона совсем не раскрывается вся мерзостная суть Ставрогина! Если в вашей книге этой главы нет, то поищите в интернет ресурсах. Есть в открытом доступе.
"Всего труднее в жизни жить и не лгать...и...собственной лжи не верить".
Пожалуй эта цитата для меня является стержневой в "Бесах". Все мы в каких-то смыслах додумываем себя, встраиваем в общество и начинаем больше верить в себя выдуманного. Делаем так как хотим не мы, а сделал бы тот кого насочиняли. Человеку постоянно нужна или сверхидея или нечто великое и неопознанное, чтобы ставить цели как-то постичь неведомое. Вся возня чем мы занимаемся между рождением и смертью, вся эта суета это и есть хоть какие-то движения в данном направлений. Подумать то, что все бессмысленно нам больно и в каком-то смысле вредно.
"Никогда разум был не в силах определить зло и добро или хотя бы отделить зло от добра, хотя риблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал.
Тоже обратил внимание на эту цитату. Ну тут как бы комментарии излишни)
Или вот:
"Есть дружбы странные: оба друга один одного почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут". Это бы я расшифровал так, что человеку недостаточно собственного выдуманного образа, он еще пытается друзьям навязать своего придуманную субличность с которой постоянно несогласен и борется. Мы всегда раздражаемся со всем с чем не согласны.
Именно из-за цитат мне ценен писатель Достоевский. Они искуссно вплетены в сюжет, который меня редко увлекает. Герои глубокие, порой уж слишком гротескные. Как-то мимо меня, смазанно прошла Лиза. Что то не уловил я цельность и логику ее образаю Наверное здесь она была больше тенью второго плана, для того чтобы как-то углубить образ Ставрогина.
Ну, и конечно же, нашумевшая запрещенная глава... Ну что сказать. Представляю какая безструктурная каша и моральная пропасть формировалась в послевкусии от книги, когда во времена цензуры, читатель не мог понять причин поведения Ставрогина. На месте редакторов, если бы уже пришлось соблюсти моральный облик, я бы вырезало некоторое смакование подробностей определенной сцены, а суть оставил. Конечно, это не играло бы такими красками, но все же нужно все-таки было обьяснить и "сумасшедствие" и другие поступки Николая Всеволодовича. Ну и по-человечески жалко ребят, которые ввязались в эти бунтовские авантюры. Как бы не были они романтичны в то время. С высоты веков видно чем все заканчивается. Такие книги просто обязательно читать , чтобы понимать всю "спиральность" исторических событий. Ну это совсем другая история... Здесь я, пожалуй, поставлю точку, так как умников и демагогов в этой плоскости хватает и без меня)
1. Метафизика "бесовских идей" по Достоевскому
«Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за всё время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии»
Вся суть отечественного политика не только 19го, но и 21го века в этом абзаце. И мне кажется, что политикой занимаются и имеют успех в политике, именно те люди, которые не нашли себя в этом безумном мире, и они продолжают бесконечною войну в первую очередь с самим собой, а потом со всеми остальными вокруг, то есть со своими внутренними бесами. Еще одна интересная мысль, причем подтвержденная многократно историей: любая идея, а значит и идеология (даже самая прекрасная и невинная), попадая в голову фанатикам доводится до абсурда и маразма, и становится опасной и в итоге приносит гибель всем, кто приносит гибели, всем, кто оказывается в "радиусе поражения" Так кто же в итоге страшнее все-таки? Умный, интеллектуальный, идеологически и философско подкованный, максимально выдержанный крупный бес Николай Ставрогин, либо мелкий бесенок - глупый, малообразованный, суетливый, зато супердеятельный, восполняющий свою глупость кипучей энергией и не отягощенный всякими моральными и нравственными заморочками Петруша Верховенский? Кстати вопрос этот так же касается и роли Ленина и Сталина в истории России ХХ века
– Вы всё еще в тех же мыслях? – спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностию. – В тех же, – коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие. – Когда же? – еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания. Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место. – Это не от меня, как знаете; когда скажут, – пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностию отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством. – Я, конечно, понимаю застрелиться, – начал опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания, – я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и… смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли? – Вы называете, что это новая мысль? – проговорил Кириллов подумав. – Я… не называю… когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль. – «Мысль почувствовали»? – переговорил Кириллов. – Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу. – Положим, вы жили на луне, – перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, – вы там, положим, сделали все эти смешные пакости… Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли? – Не знаю, – ответил Кириллов, – я на луне не был, – прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта. – Чей это давеча ребенок? – Старухина свекровь приехала; нет, сноха… всё равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячом. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка. – Вы любите детей? – Люблю, – отозвался Кириллов довольно, впрочем, равнодушно. – Стало быть, и жизнь любите? – Да, люблю и жизнь, а что? – Если решились застрелиться. – Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем. – Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? – Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. – Вы надеетесь дойти до такой минуты? – Да. – Это вряд ли в наше время возможно, – тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. – В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. – Куда ж его спрячут? – Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме. – Старые философские места, одни и те же с начала веков, – с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.
– Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! – подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа. – Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов? – Да, очень счастлив, – ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
– Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина? – Гм… я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист? – Видал. – Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист – зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал. – Это что же, аллегория? – Н-нет… зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Всё хорошо.
– Всё? – Всё. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется – всё хорошо. Я вдруг открыл.
– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?
– Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой! – Когда же вы узнали, что вы так счастливы? – На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что уже была среда, ночью. – По какому же поводу? – Не помню, так; ходил по комнате… всё равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего. – В эмблему того, что время должно остановиться? Кириллов промолчал. – Они нехороши, – начал он вдруг опять, – потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого. – Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши? – Я хорош. – С этим я, впрочем, согласен, – нахмуренно пробормотал Ставрогин. – Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. – Кто учил, того распяли. – Он придет, и имя ему человекобог. – Богочеловек? – Человекобог, в этом разница. – Уж не вы ли и лампадку зажигаете? – Да, это я зажег. – Уверовали? – Старуха любит, чтобы лампадку… а ей сегодня некогда, – пробормотал Кириллов. – А сами еще не молитесь? – Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет. Глаза его опять загорелись. Он всё смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было. – Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в бога уверуете, – проговорил он, вставая и захватывая шляпу. – Почему? – привстал и Кириллов. – Если бы вы узнали, что вы в бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в бога веруете, то вы и не веруете, – усмехнулся Николай Всеволодович. – Это не то, – обдумал Кириллов, – перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин. – Прощайте, Кириллов. – Приходите ночью; когда? – Да уж вы не забыли ли про завтрашнее? – Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов – и проснусь в десять часов. – Замечательные у вас свойства, – поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович. – Я пойду отопру ворота. – Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов. – А, Шатов. Хорошо, прощайте.
Конечно понимаю, что Федор Михалыч постарался собрать в романе все, что витало в русских мозгах тех времен, однако спустя 150 лет особо ничего не изменилось. Бесы пришли в начале того века и уходить не собираются до сих пор... и невозможно в нашей стране быть политиком, ни став Ставрогиным или еще хуже Петрушей Верховенским.
– Ни один народ, – начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, – ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» – как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова. – Не думаю, чтобы не изменили, – осторожно заметил Ставрогин, – вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы бога низводите до простого атрибута народности… Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим. – Низвожу бога до атрибута народности? – вскричал Шатов. – Напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться бога истинного, и оставили миру бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов.
Я думаю, что эти два куска романа и описывают две самые популярные и одновременные самые страшные и ужасные (опасные) идеологии ХХ века. Идея человекабога (заметьте именно идея вознесения личности, потому что богочеловек в другой философии определяется своими поступками прежде всего к людям, а не поклонением людей ему) и идея богоизбранного народа. Первая идея соответственно приводит к культам личности, а вторая к национализму и нацизму... ну и в 21 веке эти идеи переживают, по моему, второе триумфальное возрождение.
2. Метафизика "народного бунта" по Достоевскому
Сцена встречи на квартире Виргинского так называемых "революционеров" представляется из себя сборище совершенно случайных друг другу темных личностей, руководимых только скукой и отсутствием внятного занятия и целей в жизни. Студентка - фемиинистка, обуреваемая ненавистью к мужикам и родителям, некий майор в отставке, единственное занятие которого "учить молодежь жить", какие хромые инвалиды, которые надеются видимо поесть нахаляву. Алкогольный "гений" Шигалев, начитавший в пьяном бреду западной философии, выдвигает бредовую демагогическую идею о грядущем разделении человечества на "свободных господ" и рабов, скорее всего Достоевский пародирует в этом моменте Ницще и Фурье, который там упоминается. Понятно, что этот сброд никак не годится на какие-либо акции и может сгодится только на демагогию, пьяные посиделки и мелкий разбой. Вот картинка подготовки великого и бессмысленного "русского бунта или революции" по Достовскому.
Разговор Верховенского и Ставрогина после сходки. По дороге домой после сборища у Ставрогина и Петруши состоялся разговор - выяснение насчет грядущей антиправительственной деятельности, и опять же речь не идет о каких-то политических требованиях, социальных реформах или серьезной стратегии. Опять кураж, бахвальство, стремление разгуляться и пограбить, показать себя и "удивить" в кавычках мир. Бесовщина и только...
И наконец, третья сцена - это шигулинский бунт. Рабочих, которые осмелились выйти на протест, Верховенский с товарищами как стадо баранов пригоняют на площадь перед губернаторским домом. Большинство из них вообще не понимают зачем они пришли, свои требования и протесты внятно и нормально изложить никто не в состояние, им нечего сказать власти. Толпа грузно, тупо и неуклюже топчется в грязи на площади, изредка выкрикивая одиночные и глупые угрозы и лозунги. Власть же оцепила людей полицейской цепью и также не знает чего предпринять, сам губернатор тоже в растерянности и прострации, а газетчики создают в своих воспаленных мозгах живописные сцена народного бунта. Потоптавшись часок, толпа недовольно расходится. Вот метафизика русской революции по Достоевскому
3. Метафизика "абсолютного зла" по Достоевскому
Третья часть романа представляет из себя густое насыщенное инфернальное действо - разгул и кульминацию... Момент, как беснование одержимых достигает своего накала. Начинается все с губернаторского бала, где бесы просто начинают хором куражиться, превращая праздник в вакханалию. Затем кем-то поджигается часть города, и вот в как бы багровых отблесках этого пожара и совершается цепь страшных убийств, и самоубийств и просто огромного количества смертей. Особенно меня поразило сцена доведения до самоубийства Кириллова. Скажу честно, что по сравнению как описывает эти ужасы ФМ, не только Стивен Кинг, но и товарищ Кафка и прочие "романтики ужаса" - это просто детский лепет на зеленой лужайке. Именно обыденность, с которой у Достоевского описана эта кровавая мясорубка, наверно с потрясает и притягивает читателя уже сто пятьдесят лет. И именно у Достоевского и описано то "абсолютное зло", в которое не верят материалисты и оптимисты. Это Зло проникает везде и всюду как некий вирус. Достоевский писал о бесах, которые раздирают и одерживают именно русского человека и русскую нацию, однако мне кажется, что это применимо вообще к человечеству в целом. "Абсолютное зло" - это именно бес внутри каждого живого человека - некая темная деструктивная сила, и в момент слабости или какой-то духовной пассивности она выползает в человеке наружу. Эта мания насилия, злости и ненависти, мания разрушения и уничтожения всего и вся. И любая личность, обладающая потенциями и харизмой лидера, одержимая этим бесом, заражает им как вирусом всех вокруг. Начиная это какого-то локального коллектива типа семьи, и кончая иногда целыми городами и нациями. И когда эти вырываются наружу и набирают силу, как воронка тайфуна, втягивая в себя целые общности и государства - это самое страшное испытание для человечества. Причем бесы всегда бьют по самому слабому и неуловимому, они просто уничтожают в человеке моральные предохранители (тормоза) и нравственные ориентиры, и человек легко идет на поводу своим самым темным желаниям и фантазиям. Наверно об этом роман Достоевского...
Недавно я прочитала две очень сходные книги: "Первое правило волшебника" Т. Гудкайнда и "Бесы" Достоевского. Не знаю, говорил ли о таком сходстве кто-нибудь Гудкайнду, но уверена, в наши дни Достоевский был бы писателем-фантастом. Говорить обидную правду - привилегия шутов от литературы. А криминология сегодня, кажется, не в лучшем положении, чем при жизни писателя.
Дьвол в Нижнем Деталево
Оба автора, Достоевский более выраженно географически, Гудкайнд - мистически, использовали древнюю, но всегда тревожную фабулу "Дьвол приходит в город". С легенды о тонущем Исе и гаммельнском крысолове она очень популярна, а может есть и более ранние образцы. Мы встречаемся с дьяволом в "Нужных вещах" и "Иствикских ведьмах", "Ревизоре" и "Мертвых душах". Не всегда дьявол приходит в провинцию, его видели и в городе ("Мастер и Маргарита"), но, заметьте, повлиять на ВСЮ Москву Воланду не удается. У провинции для сюжета (и дьявола) есть несколько преимуществ. Столица всегда более или менее одна. Скажешь: набережная, центральная площадь, и читатель уже знает, о чем речь, и не прощает ошибок. Провинциальных городов сколько угодно, так что всегда можно добавить еще один. Затем в столице сложно собрать в один сюжет такой парад общественных типов. Да они разбегутся по клубам, и тусовочкам, и никогда друг о друге не узнают. Как писал Толстой: "В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил".
В маленьком городе все знают всех, от аптекарши до губернаторши. Потому и каша в этом котле заваривается быстрее. Сегодня дьявол, верно, заходит и в "Одноклассники". Здесь же можно обеспечить замкнутость места действия, вообще оторвать его от остального мира ("Буря столетия", "Томминокеры"). Наконец, именно из-за замкнутости, из-за обязательной темы "побега из провинции", маленький город символизирует собой весь мир, всю Землю, откуда некуда деваться. И на этой ущербности и недовольстве дьвол и автор тоже могут сыграть.
Белый дракон мира
Раз речь идет о дьяволе, значит дело в искушении. Искушать можно разным, но и Гудкайнд и Достоевский выбрали искушение высшими идеалами, благом общества. Даркен Рал вваливается в Срединные замли с обещаниями мира, братства и всякого такого. Петр Верховенский мутит воду, обещая какую-то невообразимую перестройку всего общества, после которой тоже явно будет всем зашибись, но сначала надо кого-нибудь убить. Конечно, сказочному-то злодею полегче: можно окружить себя свитой некрогомопедофилов и вырывать людям кишки для выяснения своего гороскопа на неделю. Зато Достоевский показывает, как дьявол работает на самом деле. В каких тяжелых трудовых условиях, в окружении неврастеников, шпионов и маниаков.
Бесам Достоевского легче в другом отношении. Ну не принято в классической литературе запускать в сюжет героя, которому на каждом шагу подкидывают какой-нибудь совет или ценный артефакт, включая меч Истины, наделенного многими полезными талантами, включая сильнейшую интуицию, и, что самое важное, высочайшую мораль. Нет, у Достоевского есть герой, которому всякий готов сказать: "Ты - исключительная личность, Ричард Николай Ставрогин", но этот персонаж только и делает, что увиливает от своего долга. Вместо старого волшебника у нас есть престарелый, трусоватый либерал-приживала. Женщины же выводятся из игры с первых ударов: кого-то пришибает "женский вопрос" (многочисленные студентки), кого-то (Лиза, Дарья, Марья) влюбленность, кого-то (книгоноша) просто неподходящее для активных действий социальное положение. Вот фентези хорошая штука, можно быть девочкой на побегушках - и спасти мир.
Пра-а-а-вильно рассуждаешь, дядя Федор
Может быть, вы обиделись за Зедда? Нехорошо все-таки сравнивать доброго и всемогущего, хотя и несколько безответственного мага, с никудышным Степаном Трофимовичем. Я свела их вместе потому, что именно они отвечают на главный вопрос, который точно мучает, по крайней мере, всех читателей "Первого правила". Что же это за такое правило? Что помогает дьяволу, как же так зло все время выигрывает? Процитирую их ответы.
Зедд: - Первое Правило Волшебника гласит: люди глупы... Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно. Люди глупы и могут поверить лжи, оттого, что хотят верить, будто это правда, или оттого, что боятся знать правду. Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят. Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить.
Степан Верховенский: - Еще сегодня утром лежала предо мною одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос: "В чем ее тайна?" Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта - в их глупости!.. Да, господа будь это глупость умышленная, подделанная из расчета, - о это было бы даже гениально! Но надо отдать им полную справедливость: они ничего не подделали. Это самая обнаженная, самая простодушная, самая коротенькая глупость... Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк увидал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении: никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо. "Не может быть, чтоб тут ничего больше не было", - говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками - эффект достигнут!
Оратора после понесло, да и высказаться ему не дали, состоялось что-то вроде бала сатаны, но ужасно по-глупому. И тут сразу же дается ответ на вопрос, почему зло, такое умное, все-таки проигрывает. Из-за того же Первого правила.
И Рал, и Верховенский переоценили собственный ум, переоценили глупость всех вокруг. О Верховенском Достоевский пишет, что тот сразу же составлял себе представление о человеке, и не отступал от этой картины, а люди то и дело действовали, может, все также глупо, но по-иному.
И так как меча Истины нам не дают, надежду оставляет только Достоевский. Что дьявол прыгнет выше головы, что бесы перегрызутся между собой. Так они обычно и делают. С другой стороны, ожидающий трупа врага на берегу, рискует дождаться его похоронной ладьи, провожаемой со всеми почестями, когда самому ждущему будет лет под сто.
Что делать? Я пока не знаю.
Великолепный роман. Как вино. Чем позже ты его пробуешь, а потом повторяешь пробу, тем более удивительные грани открываешь. Взять хотя бы мой весенний опыт. Я можно сказать практически не уловила граней острой социальной темы романа, она прошла для меня фоном. Сейчас, переслушав и перечитав, пришло понимание насколько была поражена и травмирована империя подрывной революционной деятельностью даже на примере этого вымышленного города и таких же революционеров, даже если их прототипы были такими реальными для Достоевского.
Насколько извращённой и жестокой может стать идея в фанатичных руках. Или избалованных бездельем умах? Ведь герои даже не пытаются выдать идею революции за благо. Они думают об этом благе как о чём-то будущем, вероятно, уже после них. "Всё это будет после", - нашёптывает им бес революции. И выпущенные на волю, они рушат мир. Со своими язвами, грехами, но такой привычный для многих. Но даже эти многие не способны остановить беснующуюся пятёрку. Всего лишь пять человек, а бед они натворили несоизмеримо больше собственной важности и зрелости. Конечно они хотят казаться значительнее, поэтому в этот круг ада втягиваются остальные персонажи. И насколько искалеченными они из него вырываются (если повезёт).
Но вся история началась намного раньше, до того как Петруша Верховенский стал сколачивать свою "пятёрку". Вся бесовщина романа исходит от Николая Ставрогина. Он - дьявол и идол. По крайней мере таким рисует его себе каждый из "пятёрки". Вообще там очень многие придумывают Ставрогина по своим лекалам, никто не хочет видеть в нём его самого. И только любопытствующий читатель пересчитает все его "переломы". И вот таким его хотят сделать знаменем революции. Уже совсем не такого, как раньше. Но все хотят. Каждому нужен его Ставрогин. Конечно личную драму Николая Всеволодовича можно вообще не воспринять, но для Достоевского он был "любимым ребёнком". Я не могу не привести очень меткое описание Н. А. Бердяева:
Это - мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления
Пусть мы и застаём все эти стремления уже "мёртвыми" в самом Ставрогине, но они полыхают в окружающих его бесах. Его черты есть в каждом из них, они доведены до какого-то мрачного, безвыходного абсолюта, который рано или поздно опустошит каждого. Быть может хотя бы тогда они поймут, как всей своей мощью эта бесовщина внутри главного беса убила его самого.
Не менее трагичен образ Шатова. Он кажется останется для меня суровым, диким, но нежным медведем. Его сцены с женой вызывают очень яркий взрыв чувств, потому что разыгрываются на краю пропасти. Той самой, откуда прыгали в море свиньи, одержимые бесами. И меланхоличная, загнанная в угол Мари не может не вызывать сострадания. Короткая искра их счастья больно жжёт, прежде чем погаснуть.
При повторном слушании и чтении, я разглядела и образ Алексея Кириллова. С его странной человеко-божественной мыслью, с этим крепким чаем по ночам. В нём действительно есть что-то одержимое (как у всех героев), при этом что-то по-прежнему невинное, детское в обречённых при этом чертах и мыслях.
А вот кто вовсе не трагичен, а скорее подобен трикстеру, герою на театре масок - так это Петруша Верховенский. В его образе собрано всё то противное душе автора, что пришлось пережить, мнение, что сложилось о революционной, да либеральной мысли тоже. Пётр Степанович хочет стоять рядом со своим "идолом", довести идею до конца. Воплощённая червоточина революции. Он одновременно всё и ничто. Его игра с людьми и обесценивание жизни вызывает омерзение пополам с восхищением от исполнения. Наверное, он задумывался Достоевским, как персонаж, который не должен и не может вызывать сочувствия.
Героини у Достоевского конечно странные, их он любит много меньше, чем героев. Их портреты пытаются разниться, но похожи. Выделяется только, пожалуй, генеральша Ставрогина. Может это у них семейное. Варвара Петровна вот ни разу не меланхоличная. Её характеру удаётся держаться до конца. Даже в минуты трогательного прощания со Степаном Трофимовичем. Но как и все, да ещё и по-матерински, она в преклонении перед сыном. И даже её судьба разбита от любви к нему.
Сложно конечно писать рецензии на классику. О ней столько сказано, что кажется любая мысль будет абсолютно не нова. И в тоже время она растравляет что-то в читательском уме, вдохновляя писать.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе
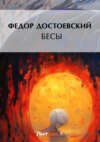
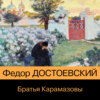



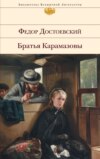
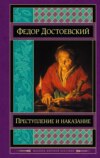
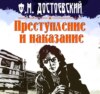



Отзывы на книгу «Бесы», страница 11, 356 отзывов