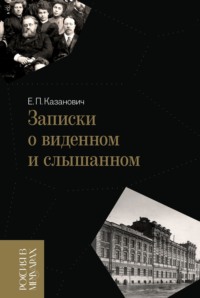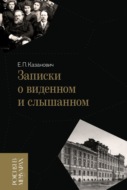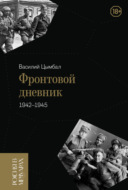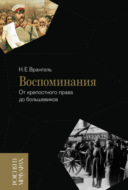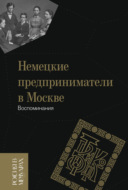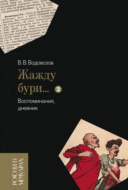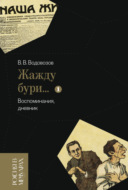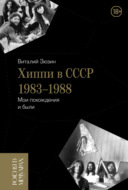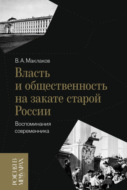Читать книгу: «Записки о виденном и слышанном», страница 3
– Позвольте с вами познакомиться. Я – Щербатской.
Я оторопела.
– Слушательница Высших женских курсов Евлалия Павловна Казанович, – отрапортовала я, как солдат по начальству, и протянула ему руку.
– Как вам понравился доклад? Вы занимаетесь философией? и пр. и пр. – начал Щербатской обычные в таком случае вопросы.
Я отвечала, точно ученица урок, конфузясь и путаясь и вместе не желая показать этого, старалась непринужденно держать себя, смеясь не вовремя и громче, чем это полагается.
Поговорив таким образом, мы расстались.
В следующее заседание Щербатской пришел опять и, уже как знакомый, подошел ко мне и начал разговор.
По окончании Щербатской попросил разрешения меня проводить.
Курсистки над всем этим посмеивались, А. И. тоже, а я была вполне чиста душой и ничего не понимала.
Еще в следующий раз он, прощаясь со мной возле моего подъезда (2‑я линия, д. 33), попросил разрешения прийти. Я его, разумеется, дала, и вот в один прекрасный вечер Щербатской пришел. Этот вечер был не лишен своего комизма.
Дело в том, что я жила тогда у милой старушки М. В. Небольсиной31.
Узнав, что ко мне должен прийти профессор, она заволновалась (у меня тогда не бывал ни один мужчина и только две-три курсистки, как и все первые года моей жизни в Петербурге, до переезда сюда мамы и Тото, а еще правильнее – до моего переселения к Чернякам).
– Да вы его примите, конечно, в гостиной. Неприлично, чтобы молодая девушка принимала мужчин в своей комнате. А Мина вам приготовит в столовой чай.
Я поблагодарила.
В назначенный вечер часам к 10 явился Щербатской. Мария Васильевна распустила уже шнуровки корсета (ей было тогда года 72, но она всегда носила корсет) и волосы, думая, что Щербатской не придет. Каков же был ее переполох, когда раздался звонок в дверь и в передней послышался голос: «Евлалия Павловна дома?»
– Мина, Ми-на, помоги мне одеться! – И по окончании туалета милая М. В. торжественно вплыла к нам в гостиную, поздоровалась с Щербатским, сказала ему несколько любезных слов и затем так же торжественно прошла в кабинет, помещавшийся рядом с гостиной, и села там за книгой, почти против дивана, на котором я сидела.
Когда Мина доложила, что чай подан, М. В. вышла из кабинета, пригласила нас в столовую, и торжественное шествие с М. В. впереди и Щербатским позади чинно потянулось через узкий переход в столовую. Там было такое же чинное чаепитие и чинные разговоры, после чего Щербатской откланялся и уехал.
Я видела, что он был не таким, как в Философском обществе, как будто был чем-то смущен, и мне казалось, что он совсем не того ожидал. А чего? Право, не знаю и сейчас. Вот хочу узнать, что он такое; только редко вижу его теперь.
В гостиной мы все время говорили о философии, немецкой и индийской, конечно, об открытом им Канте и пр. В столовой – о деревне – он помещик32 – и о возвышенности профессорских обязанностей. М. В. ведь либералкой была в своем кругу!
С тех пор Щербатской больше не приходил. Заседания Философского общества закончились, и я скоро уехала домой на лето.
На будущий год, когда приехала мама и Тото, я с последним отправилась на одно из заседаний. Щербатской был там. Я познакомила его с Тото и звала приходить опять. Он обещал, но не приходил. Затем еще позже он убеждал меня заняться санскритским языком, чтобы изучить потом индийскую философию, предлагая свои услуги. Я сказала, что философию оставила, т. к. не чувствую в себе никаких способностей к отвлеченному мышлению, и занимаюсь литературой. Он посмотрел на меня как бы с сожалением:
– Надеюсь, хоть не русской, по крайней мере?
– Именно русской, – рассмеялась я.
– Неужели она может быть интересна! – с искренним изумлением отозвался Щербатской.
Вскоре он уехал в Индию и пробыл там больше года, кажется. Вчера я с ним виделась в первый раз по приезде.
24/XI. [Вчера утром, только встала и немытая, нечесаная села за письменный стол использовать свою свежую голову, – звонок.
«Пожалуйте к телефону».]33
– Плохо.
Пауза. Неловко по телефону выражать сожаление.
– Так я вас буду ждать. приезжайте, как только можно будет.
– Приеду. До скорого свидания.34 его немножко и еще подразню при случае. Впрочем, ему тогда действительно не до меня было.
А как мы с ним интересно познакомились. Но об этом как-нибудь в другой раз, сейчас надо кончать работу…
Вчера зашла без меня Маша Островская35 и прочла мое «творение», как она выразилась, и на клочках бумаги написала свою резолюцию и отдельные замечания.36
25/XI. Хорошо написана книжка Ковалевской «Нигилистка»37. Обнаруживает большой литературный талант и, что для меня особенно приятно, – действительно большой, настоящий ум. Есть, конечно, погрешности, но их, думаю, можно объяснить неопытностью автора в этого рода творчестве. Читала ее, вернувшись от Пругавина38, так что заснула только после 3‑х часов.
Вообще, я плохо себя веду за последнее время. Ложусь очень поздно и встаю, конечно, поздно. Пока чувствую себя великолепно, но знаю, что, едва кончу свою теперешнюю работу, наступит реакция: тоска, меланхолия, общее отупление… брр!..
Было у Пругавина довольно скучно, или, может быть, я сама была уставши сильно, только разговор шел вялый и неинтересный.
Придя, я застала Островскую39 и племянницу Пругавина, курсистку-математичку40. Говорили обо всем понемногу и ни о чем в общем.
Часов в 10 пришел толстовец Трегубов (кажется), а еще позже – некто Левицкая41, социал-демократка, знаю, потому что она пришла к Пругавину прямо из школы для рабочих. Трегубов волновался немного из‑за предстоящего в Москве процесса трезвенников42 и, конечно, защищал их, говоря, что ничего подобного нет.
– Вас хотят в эксперты на суд просить, – добавил он, обращаясь к Пругавину.
– Ну какой же я эксперт, да, – отозвался тот, – я не поеду!
Я спросила Александра Степановича, действительно ли у хлыстов бывают радения, описанные Печерским и Мережковским43, он с негодованием отвергает это, говоря, что «повальный грех» – это безусловная ложь, но что кружения, по всей вероятности, бывают, хотя сам он их и не видал, и в некоторых наиболее рьяных сектах хлыстов после религиозного экстаза, может быть, и наступает эротическое настроение, но что это во всяком случае отдельные случаи и обобщать их никак нельзя.
На мое замечание, что мне кажется психологически возможным (и даже, пожалуй, естественным, добавляю сейчас) при таком страшном напряжении нервной системы, при некультурности большей части хлыстов, при тесном взаимном соприкосновении двух полов и при их взглядах на брак – подобный переход, – Пругавин ничего не ответил.
Я ничего уж не сказала о том, что считаю возможным и так называемый повальный грех. Трегубов (?) все время молчал, и я не могла узнать, что он такое, хотя его большой лоб на большой голове, длинная борода с проседью (?), нежный цвет кожи и какие-то детские черты лица говорили, что это мечтатель, утопист и человек честный и хороший. Но, несмотря на его высокий лоб, не думаю, чтобы он способен был inventer la poudre44.
Я была у Пругавина третий раз вчера, но интересно мне было только 1‑й раз, когда там был Данилов («человек без шапки»)45. А политических разговоров этих – собственно, политических не в смысле состояния политики в настоящее время, а бесконечные перебирания всех эмигрирующих и нелегальных деятелей и всей их деятельности прошедшего и настоящего времени, – я не переношу. Может быть, это и узко, и нечестно, и обнаруживает атрофию гражданских чувств во мне (в этом последнем, впрочем, сильно позволяю себе усомниться), – пусть, но это так. И меня, как и Толстого (да простится мне такое сопоставление!), можно упрекнуть в том (как это и делал Д. Н. Овсянико-Куликовский по отношению к Толстому, не ко мне, конечно), что для меня существует только барин – я расширю этот термин до понятия «умственного аристократа» – и мужик; мещанина же и рабочего (фабричного, конечно), словом, все, что можно назвать третьим сословием (может быть, исторически и неправильно применяю термин сейчас), – я буквально не перевариваю. Конечно, я могу им сочувствовать, желать им всяких благ, сама даже более реально могу отозваться на помощь, – но интереса они для меня никогда не представят никакого, и я с неизмеримо большим удовольствием, большей любовью и непреклонностью отношусь к мужику, чем к фабричному. С первым у меня будет духовная связь, а со вторым – ровно никакой. И потому я существом своим не могу сочувствовать так называемому революционному движению, хотя умом понимаю его необходимость и во многих случаях – благодетельность. – Сердце мое не с вами!
Зашел разговор о Данилове.
А. С. немножко над ним подтрунивает, собственно, над его «религией знания», но признает также, что он интересный человек. А я так очень хочу еще раз увидеть Данилова и, если выйдет случай, позову его к себе. Меня он точно интересует.
Между прочим, А. С. на вопрос, как он живет, рассказал следующее:
– Живет он прелюбопытно. Я даже раз съездил к нему нарочно посмотреть его обстановку (sic! Маша [Островская] называет его, Пругавина, чудесным человеком; согласна, но это «раз съездил посмотреть его обстановку…» (!)). Забрался он куда-то в самый угол Малой Охты (или Большой, не помню), да. Вхожу к нему, да. Комната – какой-то сарайчик: стол, стул, да, и книги. А спит он! Просто два ящика, да, и между ними доски; на них какое-то невозможно рваное одеяло. И это все. Под головами – тючок какой-то, а то и просто книжка, как он говорит, да. Впрочем, недавно ему подарил кто-то старое одеяло, и он мне его с гордостью вытащил показать. Питается отбросами, да. Когда я пришел к нему, у него что-то варилось на керосинке и издавало такой ужасный запах, что противно было нюхать, не то что подумать съесть, да. Оказывается, это щавель и крапива, нет, щавелю даже не было, только крапива; и больше ничего, да. Маленький горшочек, на несколько дней, как он говорил. Предложил мне попробовать, да… – улыбнулся Пругавин.
– А хлеб он ест? – спросила Маша.
– Да, кажется, и еще молоко пьет. Горячую воду с солью, как вы видели, и хлеб. Вот еще молоко. И то это уж какие-то знакомые его сжалились над ним и заставили его молоко пить, да. Это они, кажется, и одеяло ему подарили. Видно, все-таки есть люди, расположенные к нему. Недаром он хвалился, что у него друзья есть.
– Почему же им не быть? Ведь он, кажется, очень хороший человек, и во всяком случае редкий, – заметила я.
– Хороший-то он хороший, только с ним трудно, да. Колючий он.
А. С. говорит обыкновенно тихим, спокойным голосом, с маленькими остановками, и часто улыбается. Улыбка у него хорошая, и человек он, верно, хороший, только все же эгоист. Из добрых хороших эгоистов. И талантов особых за ним нет, несмотря на его многочисленные писания. Рассказывает хорошо: живо довольно, занимательно, иногда с маленьким добродушным юмором, но ум у него тоже, по-моему, небольшой.
Вот интересно бы мне с кем встретиться, это с Хилковым. Это, верно, интересный человек и, думаю, хорошая душа. Данилов как-то отзывался об нем как о человеке с мятежной, вечно ищущей душой, а Пругавин немножко подсмеивается над его исканиями и думает, что это показывает неглубокого человека. Я думаю, что скорее прав Данилов, а Пругавин этого не может понять. Вообще, Данилов, по-моему, чуткий человек и умеет понимать людей. А его религия знания – это одно из его чудачеств и, по-моему, искреннее.
Может быть, и есть у него немного рисовки и mania grandiosa46, как говорит Маша, но в большинстве своем он искренний чудак, мне кажется. Положим, я могу ошибаться, т. к. видела его всего один раз.
– А, вот хорошая барышня! – сказал он, когда я вошла в комнату и, здороваясь, назвала себя.
– Почему хорошая? – спросил Пругавин улыбаясь.
– Высокая. Я высоких люблю.
Когда я назвала свою фамилию, он переспросил, а затем повторил ее про себя.
Не могу сейчас воспроизвести всего, что он говорил, т. к. я была страшно уставши (вообще, я ужасно устаю к вечеру и теряю всякую способность мыслить и воспринимать, в особенности если я в это время нахожусь в обществе) и потому хотя слушала с интересом, но на следующее же утро все забыла. Помню, что говорил о своей религии знания, о сионистах, у которых он, кажется, недавно был; о якутах, наконец, о заграничной эмиграции.
Помню имя Гоца, которого Данилов называет Карлом XII, говоря, что как тот руководил со своих носилок боем одним мановением руки, так же точно руководит и Гоц русской революцией47. А относительно того, как Хилков стал из религиозного сектанта анархистом, Данилов рассказал следующее. Случилось у Хилкова какое-то несчастье в жизни, не помню только какое. Вот он и поехал за границу рассеять немного свое горе. Попал в Швейцарию, ну и в нашу эмиграцию, конечно. «А там “бабушка”, – вел Данилов свой рассказ («бабушкой» эмигранты называли народную социалистку старуху [Брешко-]Брешковскую). – У “бабушки” “внучки”, птенчики все желторотые, из России наехавшие. Так все и ютятся вокруг нее. Ну у “бабушки” там хозяйство свое – дом, а хозяйничают свои же; и так это хорошо, по-семейному: – Катенька, не хочешь ли курочки ножку или крылышко? – Верочка, выпей кофе чашечку. – Муся, съешь шоколаду. – А в соседней комнате портрет “полковника”48 висит, и в него упражняются в стрельбе из игрушечного пистолета с резиновой (пробкой) пулей. И все этак ласково, любовно, по-матерински. А за курочкой идет прокламация, за шоколадом – бомба, и вся эта земская молодежь с головой в омут за “бабушку” и за бабушкино “дело”, конечно. Вот и попал Хилков к этой “бабушке” и размяк душой. Все людей искал, любви между людьми, духовной связи, и нашел. Тут уж до бомб и анархизма – один шаг. А душа у него у самого чуткая, нежная, любящая, и я вполне понимаю, как мог в нем произойти подобный переворот», – закончил Данилов.
Закончу и я. Надо кончать свою работу49 и тогда садиться за экзамен.
Боже, я никогда не кончу курса?.. Это меня приводит в отчаяние! «Работа» настроила меня на такой лад, что я с ужасом думаю об экзаменационных книгах. Вообще, эти две вещи я совмещать не могу и потому в большинстве случаев не делаю ни той, ни другой: за одну не позволяю себе браться, пока не кончу курсов (вот, курс не выдержала, «сорвалась»). К другой не могу себя принуждать без того, чтобы не впасть в меланхолию.
27/XI. «Работа» кончена и сегодня или завтра будет отдана Пругавину. Что-то будет, что-то будет!..
А вот с другой работой так история! Прихожу вчера в Академию наук повидать Нестора Александровича Котляревского50.
[…]51
Собираюсь уходить:
– Постойте минуточку. Ответьте мне только на один конфиденциальный вопрос.
Подходим к окну в маленьком старом конференц-зале с портретами.
– Что такое Лидия Семеновна52 собой представляет?
Я удивлена и сначала не понимаю, в чем дело.
– Да видите ли что. Она мне прислала свою рукопись – помните, я еще посадил ее при вас? Я не знал, что вам ничего не известно. Ну, читал я ее, читал, и, право, не знаю теперь, что с ней делать. Несколько страниц там, правда, недурны и написаны с подъемом, а все остальное никуда. Я ей и посоветовал выписать только их. Теперь она мне их прислала опять, и мне хотелось бы знать, очень ли на нее подействует, если ей рукопись будет возвращена. Как, у нее большое самолюбие?
– Думаю, да. Впрочем, она в большой мере чудачка.
– Это последнее заметил и я. Но дело в том, что я совершенно не представляю себе, что я могу сделать с ее рукописью? Теперь я послал ее в одну редакцию; если оттуда вернут – пошлю в другую, но больше я ничего сделать не могу. Как бы вы ей это как-нибудь передали?
– Да, это будет жаль, тем более что она уверена, что то, что вы признали годным, уже действительно хорошо и, значит, имеет шансы быть напечатанным. Конечно, как-нибудь подготовить ее к этому я могу, а только это неприятно.
Я ушла.
А чудачка эта Ли, действительно! И как курьезно она с этой рукописью поступила.
28/XI 1911 г. Перебирала сегодня отцовские бумаги и нашла среди них свой старый перевод с французского «Черной дамы», сочинения для детей неизвестного автора. Я сделала его еще будучи в гимназии и отправила к отцу в первый год его приезда в Петербург, в надежде, что он его устроит куда-нибудь. Конечно, он его, верно, никуда и не показывал, т. к. перевод, вероятно, достаточно плох. Сейчас нет охоты перечитывать53.
И еще перевод с немецкого Фортлаге «Изложение и критика доказательств бытия Божия»54. Это уже труд первого лета по поступлении на курсы, но тоже, верно, плох невозможно, т. к. от философии я еще тогда только начинала вкушать, и воображаю, какую галиматью там напереводила!
Для чего держал их отец так долго у себя?55
Только что отнесла Пругавину свою рукопись и как-то совершенно спокойна. И к чему только была эта таинственность, это название «Работа», чуть ли не с большой буквы и уж конечно в кавычках! Терпеть не могу в себе этой манеры заигрывать; в особенности с собой она глупа. К сожалению, она даже является одним из признаков…56
После обеда. А говорил мне старообрядец на пароходе вот что приблизительно:
– Ты хочешь поговорить со мной? Изволь, милая; только приди попозже, я теперь не свободен.
Оказывается, старик молился.
Часа через два спускаюсь опять в 3‑й класс и нахожу старообрядца на прежнем месте. Он уже отмолился и складывал лестовку57.
Было душно. От машины воняло, и махорка прибавляла свое. Пассажиры осматривали меня с недоумением: «Чего, мол, такая пришла; что ей тут надо?»
Я села рядом со стариком.
– Ты что ж, веры ищешь?
– Нет, дедушка, я Божьих людей ищу, да вот еще интересуюсь, кто какой веры.
– Так. Никонианка?
– Никонианка.
– Ну что ж! По мне во всякой вере спастись можно, надо только жить по-Божьи.
– Конечно, дедушка, и я так думаю. А не скажете ли вы мне, зачем надета на вас эта пелеринка? Вы ведь старообрядец?
– Вишь ты, как ты сейчас спрашиваешь! Сразу уж до сути доходишь! А ты погоди, мы с тобой прежде так потолкуем. Хочешь, что ли?
– Конечно, дедушка, спасибо.
– Ох, как это ты нехорошо молвила!
– Что, дедушка?
– Да кого ты сейчас назвала?
Я с недоумением посмотрела на него.
– Никого не называла.
– А последнее-то слово твое. Не знаешь разве, кто Ба был?
– Какой ба? – недоумевала я еще больше. – Вы это про «спасибо» говорите?
– Ну-у. Вот и все вы так, никониане, говорите. А забыла разве, что Ба был идол языческий, и когда ему молились, так говорили «спаси Ба»? Значит, выходит, и ты идолу молишься? А ты скажи: «спаси тебя Христос», или просто – «Бог спасет!» Ну, скажи-ка.
Я невольно улыбнулась и повторила за ним обе фразы.
– Вот как язык-то к скверному привык. Неловко тебе христианское-то слово и молвить даже, – укоризненно покачал старик головой. – Ну да ничего, попривыкнешь. И помни, милая, что когда так говоришь, так Бога истинного призываешь, а когда так, как давеча, так нечистого тешишь. Вот это тебе на начало.
– Буду помнить, дедушка, – покорно отозвалась я.
– То-то, милая, помни. Что ж, продолжать дальше-то? Хочешь еще послушать?
– Непременно, дедушка, непременно.
Мне было смешно и в то же время интересно, что будет дальше.
– Это хорошо, что в тебе покорность есть, – довольно отозвался старообрядец. – Ну так слушай. Ты знаешь, как читается первая заповедь, данная Господом Богом Моисею на Синайской горе?
– Знаю.
– А ну прочитай-ка.
Я прочла.
– А теперь скажи, много ли ее люди исполняют? Подумай, ты сама исполняешь ли? Там что сказано? «Не будет тебе Бози инии разве мене», а ведь вот у вас в городе и тиатры себе понастроили, и музыку завели, и за деньгами гонятся, и за платьями, и за именьями, и за всем, что хочешь. Только Бога истинного забывают! Вот в субботу или в праздник, скажем, нет чтобы взять священное писанье да почитать, да подумать о Боге, помолиться, побыть в духе с Богом, – а у вас сейчас разрядятся, разоденутся, обвесят себя золотом и бриллиантами и наместо церкви – в тиатр али на бал, аль еще куда в гости. А что сказано? – «Помни день субботний, еже святити его», и «день же седьмый – суббота Господу Богу твоему». Ведь так я говорю, делают у вас так?
– Делают.
– И ты делаешь?
– И я делаю.
Меня начинала забавлять моя нечаянная роль кающейся грешницы, наставляемой на путь истины.
– То-то, милая! А это и не по-Божьи. Ну потом вот еще про золото да про бриллианты эти самые. Ведь вот иная, которая так для забавы одной или для прельщения обвесится ими, а бедный человек возле нее с голоду помирает. Ты вот, скажем, идешь в тиатр веселиться, а по дороге нищий у тебя попросит, так ведь ты и не посмотришь на него, и подосадуешь еще, зачем помешал веселию твоему. А человек этот, может, с голоду помирает, может, дети у него дома без хлеба сидят, а ты на веселье идешь. Бывает, что и есть у тебя деньги, и лишние, да не дашь, не обратится сердце твое к несчастному, не услышишь его даже. Ведь опять правду говорю? Бывает?
– Бывает, – я опять согласилась.
– То-то. Вот со мной случай раз какой произошел. Был я в городе по делам разным, и плохо мне так было: и холодно, и голодно, потому неудача в делах наступила. Только иду это я по улице, замерз совсем. «Хорошо бы поесть», – думаю, да и давай щупать в кармане, не завалилось ли монеты какой. И что ж ты думаешь! Вытащил гривенник. «Ну, истинно, – думаю, – Господь послал, сжалился надо мной, зайду сейчас в трактир, чайком погреюсь», – да и завернул на крыльцо. Слышу сзади жалобно таково и слабо-слабо человечий голос: «Подайте Христа ради…» Инда сердце у меня захолонуло, такой голос жалостливый. Я возьми да и сунь ему монету ту в руку. И про чай забыл. Так, понимаешь, в ноги мне человек Божий: «Спас ты меня, говорит, я уж топиться хотел, сил моих больше нет…» И такая радость мне настала, такая радость, что я тебе и сказать не могу. Человека спас! Вот ведь каково бывает, милая! Истинно уж не по грехам моим милостив ко мне Господь. Так я этого человека никогда и не забуду, так и стоит он всю жисть передо мной…
Старик прослезился.
– И помни, милая, что и ты человека спасти можешь.
Он на минуту умолк. В это время к нам подошел развязный парень в «спинжаке» с папиросой в зубах, обнимая за талью молоденькую мещаночку в белой кисейной блузке с голой шеей и короткими рукавами.
– Ну, рассказывай, рассказывай, старик! Послушаем и мы, коли путное что говоришь, – бесцеремонно проговорил парень, разваливаясь обоими локтями на стол, стоявший перед нами, и пуская в нас клубами дыма.
– Что ж, послушайте. Слушать никому не возбраняется. «Имеющие уши да слышат», – ответил старик, но затем угрюмо отвернулся от дыма и, почти повернув к ним спину, заговорил тише прежнего.
– Ты, давеча видел я, тоже употребляла это зелье?
– Да я от комаров, дедушка58.
– Понимаю, что от комаров, а только и то не следует…
При этом старик рассказал какую-то легенду о «поганом зельи», которой я, к сожалению, сейчас совсем не помню. Вообще, я не запомнила очень многого из его рассказов, т. к. была смертельно уставши.
– …Душу врага тешит тот человек, что курит, – закончил старик свое повествование и как-то вбок оглянулся на парня.
– Еще вот что я тебе скажу, милая. Седьмую заповедь ты помнишь?
– Помню.
– Грешна по ней?
– Ну нет, дедушка! – не могла я опять удержаться от смеха.
– А ты не думай, милая, что если ты девушка, так и не грешна. Ты словом и помышлением не грешна ли? Не случалось ли, что подходила к мужчине не как к брату? А ведь и это грех, милая, большой грех…
Он опять косо оглянулся на появившихся. Те встали и ушли.
– Это я больше для них говорил, – пояснил старик, указывая глазами в сторону удалившихся. – А только и ты послушай, что Господь сказал: хорошо, кто имеет одну жену и живет с ней честно; а еще лучше, кто совсем не имеет никакой и хранит свою чистоту. Конечно, это трудно, не всякому дано; а только если жить по-Божьи, так надо воздерживаться. Все мы – братья и сестры и должны жить чисто, по-братски, не по-скотски. Вот тоже и смеяться так с ними грех… Ты ведь не одна едешь? Я даве видел тебя с кавалерами.
(Откровенно говоря (в дневнике ведь все можно), я покраснела (что значит непривычка к подобного рода разговорам!), но…). Я отвечала утвердительно, т. к. кроме бывшего с нами на Светлом озере медика, мы с Островской познакомились уже на пароходе с одним казанским доктором и старичком-лесничим, которые, сжалившись над нашим измученным видом, предложили нам отдохнуть в их каюте, чем мы с благодарностью воспользовались, после чего уже, разумеется, быстро разговорились.
– Что же, это сродственники твои?
– Нет, чужие.
– То-то, чужие, – старик укоризненно покачал головой. – Оно, конечно, трудно в миру спастись: враг смущает! В скит идти надо, кто может вынести. Только и это трудно. И тут враг… Вот ты давеча спрашивала про это, – старик указал на свою пелеринку, – это скитская и есть; в скиту я, значит, живу.
– И все у вас так ходят?
– Да кто – все; я ведь один. Я, видишь ты, милая, в женском скиту живу.
– Как в женском, почему? Или вы там за сторожа?
– Бывает и так, что дрова им ношу, воду, скотину пасу. А только попал я туда через чудо… Лежал я в болезни и умирал совсем; и было мне видение и голос…
– Какое, дедушка, можно рассказать? – спросила я с большим любопытством.
– Да как тебе такой об этом рассказывать! Не очистилась ведь ты еще.
Видно было, что ему не хотелось говорить о своем видении, и я, конечно, не настаивала.
– А в скит к вам приехать можно?
– Отчего ж, если испробовать себя хочешь – приезжай. Только трудно у нас жить: и бедно, и грязно, и серо, и работать самой все надо. А ты ведь, поди, не привыкла.
– Ну а если не жить, а так только на время приехать посмотреть?
– И то можно, мы никого не гоним. А только так ты ничего не узнаешь. Пожить с нами надо, милая, потрудиться… Вот если сможешь так – приезжай, а то (так) и не стоит.
Мы поговорили еще немного, и я встала.
– Ну, спасибо… или нет – спаси вас Христос, – поправилась я. – Так, дедушка?
– Так, милая, так. И «вы» говорить не надо: все мы други, все мы братья во Христе, все грешны! А только помни, что я тебе рассказывал. Особенно помни, чтоб милостыню творить, потому Господь сказал: «Кто накормит и согреет единого от малых сих – тот ублажит душу Мою, а кто отвернется от просящего и не отверзет толкущему – тот отвернется от Меня». И еще говорил: «Дети, любите друг друга…» Вот если хоть эти две заповеди будешь стараться исполнить – благо тебе будет на небеси.
– Вы грамотный, дедушка?
– Нет, голубушка, не случилось обучиться. Так помни заповеди-то.
– Буду помнить, дедушка, до свиданья; может, придется еще когда увидеться.
– Нет уж, где нам с тобой увидеться! Разве в лоне Отца небесного. Прощай уж, милая.
Я протянула руку. Старик не взял и, покачав головой, сказал ласково, как бы прося не обижаться:
– Не надо. Лучше мы с тобой так просто простимся, издали.
– Ну, как хотите!
Мы поклонились друг другу, и я ушла.
А когда в Козьмодемьянске59 я увидела его фигуру, молча и как бы укоризненно наблюдавшую за тем, как мы веселой гурьбой сошли с парохода и новые знакомые пошли нас проводить на волжскую пристань, помогая нести наши дорожные принадлежности, – мне сделалось как-то неловко. Точно я самым бессовестным образом обманула этого старика…
Да оно, в сущности, так немножко и было… и боясь и не желая этого, я не заговаривала сама почти ни с кем из настоящих богомольцев на Светлом озере.
Ну-с, с изложением этого последнего эпизода моего путешествия на Светлое озеро кончается и двухнедельная поэзия моей жизни последнего времени. Завтра надо браться за экзамены… Хватит ли у меня сил на это? Я теперь совсем не в состоянии читать. Когда я пишу, я не могу читать; а если я настрою себя на книжный лад – я не в состоянии буду писать. А мне так хочется написать еще одну вещь, и сейчас я чувствую в себе настроение.
Ужасно быть запоздалой «несжатой полосой»60…
А все 1908–9 год, угол Малого [проспекта] и 11‑й линии!..61
Больно отзывается прошлое.
Чтобы уже окончательно покончить с поэзией, нужно сказать еще два слова о письме Думина.
Какое удивительно отрадное впечатление оно произвело на меня. Какая широта и свобода понимания у этих людей, недаром называющих себя «сынами свободы»62. Какая интеллигентность мысли при всей безграмотности ее письменного изложения. И как чувствуется в этом письме, что душа одного человека говорит непосредственно с душой другого; какая простота и естественность в обращении, нам, интеллигентам, совершенно не знакомая.
Я понимаю теперь то наслаждение, которое должен был черпать Толстой в переписке и общении с этими людьми. Истинно христианская свежесть и чистота души. И смешной кажется мысль, что то – необразованный мужик, а ты – барин и интеллигент, до такой степени самой сущностью нашего человечества соприкоснулись мы с ним.
При первом же случае съезжу к указанному им Дмитриеву.
Только экзамены!.. Они отравляют мне существование. Слишком тесна для меня теперь шкурка учащейся. Свободы хочется, развязанных крыльев.
– Ну, только, пожалуйста, не впадать в лирику.
И все-таки пакостно на душе…
29/XI 1911 г. Вчера купила себе массу конвертов, целых 50 штук, и счастлива. Ужасно люблю, когда у меня очень много разных письменных принадлежностей: бумаги всяких видов и форматов, карандашей, перьев… К сожалению только, этого никогда не бывает, и это для меня такая же неосуществимая мечта, как 300 пирожных зараз. Неужели я всю жизнь буду таким голышом и пролетарием?
Похоже!
Слава Богу, что теперь хоть относиться к этому стала легко. Тото, верно, заразил.
Впрочем, мне далеко до него. Вот истинный Диоген!
Позже. Сегодня я проснулась с рождественским настроением и принялась за новое писание. Совсем новое! Мысль об нем проснулась сегодня впервые вместе со мной63.
А экзамены все стоят…
Вот скандал! Вчера не состоялось заседание исторического общества! Были назначены два доклада: «Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII века» и еще какой-то, не помню. Собрание должно было быть открытым, и вот явилась полиция. А и народу-то было немного, по словам Маши [Островской]: всего два с половиной человека в IV аудитории университета. Кареев предложил полиции уйти, та не согласилась; тогда он закрыл заседание.
Еще возможны в наше время такие случаи!
Ведь как-никак это же научное заседание, не сходка! Маша и пришла в 10 часов прямо оттуда и рассказала64.
Зашла днем на полчаса к мамочке, и посидели мы с ней немножко обнявшись на диване. Этого почти никогда не бывает, и она, бедная, была так рада.
А отчего не может быть все иначе?
Впрочем, теперь поздно, и в конце концов, виноватых нет.
Или есть?..
Еще позже. Нет, но до какой степени изменчив мой почерк! Я могу в продолжение одного и того же дня двадцать раз изменить его; пожалуй, даже и сама когда-нибудь не узнаю своей руки, не то что другие.
За отсутствующих родителей квартирная хозяйка 86 лет М. Неболь[сина].
Звание: потомственная дворянка.
Чин: Действительная статская советница по морскому ведомству» (ОР РНБ. Ф. 326. № 2. Л. 5а).
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе