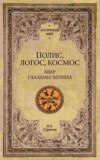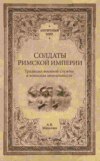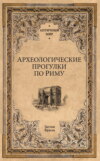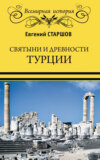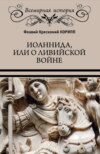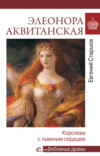Читать книгу: «Римская Британия», страница 3
Вывозом из Британии занимались финикийско-карфагенские купцы, за ними проторили себе пути греки, которых позже сменили римляне. Наряду с экспортом появился и импорт: в Британию ввозили итальянское вино, галльскую керамику, средиземноморское стекло; главным портом ввоза был Хенгистбери Хед (в Дорсетшире; название его, к сожалению, явно более позднего времени, т. к. связано с именем одного из двух первых англосаксонских завоевателей Британии – Хенгистом). Соответственно с развитием торговли пошли в ход деньги – не только всевозможные импортные, но и специфические отечественные – найдены железные деньги бриттов в виде мечей с загнутыми на одном конце краями – причем порядочной длины, 49 см, а также золотые по греко-македонскому образцу (те и другие упоминает Цезарь, описывая свой поход в Британию, см. позже)16. При этом характерно, что доримская Британия не имела своей письменности, и, по мнению английских исследователей (напр., П. Сэлуэя, с чем согласна и Н.С. Широкова), эти золотые, чеканка которых прекратилась с падением самой Римской Британии, осуществлялись римскими мастерами (по крайней мере, в царствование сыновей Коммия и их соперника Таскиована) – еще до завоевания Клавдия! На это можно возразить, однако, что изображения на этих монетах не сделали бы чести римским чеканщикам денежных знаков: на них явно видно причудливое кельтское влияние, можно даже сказать, переосмысление (в стиле знаменитой фразы «я – художник, я так вижу», достаточно вспомнить портрет Клетчатого из х/ф «Приключения принца Флоризеля»): лица македонских монархов схематичны, одни их части (напр., волосы) гипертрофированы в ущерб другим, лик бога Аполлона, подвергшись первоначальной деградации у континентальных чеканщиков-галлов, у их бриттских коллег вообще целиком превратился в составной орнамент; ноги у лошади галлами отчеканены отделенными от ее туловища (однако характерно, что бритты, боготворившие лошадь как образ богини Эпоны, «вернули» ей на монетах нормальный облик) и т. п. Кельтское происхождение псевдомакедонских золотых отстаивают Р. Коллингвуд, Н.С. Широкова и др. Опять же эти «золотые местного разлива», равно как и железные деньги в форме мечей, датированы не старше I в. до н. э., и надписи стали появляться только на более поздних из них. Вместе с тем отмечено, что эти «контрафактные копии» привели к тому, что кельты начали ценить золото именно благодаря его покупной способности, в то время как ранее они рассматривали его не более чем удобный, красивый и привлекательный металл для изготовления ювелирных украшений и символов власти (искусные мастера являлись у кельтов в их «социальной пирамиде» прослойкой между воинами и земледельцами, но все же приближались к первым). Золото олицетворяло бессмертие, оттого-то его доныне находят в больших количествах в погребениях кельтской знати. Вожди и их жены носили золотые обручи (воинам за доблесть выдавали бронзовые; в Трихтингене (Вюртемберг) найден железный, покрытый серебром, весом в 13 фунтов), то же касалось представителей жречества; весьма интересный золотой обруч жрицы (ок. 489 г.), украшенный явно греческими крылатыми конями-пегасами17, был найден во французской деревне Викс. В 350 г. до н. э. кельтский мастер изготовил прекрасный шлем в виде идеальной девичьей груди, украсив его позолоченными бронзовыми полосками, инкрустировав кораллами и выполнив нащечники в виде извивавшихся рогатых змей: животные молитвы вообще были одними из излюбленнейших у кельтов. Интересен кинжал хохбургского вождя (ок. 500–550 гг. до н. э.) – очевидно, после смерти его владельца и перед тем как положить оружие в захоронение, золотых дел мастер сделал на него 16 высокохудожественных золотых накладок с гравировкой. Впрочем, подобные драгоценные накладки были нередки не только на оружии, но и на одеяниях. Немало золотых украшений находят и при раскопках святилищ – очевидно, это были приношения богам. Типичные образцы роскошных шейных обручей (гривен, иначе – торков), изображавшие переплетенные существа с человеческими руками и звериными ушами и рогами, найдены около перевала Сен-Готард; считается, что кельты принесли их в жертву своим богам перед набегом на Италию (ок. 380 г. до н. э). Роскошны образцы из погребения «княгини» у Саарбрюккена. Британия представлена золотыми торками из «снеттисгеймского сокровища» в Норфолке. Есть мнение, что, в то время как мужчины носили их на шеях18 (тут можно вспомнить типично кельтскую мужскую прическу, когда длинные волосы зачесывались за лоб19 и прическа закреплялась известняковым раствором («словно вылизанная коровой»), а также «ежиную» прическу (если ее можно так назвать) в виде длинных, скрепленных тем же раствором игл20, на которые, по ирландскому свидетельству, можно было бы накалывать яблоки – т. о., прически кельтов-мужчин мало способствовали ношению торков в виде диадем, а равно, что очень важно, и шлемов), женщины носили их на головах наподобие диадем21 (прекрасный образец женской кельтской прически есть в «Похищении быка из Куальнге»: «Три пряди золотистых волос девушки были уложены вокруг головы, а четвертая вилась по спине до икр»). Существовали и «настоящие» диадемы – как найденная в захоронении «княгини» из Викса у Шатийон-сюр-Сен. Много находят застежек-фибул (они золотые на бронзовом щитке, порой с инкрустацией кораллом или эмалью), обычно парных, исполненных в виде человеческих и птичьих масок. Не менее интересны многочисленные серебряные изделия (по свидетельству римского историка Флора, царь арвернов Битуит, попавший в плен к римлянам в 121 г. до н. э., сражался на колеснице, отделанной серебром), а также редкие бронзовые образцы предметов военного дела, найденные в Великобритании, – например, бронзовый щит из реки Уитхем (около Линкольна) с некогда прикрепленным изображением крайне длинноногого вепря (ранее I в. до н. э.), другой (возможно, церемониальный) бронзовый щит высотой 0,9 м (350—50 гг. до н. э.), инкрустированный алыми стеклышками, единственный дошедший до нашего времени ото всей Европы шлем с рогами из листовой бронзы и растительным орнаментом (150—50 гг. до н. э.), поднятый со дна Темзы у моста Ватерлоо в начале 1860-х гг., парадный шлем для лошади с двумя изогнутыми рогами на лбу (II в. до н. э., Шотландия) и раструб кельтской боевой трубы (найден в 1916 г. в торфянике в Банффшире) в виде головы кабана, также исполненный из листовой бронзы в середине I в. н. э.; удивительно, но, несмотря на потерю глаз (должно быть, выполненных из цветного стекла или эмали), ушей и гривы (восстановлены по изображению на триумфальной арке в Оранже I в. до н. э., на серебряной кельтской чаше из датского торфяника близ Гундеструпа и др. подобным), он на момент нахождения сохранил движущийся деревянный язык – сложно представить, какие какофонические звуки он издавал в свое время! Диодор Сицилийский писал о боевых трубах кельтов – карниках, что они «необычайные» и «варварские».
Девять изумительных бронзовых женских зеркал обнаружены на юге Британии – в Корнуолле, Глостершире, Бедфордшире, Нортхэмптоншире и Эссексе, причем глостерширское – с эмалью, по которой бритты были большие мастера: считается, что это именно они изобрели метод т. н. выемчатой эмали, когда в специально сделанные углубления помещали растертую в порошок субстанцию, которую затем плавили (сначала красную, из окиси меди, а позже научились делать и иные цвета). Интересны и занимательны бронзовые фигурки животных и птиц из Девоншира.
В Керкабратшире найдены украшенные орнаментами бронзовые рога для питья – как правило, хороший пир завершал удачную войну, поход или битву. В огромных котлах варили пиво, главным блюдом была жареная или вареная свинина; как правило, ирландский король получал свиную ногу, королева – бедро, возница – голову; целая свинья считалась порцией, достойной героя: согласно «Пиру Брикриу, или Словесной битве прекрасных жен Улада», «доля победителя» на пиру составляла: много вина, «семилетний боров, с рождения кормленный одним молоком», некая вкусная еда весной, творог со сладким медом – летом, орехи с хлебом – осенью, мясо с супом – зимой; вдобавок к этому – «семилетний бычок, вскормленный материнским молоком и сладкой травой», и 5 дюжин сладких медовых пирогов. Так что в словах обжоры-кельта Обеликса из французского фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» о том, что это только его пятый кабан на пиру, оказывается, есть определенная доля истины.
Если серьезнее, то можно вспомнить древнюю ирландскую раблезианскую «Повесть о кабане Мак-Дато». Вот несколько фрагментов из нее: «Был у лагенов знаменитый король по имени Месройда, прозванный Мак-Дато… Замок Мак-Дато имел семь ворот, к которым вели семь дорог. Внутри его было семь очагов с семью котлами на них, и в каждом котле варились бычатина и соленая свинина. Всякий, кто приходил по одной из дорог, опускал вилку в котел. Если он попадал с одного удара в кусок мяса, то и съедал его: если же не попадал с первого раза, то не получал ничего… Для гостей был заколот кабан Мак-Дато, который семь лет кормился молоком шестидесяти коров. Видно, ядом вскормили его, ибо великое побоище между мужами Ирландии произошло из-за него. Итак, подали им кабана, обложенного кругом сорока быками, не считая всякой другой снеди кроме того. Сам Мак-Дато распоряжался пиршеством… “Даю слово, – сказал он, – других таких быков и кабанов не найти во всем Лагене. Если всего этого вам окажется сегодня мало, то завтра мы заколем для вас еще новых”. “Добрый кабан”, – сказал Конхобар. “Поистине добрый”, – сказал Айлиль… Конал принялся делить кабана. Но прежде всего он сам впился зубами в его хвост. Девять человек нужно было, чтобы поднять этот хвост; и, однако же, Конал быстро съел его весь без остатка. Коннахтам при дележе Конал дал лишь две передние ноги. Мала показалась им эта доля. Они вскочили с мест, улады тоже, и все набросились друг на друга. Началось такое побоище, что груда трупов посреди дома достигла высоты стен. Ручьи крови хлынули через порог. Затем вся толпа ринулась наружу. С великим криком стали они там резаться. Поток крови, лившейся во дворе, мог бы привести в движение мельницу. Все избивали друг друга. Фергус вырвал дуб, росший посреди двора, вместе с корнями, и вымел им врагов за ограду двора. Побоище продолжалось за воротами». Вот и попировали, что называется. Также употребляли соленую свинину, копченую рыбу, говядину и баранину. Трапеза сопровождалась пением бардов. Своих высокопоставленных покойников бритты тоже не оставляли без горячительных напитков, причем в приличных количествах, как отмечает С. Пиготт: «В ряде могил непосредственно доримской бельгийской (точнее – белгской, но таков уж «знаменитый» центрполиграфский перевод. – Е.С.) Британии заготовлена не только провизия для загробного пира вождя, но и двойные железные подставки для котла и амфоры, объем которых соответствует содержимому нескольких дюжин современных бутылок».
Греко-египетский писатель Афиней (170–223 гг. н. э.) процитировал в своем «Пире мудрецов» философа Посидония Родосского (135—51 гг. до н. э.), оставившего следующие колоритные зарисовки кельтских пиршеств: «Стоик Посидоний, сочинивший свою «Историю» не без влияния философии той школы, приверженцем которой он был, описывает в ней много обычаев и установлений различных народов: «Кельты, – пишет он, – принимают пищу за деревянными столами, под которые подкладываются охапки сена так, чтобы они лишь немного возвышались над землей. Пища их – немного хлеба и много мяса, вареного и зажаренного на углях или рожнах. Едят они опрятно, но с каким-то львиным неистовством: двумя руками хватают кусок животного и обгрызают мясо зубами; если же кусок жесткий, то отрезают от него мясо ножичком, который нарочно лежит у них в ножнах. Те из них, что живут по рекам и по побережью внутреннего и внешнего моря, питаются печеной рыбой, приправляя ее солью, уксусом и тмином; тмин они кладут и в питье. Оливковым маслом они не пользуются, оно редко и с непривычки кажется им невкусным. Когда обедают большой компанией, то усаживаются в круг, а в середину как предводитель хора садится самый влиятельный, превосходящий всех или военным умением, или знатностью, или богатством. Рядом усаживается гость, а затем по обе стороны, согласно своему достоинству, занимают места остальные. Позади них становятся телохранители с длинными щитами, а напротив, усевшись в круг по примеру господ, пируют копьеносцы. Прислужники разносят питье в сосудах, похожих на наши чаши с носиком, глиняных или серебряных. Таковы же и подносы, на которых подают кушанья; а иные пользуются медными, деревянными или плетенными из прутьев корзинками. На богатых пирах пьют неразбавленное привозное вино из Италии или Массалии и только изредка добавляют в него воды. На более скромных трапезах пьют пшеничную брагу, приправленную медом, а народ ее пьет и без приправ; называется она кормой. Отпивают они ее почасту, но понемногу, не более киафа из одной и той же чаши. Питье это разносит раб по кругу слева направо и обратно, как у них принято, богам же они поклоняются, поворачиваясь в правую сторону». В рассказе о Луернии, отце того Битуита, что был убит римлянами, Посидоний пишет, что, добиваясь народной любви, он разъезжал по полям на колеснице, разбрасывая золото и серебро десяткам тысяч сопровождавших его кельтов; огородив прямоугольное пространство стороной в двенадцать стадиев, он поставил там чаны, наполненные дорогим вином, снеди же заготовил такие горы, что помногу дней подряд мог угощать всех желающих, не испытывая ни в чем недостатка. Когда же подошел назначенный им конец празднества, вдруг явился к нему припозднившийся варварский поэт (бард) и принялся оплакивать свое опоздание и воспевать величие вождя; тому это так понравилось, что, приказав подать мешок с золотом, он бросил его бежавшему за колесницей поэту. А тот, подхватив подарок, стал петь, что даже следы, оставляемые на земле его колесницей, несут людям золото и благодеяния…
В двадцать третьей книге своей «Истории» Посидоний пишет: «На пирах кельты часто устраивают поединки. Приходят они с оружием и бьются или с мнимым противником, или, шутя, друг с другом; но иногда случаются и ранения, тогда они приходят в ярость, и, если не вмешаются окружающие, дело может дойти до убийства. В древности, – продолжает он, – за трапезой подавались цельные окорока и самому сильному воину вручалось бедро; если же кто-либо начинал спорить, то они вступали в поединок и бились насмерть» («Пир мудрецов», IV, 36–37, 40). Все это вполне согласуется с «Повестью о кабане Мак-Дато».
Из кельтских развлечений известны, кроме обжорства, музыки и поножовщины, охота, различные игры, спортивные и интеллектуальные (например, «фидхелл» – некий аналог шахмат, и «брандуб» («черный ворон») – настольная игра с применением фишек и костей).
Часть укрепленных бриттских поселений ко времени прихода в Британию римлян уже имела характерные черты протогородов (oppida) – прямоугольную планировку, деревянные стены и т. п., а кельты прекрасно знали искусство каменной кладки. Примеры – фундаменты жилищ и храмов, и даже знаменитые «Атлантические круглые дома», как двустенные – да еще с галереями меж стенами – в Мусе на Шетландских островах или двухэтажный в Льюисе, некогда выложенные из камня целиком, опять же шетландские «дома-колеса» (каменные перегородки, словно спицы колеса, разбивали такой круглый дом на отсеки), также в Аргайле, Гленельге, Инвернессшире, Стирлингшире, Сазерленде, на Оркнейских островах и др.; затейливые каменные колодцы со спуском в цистерны на Оркнейских островах, ритуальный гранитный бассейн в галльском Бибракте. Наконец, если говорить о стенах укреплений, – весьма своеобразная murusgallicus, т. е. галльская стена, сложенная из камней и деревянных балок, скрепленных меж собой железными гвоздями. В Бибракте она тянулось 5 км, окружая 335 акров городской площади. Более того, зная о способности некоторых камней плавиться и спекаться в стекловидную массу, галлы нарочно подвергали свои крепостные стены воздействию огня снаружи, отчего такие камни и спекались внутри стен от сильного жара в безвоздушном пространстве. Пример «галльской стены» в Великобритании – в Абернети (Пертшир), а также довольно поздний бургхедский форт в Моришире, датированный V в. н. э. (зато выстроенный вне зоны римского влияния и, следовательно, в отеческих традициях); форты Аргайла и Шетландских островов – полностью каменные, зачастую весьма сложной формы, предусматривающие не одну линию обороны и особой формы крепостные ворота, затруднявшие проникновение противника. Установлено, что часть городов, прежде считавшихся исконно римскими, возникли отнюдь не на пустом месте, но являются развитием протогородов-крепостей бриттов – таковы в первую очередь Лондиниум (Лондон), Камулодунум (Колчестер), Веруламиум (Сент-Олбанс), а также Каллева (Силчестер), Вента (Винчестер), Сегсбери, порт Хенгистбери, корнуолльский Тингатель, ирландский Дан Энгус и др.(примечательно, что Колчестер и Силчестер еще с конца II в. до н. э. являются центрами чеканки местных монет – «наследие» переселенцев-белгов). При раскопках на территории лондонского Тауэра нашли много интересных артефактов доримского времени (черепки, кремневые наконечники – в части внутреннего двора у башни Лэнторн), включая захоронение подростка 40 г. н. э. – белга из племени триновантов или катувеллаунов (отметим, что походы Цезаря были все же явлением эпизодическим, а завоевание Британии состоится только 3 года спустя). О Камулодунуме, столице Кассивелауна, Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) пишет так, упоминая себя всегда в третьем лице: «(От послов Цезарь) узнал, что недалеко отсюда находится город Кассивеллаун22, защищенный лесами и болотами, и что в нем сосредоточено довольно большое количество людей и скота. Городом британцы называют всякое место в труднопроходимом лесу, защищенное валом и рвом; туда они обыкновенно спасаются от неприятельских набегов. Он двинулся туда с легионами. Местность оказалась отлично защищенной природой и человеческим искусством» («Записки о Галльской войне», VI, 21). Недаром римляне, овладев Британией, немедленно займутся обустройством своих городов именно на основе бриттских «опидов» – поджимали время и обстоятельства, и лишь немного позже приступят к оригинальному градотворчеству в тех местах, в которых сочтут это нужным для себя. Но об этом – позже.
Ранее уже была отмечена крайняя ценность ирландских сведений о культуре, нравах, обычаях кельтов, тем более что кельты Британии рассматриваются почти исключительно через призму греко-римских авторов. Излишне рассуждать по поводу того, к каким искажениям все это приводит. Вполне естественно, что, встречая некий феномен и желая его обрисовать доступно для понимания своих читателей, средиземноморский автор будет оперировать известными его кругу понятиями, проводить соответствующие аналогии и т. д. и т. п. И посему архиверно указывает А.А. Смирнов, что «самым крупным очагом кельтской культуры в Средние века была именно Ирландия. Это была единственная страна на западе Европы, куда не ступала нога римского легионера». Соответственно, ирландские сведения куда более аутентичны, хотя, опять же повторим свою раннюю мысль, надо делать определенные поправки на прошедшие века и на то, что ирландцы и бритты – это разные ветви кельтов. Как продолжает тот же автор, «нравы населения были чрезвычайно грубы и жестоки. Обычными занятиями всех “благородных” были война и охота. Покорение туземных племен (пиктов, атекоттов) на севере Ирландии еще не было закончено. Было много и других причин для войн и распрей. Постоянно совершались всякие правонарушения и взаимные обиды. Низшие князья восставали против высших. Грабежи происходили ежедневно. Так как главным богатством был скот, то распространеннейшей формой разбоя был угон скота. Такие “угоны коров” (или быков) прославлены во многих сагах. Один из них является темой великой ирландской эпопеи “Угон быка из Куальнге”. Вдобавок к этому ирландские пираты непрестанно грабили берега Англии и Шотландии, увозя жителей, чтобы обратить их в рабство: одним из таких бриттских пленников-рабов и был святой Патрик, старавшийся обратить Ирландию в христианство. Предпринимались и более далекие экспедиции, отголоски которых звучат в сагах о Кухулине. В результате таких набегов, принявших со временем более организованную форму, Западная Шотландия была колонизована ирландцами – предками части нынешних горных шотландцев. Способ ведения войны отличался большой жестокостью. Население целых поселков иногда сплошь избивалось, посевы уничтожались, весь скот угонялся. Каждый “свободный” был воином. Любопытно, что сражались и женщины. Лишь в 697 году, по настоянию аббата Адамнана, был принят закон, освобождающий женщин от военной повинности. Иногда водили в бой специально обученных боевых псов, которые грызли врага. Был обычай отрезать головы убитых врагов и сохранять черепа в качестве трофеев. Про одного из героев, Кета, сына Матаха, в сагах рассказывается, что он не мог уснуть, иначе как подложив под колено голову убитого им в тот день врага23. Более упрощенным способом было отрезание и хранение языков, как это описано в начале саги “Болезнь Кухулина”».
Речь идет об этом тексте: «Любимым же делом собравшихся воинов было похваляться своими победами и подвигами. Чтобы подтвердить свои рассказы, они приносили с собой в карманах отрезанные концы языков всех убитых ими врагов; многие же, чтобы увеличить число, еще прибавляли к ним языки четвероногих. И начиналась похвальба, причем каждый говорил по очереди».
Характерно, что обычай отрезания кельтами вражьих голов засвидетельствован Диодором Сицилийским, когда он рассказывает о галлах (пер. с англ. Е.С.): «Когда враги падают [убитыми], они (галлы. – Е.С.) отрубают им головы и привязывают к шеям своих лошадей; передавая своим сопровождающим оружие врагов, все покрытое кровью, они относят их (из контекста далее видно, что речь идет о головах. – Е.С.) в качестве трофея, распевая над ними пэан (греческую военную песнь, так это видится греку Диодору. – Е.С.) и песнь победы; [затем] они прибивают эти плоды победы гвоздями к своим домам, как это делают некоторые люди после охоты с головами диких зверей, которых они добывают. Головы своих самых выдающихся врагов они бальзамируют в кедровом масле и тщательно хранят в ящике и показывают иностранцам, торжественно повествуя о том, что кто-то из их предков, или отец, или он сам отказались от огромной суммы денег в качестве выкупа [за эту голову]. А некоторые люди среди них, как нам рассказали, хвастают, что они не приняли золота, весом равного той голове, которую они показывают, выказывая таким образом своего рода варварское благородство души, ибо не следует продавать то, что является свидетельством воинской доблести, однако, с нашей точки зрения, продолжать вражду с убитым – это опуститься на уровень зверей» («Историческая библиотека», V, 29).
Об этом же пишет и Страбон (см. ниже, когда речь пойдет о друидах). Этот обычай, однако, объясняют тем, что, согласно повериям кельтов, голова есть вместилище души24. Возможно, так они «овладевали» душой убитого, его доблестью и славой. Отсюда совсем недалеко, кстати, до людоедского обычая, когда считалось, что, поедая своего врага, трапезующий вместе с его плотью принимает в себя его дух и силу.
Наконец, свое веское слово по этому поводу сказала и археология. Своего рода общим местом было упоминание о том, что отрезанные головы кельты не только вешали на дышла колесниц и держали в домах, но и прибивали к стенам домов, и даже посвящали в храмы. Вот два последних утверждения и были подтверждены. В обнаруженных древних черепах в Галлии нашли и большие гвозди, однако еще более впечатлили находки из галльских святилищ: их камни примерно в IV в. до н. э. были использованы повторно при возведении галло-греческих зданий, и благодаря этому они и сохранились. Стилизованные фигурки лошадей и всадников из Моуриса (департамент Буш-де-Рон) датируются по меньшей мере V в. до н. э., но, вероятнее всего, они еще древнее. Но сейчас интерес не в них, а в дверном каменном косяке из Сен-Блэза (департамент Альп-Маритимс), в котором располагались ниши для хранения черепов или забальзамированных голов, что доказали подобного рода находки в других местах. С. Пиготт пишет: «В Рокепертузе (департамент Буш-де-Рон) такое святилище располагалось на вершине пятиступенчатой лестницы, а перемычки поддерживались столбами с нишами для черепов, которые увенчивались большим скульптурным изображением птицы. В нем содержатся статуи сидящих на корточках людей (в натуральную величину). Такая поза соответствует кельтской традиции, что отмечает Посидоний и что видно на кельтских и романо-кельтских монументах. Такие же столбы с нишами для черепов и перемычками находились и в Провансе (Франция). Там они были связаны с пещерой и родником и были повторно использованы во II веке до н. э. В Салувии (Прованс) в оппидуме существовало весьма примечательное святилище. Его вход украшала украшенная резными изображениями человеческих голов старинная колонна, в нишах которой находилось пятнадцать черепов взрослых людей. Некоторые из них были отсечены от высохших тел, а в нескольких даже сохранились большие железные гвозди, которыми они были ранее прибиты к какой-то деревянной конструкции. Это святилище было разграблено в 123 году до н. э., так что оно, а также остатки ряда крупных каменных скульптур с изображениями воинов и отрубленных голов должны были быть гораздо более древнего происхождения. Монументальные каменные скульптуры, созданные около VI века до н. э., встречаются то тут, то там в кельтском мире и несколько позже в долине Рейна. Например, так называемый Хиршландский воин из окрестностей Штутгарта. Существование культа отрубленной головы и черепа, в частности, подтверждается находками в других местах, в крепостях на холмах в Галлии и Британии, о чем свидетельствуют классические авторы. Любопытно отметить, что такие же варварские святилища в двадцати милях от Массалии почему-то остались незамеченными… В повествовании Ливия, на которое ссылается Силий Италийский, рассказано, что тело Постумия было отнесено бойями в их “самый почитаемый храм”, там обезглавлено, а из оправленного в золото черепа сделана чаша».
В Британии жертвенные черепа найдены среди прочих вотивных (т. е. посвящаемых божеству) даров в колодце богини Коввентины у вала Адриана. С. Пиготт отмечает, что в кельтских верованиях культ отрубленной головы связан с колодцами, родниками и источниками. Сразу вспоминается параллель со скандинавской мифологией, где отсеченная глава вещего старца Мимира дает мудрые советы у священного источника мудрости. Характерно, что и на территории Галлии, в ритуальном пруду у истока Сены, где располагалось святилище богини этой реки Секваны, среди разнообразных вотивных деревянных статуэток (порядка 200) обнаружена весьма любопытная, высотой в 90 см, представляющая три головы, последовательно насаженные на вертикальный шест – явно отображение реального трофея. Но довольно об этом.
Положение женщины в кельтском обществе было довольно свободным. Вот весьма бесхитростный диалог богатырши Скатах со своей дочерью: «(Кухулин) дошел до замка и стукнул в дверь древком копья так, что оно пробило ее насквозь. Сообщили об этом Скатах.
– Поистине, – сказала она, – это некто, совершивший уже раньше славные подвиги.
И она выслала свою дочь Уатах посмотреть, что это за юноша. Та вышла, чтобы побеседовать с Кухулином, но не могла вымолвить ни слова – так восхитила ее красота юного воина. Она вернулась к матери и стала восхвалять ей достоинства пришельца.
– Полюбился тебе человек этот? – спросила ее мать.
– Да. В эту ночь он разделит мое ложе и будет спать рядом со мной.
– Не возражаю против твоего желания, – отвечала ей мать.
Уатах подала Кухулину воды, чтобы умыться, затем принесла ему пищу и вообще оказала наилучший прием, прислуживая ему» («Сватовство к Эмер»).
Никто не отменял традиционное овладение понравившейся женщиной: «Айфе вызвала на бой Скатах, но вместо той вызвался с нею биться Кухулин. Перед боем он спросил Скатах, что любит Айфе больше всего на свете. Та сказала ему:
– Больше всего на свете Айфе любит своих двух коней, колесницу и возницу.
Кухулин и Айфе ступили на тропу подвигов, и начался их поединок. Айфе раздробила оружие Кухулина, и его меч сломался у самой рукояти. Тогда он воскликнул:
– Увы! Возница Айфе с обоими конями и колесницей опрокинулись в долине, и все они погибли!
На этот возглас Айфе обернулась. Кухулин тотчас же набросился на нее, схватил за бока под обеими грудями, закинул себе за спину, словно мешок, и отнес так к своему войску. Там он бросил ее на землю и занес над ней обнаженный меч.
– Жизнь за жизнь, о Кухулин! – вскричала Айфе.
– Обещай исполнить три моих требования! – сказал он.
– Назови их, и они будут исполнены, – отвечала она.
– Вот три моих требования, – сказал Кухулин. – Ты должна дать Скатах заложников и никогда больше с ней не воевать. Ты должна стать моей женой в эту же ночь перед твоим замком. И, наконец, ты должна родить мне сына.
– Обещаю тебе все это! – сказала Айфе.
Все так и произошло. Айфе сказала Кухулину, что зачала от него и родит ему сына» («Сватовство к Эмер»).
Цезарь указывает на свальный брак бриттов: «Жен они, человек по десять или по двенадцать, имеют общих, особенно братья с братьями и родители с сыновьями» («Записки о Галльской войне», V, 14), а Страбон ворчливо отмечает касательно ирландцев: «Около Бреттании есть также другие небольшие островки и, кроме того, большой остров Иерна, расположенный на севере параллельно Бреттании; ширина его больше длины. Об этом острове я не могу сказать ничего определенного, кроме того, что обитатели его более дикие, чем бреттанцы… у них считается делом похвальным… открыто вступать в сношения, помимо любых других женщин, с матерями и сестрами. Я передаю это, понимая, что у нас нет достойных доверия свидетелей подобных обычаев» («География», IV, 5, 4).
Весьма распространенными были т. н. парные браки и браки «на время», но если для женатого мужчины было дозволено иметь наложницу (а то и несколько законных жен, из которых, правда, всегда выделялась старшая – cetmuinter, имевшая законное право (!) безнаказанно бить прочих), измена жены каралась сожжением на костре. Но, опять же, «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»: легендарная королева Медб, жена короля Эйлиля, соблазняя героев на подвиги, запросто сулила им в числе прочих благ «дружбу своих ляжек». Да последняя и дешевле могла достаться. Даре, сын Фиахна, получил, например, такое предложение от скорохода королевы за то, чтоб на год добыть Бурого быка из Куальнге: «Ты же получишь за это… славную награду: пятьдесят телушек и вдобавок к ним самого Бурого из Куальнге. А хочешь – можешь получить от нас еще одно предложение: приходи к нам сам со своим быком, и ты получишь взамен своей земли, какую имеешь здесь, равный ей надел на сладостной равнине Маг Ай, колесницу стоимостью в трижды семь невольниц и в придачу ко всему этому дружбу ляжек Медб» (сага «Угон быка из Куальнге», глава «Разговор перед отходом ко сну»). У кельтов существовал «выкуп чести», аналогичный скандинавскому25 «утреннему дару», когда новобрачная девственница получала дар от супруга за соблюдение себя.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе