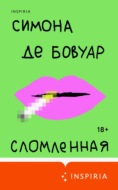Читать книгу: «Злые духи», страница 6
– Ну, хорошо, я доверяю вашему вкусу.
Она поднялась с дивана, слегка растерянная, и щеки ее залил румянец.
– А кто же будет m-me Монгрюс? Я не хочу без m-me Монгрюс! – сказал Леонид, – Надо попросить m-me Вурм.
– Она тоже блондинка, – сказала Дора.
– Мы наденем ей черный парик!
– Но она будет в нем ужасна!
– Ничего, сойдет. Ах, вот кто бы был хорош в костюме этой эпохи – Варвара Трапезонова! – наивным тоном произнес он.
* * *
Это имя, сказанное как бы невзначай, как будто что-то изменило в атмосфере комнаты.
Дора быстро отошла от стола к окну и стояла там, чуть-чуть белея своим голубым капотом в сумерках комнаты.
Ремин остался неподвижно стоять у камина, частью освещенный красным пламенем, частью совершенно черный, словно существовала одна половина Ремина, материализованная каким-то медиумом, а другая половина витала где-то во мраке.
Что думала и чувствовала та другая половина, или она пока не думала, не чувствовала, не жила, и вся жизнь сосредоточилась в этой, освещенной багровым пламенем камина? На полулице было выражение печали и легкой боли.
Один Леонид остался в той же позе, с руками, сложенными под подбородком, и та же легкая улыбка скользила по его губам.
И так же за его спиной улыбался шевалье де Монгрюс.
* * *
– Madame, est servie!11
Лакей в полосатом жилете прерывает эти чары.
Былая, неясная фигура опять та же Дора, правда, немного надутая, немного недовольная.
Половина Ремина возвращается к нему, и он, улыбаясь, подает руку хозяйке, Леонид, поднимаясь с кушетки, весело и наивно говорит:
– А вам мы с Дорой придумаем костюм, и вы должны повиноваться нам.
* * *
Дора, против обыкновения была, не в духе и сидела, облокотившись на стол и следя за струйкой пара над самоваром.
Ее бледно-голубое полуплатье, полукапот, обшитое горностаем, бледнило ее розовое лицо.
Ремин, разговаривая с Чагиным, взглядывал на нее, удивленный ее молчанием.
В эту минуту она имела вид огорченного ребенка, и ему хотелось шутливо взять ее за руки и спрашивать:
– Кто обидел мою девочку? У-у, гадкий! Побьем его!
«Почему она мне всегда кажется ребенком? Ведь она на год старше своего брата. Да что с ней сегодня? Кто ее обидел? Серьезно, мне хочется побить этого человека», – думал Ремин.
– Додо, а я придумал костюм для Алексея Петровича: он оденется флорентийцем эпохи Возрождения, – говорил между тем Леонид.
– M-м, да, это красиво, – сказала Дора, продолжая смотреть неопределенно, но теперь она смотрела на стену, словно ее очень интересовал рисунок гобелена, представляющий смерть Гиацинта, рыдающего над ним Аполлона, бегущих в отчаянии нимф, летящих голубей, тушащих факелы амуров, одним словом, весь жеманный хаос гобеленовых рисунков того времени.
– Это невозможно – у меня борода, – сказал Ремин.
– Бороду можно сбрить.
– Для вечера? А потом ходить в ужасном виде, пока она отрастет.
– Зачем? У вас такой красивый рот, и вам совсем не идет борода. Это такой глупый обычай – отпускать бороды, это доказывает ну как это выразить?.. Ну, бесцветность эпохи. Ренессанс брился, римская империя тоже… Постойте, постойте, я заврался, вы можете сказать: а Греция, а… я беру все мои слова назад, кроме того, что вам не идет борода, у вас профиль римской медали. Вот мы сейчас говорили, что костюм изменяет человека, перемена лица наверное сделает еще больше.
Милый Алексей Петрович, ну обрейтесь. Неужели вам самим не интересно посмотреть, какая скрытая черта вашего характера проявится при этом?
Чагин говорил так умоляюще, словно от этого зависело что-то важное, в то же время он говорил почти повелительно.
– Хорошо, – сказал Ремин.
И вдруг ему стало легко и приятно, захотелось исполнить эту просьбу Леонида – эту пустую просьбу, его даже удивило выражение как будто торжества, промелькнувшее на лице Чагина, который, поднявшись из-за стола, сказал:
– Вы меня извините: мне надо еще немного поработать, вы не уходите, побеседуйте с Додо.
* * *
Когда Чагин вышел, унося с собой свою чашку с чаем, Дора заговорила недовольным тоном:
– С этими костюмами такая возня, мне даже уже не хочется ехать на этот бал. Все это такая пустота – все эти так называемые развлечения. Мне все надоело – все!
Она нервно толкнула от себя тарелку с тортом.
– Отчего? Да кто вас обидел? – шутливо спросил он.
– Никто! Что за странный вопрос? Я просто разочаровалась в людях! Они все так поверхностны, так неглубоки, что не стоит им отдавать ни дружбы, ни привязанности, ни симпатии!
– Не пугайте вы меня, ради бога! – шутливо сказал он – а я, как нарочно, хочу начать полными горстями раздавать свою дружбу и любовь. Меня просто пугает, что я до сих пор еще не любил! Как хорошо быть влюбленным!
– Будто уж вы никогда не любили? – сказала она, глядя на другой гобелен, где в том же жеманном хаосе ложноклассических фигур изображался Актеон, преследуемый Дианой.
– Представьте себе, не был!
– А Варя Трапезонова?
Он вздрогнул.
Это имя странно отозвалось, это воспоминание было тяжело и неприятно.
– Кто же вам сказал, что я был влюблен в Варвару Анисимовну? Между нами не было ничего похожего даже на флирт.
– Не было?.. Но Лель говорил… – начала она, растерянно посмотрев на него.
– Я не знаю, почему Леониду Денисовичу пришло это в голову? Впрочем, я понимаю, – сказал он решительно, – я один раз, говоря с ним о Варваре Анисимовне, смутился. Но смутился я по другой причине. Мне очень тяжелы воспоминания о ней. Если хотите, я мог бы ее полюбить, но в ее присутствии меня давила какая-то тяжесть, какая-то неразгаданная загадка, словно я стоял на покрытой снегом вершине и хотел узнать, что погребено там, в этом глетчере.
– Да там ничего нет! – воскликнула Дора. – Я слишком хорошо знаю Варю. Это именно ледяная… но не вершина, а плоскость. Это пустышка, благоразумная и спокойная.
– Может быть, может быть… Мне не хочется думать о ней. Смешно… Но эти воспоминания меня угнетают, словно какие-то злые духи… Как раз обратное впечатление я чувствую вблизи вас! Простите, что я так откровенен, Дарья Денисовна! Но уверяю вас, мне так весело и радостно в вашем присутствии, что мне хочется думать о вас… Я теперь пишу картину. Ту, что посвящается вам.
Это будет хорошая картина… Неужели вы убеждены, что радость и веселье не должны проявляться в искусстве?
– Не знаю… Это зависит от таланта, – отвечала она, кроша кусочек хлеба.
Щеки ее пылали, и нахмуренные брови раздвинулись.
– Вы уже уходите? – спросила она, видя, что он поднялся.
– Да, у меня завтра, в девять часов, занятия с учениками в частной школе живописи.
– Не забудьте, пожалуйста, нарисовать мне костюм, – кокетливо улыбнулась она, протягивая ему руку.
Он крепко поцеловал эту руку и, не выпуская ее из своей, улыбаясь, спросил:
– Мне первый вальс?
– Да, да, хорошо, – ответила она.
* * *
Едва дверь за Реминым затворилась, Дора побежала в кабинет брата.
– Он совсем не влюблен в нее! – воскликнула она, трогая его за плечо.
Леонид поднял на нее рассеянный взгляд, словно его вызвали из другого мира, и произнес, отстраняя рукою сестру:
– После, после, в свободную минуту. – И опять склонил голову над рукописью.
Лицо его было спокойно, строго, почти торжественно.
* * *
Ремин теперь почти ежедневно бывал у Чагиных. Он выискивал предлог, чтобы хоть на минутку забежать к ним.
Он совсем не искал случая оставаться наедине с Дорой. Все, что он хотел сказать ей, он мог говорить при ее брате.
– Я влюблен в Дору до глупости! – говорил он сам себе, но никогда он не задумывался над вопросом, что будет дальше и любит ли его Дора. Хотел ли он целовать ее? О да! Он иногда делал усилие, чтобы удержаться, не схватить ее в объятия, поднять ее, расцеловать ее розовые щечки и потом бережно поставить на пол.
Каждым своим движением, каждым словом она восхищала его. Восхищала радостно, весело.
Работалось как-то особенно хорошо. Холодная мастерская стала словно уютнее и наряднее оттого, что со стен смотрели этюды ее головки.
Леонид часто приходил полежать на его продавленном диване.
Ремин свое увлечение Дорой переносил и на ее брата. Леонид становился ему дорогим, близким, но Леонид все же тревожил его. Он не любил не понимать, а Леонида он иногда не понимал, а написать его портрет ему не удавалось.
– Дайте вы мне ваше настоящее лицо, – говорил он с досадой, ломая уголь и отбрасывая от себя альбом.
Леонид, улыбаясь, пожимал плечами.
Хотя Ремин не был из тех людей, которые любят своих друзей за имя или известность, но все же известность Чагина почему-то радовала его, даже как будто льстила ему самому, как льстило, когда, идя с Дорой, он слышал вслед:
– Oh, la jolie femme!
Он старался попасть на защиту диссертации, где Леонид являлся оппонентом, на лекции, на заседания, где участвовал Леонид.
И однажды, когда Чагину устроили овацию профессора́, – Ремин спрятался: он чувствовал, что вот-вот расплачется.
В этот вечер он дождался Леонида при выходе.
– Могу я доехать с вами? – спросил он, хватая Чагина за рукав.
Чагин вздрогнул.
Обернувшись к Ремину, он с удивлением сказал:
– Вы?
– Да, я был там, я хожу всегда, когда вы… Я теперь знаю ваше настоящее лицо. Лицо человека, выдавшего свою тайну! Вы любите ее, вашу науку, любите ее всем вашим существом. Я это видел сейчас! Я понимаю вас! Вы представились мне служителем какой-то религии, и служителем-монахом! А если религии отдаются всей душой, тогда появляются Леонардо да Винчи, Декарты, Чагины!
– Алексей Петрович! – сделал резкое движение Леонид.
– Да, да! Вы гений! Вы счастливый любовник этой науки. Я сейчас присутствовал на вашем соединении с нею, и они, старые люди, всю жизнь посвятившие этой науке, поклонились вам, ее избраннику.
Чагин смотрел на него рассеянным взглядом со спокойным лицом, словно не слушая Ремина, который продолжал так же восторженно:
– И у вас еще столько лет впереди! Столько лет счастливого соединения с этой небесной возлюбленной, и вы дадите миру тех прекрасных детей, о которых говорит Платон, за которых потомки ставят памятники.
Ремин схватил руку Чагина и до боли сжал ее.
Леонид слегка вскрикнул. Он посмотрел на Ремина, лицо его вдруг изменилось, и обычная улыбка поползла по его губам.
– Ну и увлекающийся же вы человек, Алексей Петрович!
Но это хорошо, очень хорошо. Может быть, это мне в вас так и дорого. Спасибо вам, как ни преувеличены ваши слова, но… ах, это так хорошо! Мне хочется сказать, как говорят друг другу маленькие дети: Алеша, давай дружить. Едем к нам! Я сегодня не буду работать, хотя Доры нет дома, но моя секретарша напоит нас чаем.
Леонид говорил весело, дружески сжимая руку Ремина.
* * *
Ремин уже несколько раз видел Таису мельком, теперь он мог рассмотреть ее.
Когда он спросил как-то о ней у Доры, Дора сделала презрительную гримаску и заговорила обиженным тоном:
– Моя мать очень ее любила… Я ее тоже очень любила… Но я не люблю тихонь, которые стараются попасть в семью. Лель не может без нее обходиться, потому что она умеет что-то особое писать под диктовку или составлять что-то. Этого всякий не может. Он ее привез из России… Я ее очень любила, у нее есть свои достоинства, она содержит каких-то бедных детей, была сестрой милосердия, и даже ее ранили, но теперь Лель стал к ней особенно внимателен. Согласитесь, что сам бы он не обратил на нее внимания, значит, она об этом старается. Леонид прямо ухаживает за нею… Ну скажите, ну какая это пара Лелю?
* * *
«Да, она не пара ему, – думал Ремин, рассматривая худенькое личико Таисы, сидящей за самоваром. – Но если Леонид любит эту девушку, то, очевидно, в ней есть что-то. Дора ревнива!»
Дора часто говорила Ремину:
– Я ничего не имею против, если брат женится на женщине, вполне достойной его.
Но так как ни одна женщина не казалась Доре достойной ее брата, то ей постоянно приходилось волноваться.
– Вам надо, Тая, посмотреть картины Алексея Петровича, вы увидите что-то действительно новое – если вы умеете видеть… – говорил между тем Леонид. – Например, у меня не выходит из головы маленькая картинка – называется она «Возвращение новобрачных».
Из экипажа выходит высокий корректный мужчина и маленькая, похожая на бабочку женщина.
Мужчина высаживает ее из экипажа перед фасадом строго-чинного дома. И видишь драму!
Видишь, что дом этот уже критически смотрит на новую обитательницу. «А, ты весела и шаловлива? Это мне не нравится. Ты должна быть благоразумной и чопорной».
И уже знаешь, что эта бабочка, так грациозно спускающая ножку из экипажа, будет подавлена этим строгим домом, окрашенным в фисташковый цвет, с белыми карнизами, она или замолкнет, съежится и будет тихо умирать, или возмутится, и тогда, пылая местью, она нарушит его симметрию, не ту тяжеловатую наивно-добродушную симметрию старых домов, нет, симметрию учено-бесталантливую, приводящую в восторг разбогатевшего торгаша своей безразличной красивостью… Да, если эта женщина возмутится и победит дом, она с чувством злорадства выдвинет на улицу фонарик, на крышу посадит башню, и дом будет выглядеть строгим педагогом, которому дети во время его сна надели дурацкий колпак.
Ремин изумленно взглянул на Чагина.
– Вы видите то, чего я сам не видел, смущенно сказал он.
– Это и хорошо, теперь вы увидите. Вы, Алексей Петрович, сами научили меня «видеть», а видеть вас в ваших картинах для меня новый источник наслаждения.
Леонид сказал это с такой милой простодушностью и так ласково положил руку на руку Ремина, что тот схватил эту руку, крепко пожал ее и, стараясь скрыть свое волнение, заговорил оживленно:
– Вы вдохновляете меня, и мне хочется повести вас в старые кварталы, хочется, чтобы вы говорили все, что вы видите, потому что вы видите больше других, и вы мне открываете новые горизонты. Вы мне объясняете меня самого, и я чувствую, что вы правы и то, чего я в себе не замечал, после вашего указания я вижу ясно.
Он говорил с увлечением.
Таиса, сложив на стол свои худенькие руки, смотрела пытливым, недоверчивым взглядом в лицо Леонида, словно стараясь что-то угадать, потом, переведя глаза на взволнованное лицо Ремина, тихонько вздохнула и опустила голову.
* * *
Раздался звонок, и в комнату вошла Дора.
Увидев Таису, она слегка поморщилась и холодно поцеловалась с ней.
– Хозяйничайте, хозяйничайте, Тая, – сказала она, увидав, что та встала, уступая ей место у самовара. – Я на минутку, выпью чаю и уйду спать.
Но на лице ее совсем не было усталости, напротив – оно было оживленно и весело.
Она бросила на стол бинокль в бисерной сумочке и, принимая из рук Таисы налитую чашку, оживленно заговорила:
– Сегодня в театре зала была блестяща. Был бельгийский король, все посланники… Вот, Лель, ты меня отговаривал сделать манто из леопарда, а между тем все им восхищались, даже какой-то репортер справлялся… Литвин была восхитительна!
Она прихлебнула чаю и продолжала:
– Ни один композитор меня так не захватывает, как Вагнер! Боже мой, какой гений! Я совершенно подавлена: сколько трагизма величия. Намажьте мне, Тая, еще бутерброд.
– Я, Дарья Денисовна, окончил рисунок костюма, – сказал Ремин.
– Покажите.
– Я принесу его завтра, сегодня я случайно попал к вам.
– Знаете, – заговорила она оживленно, – я в театре говорила с представителем фирмы N, где я одеваюсь, он в восторге от нашего проекта и совершенно успокоил меня. Он сказал: «Все так гонятся за оригинальностью, что вы наверное будете единственной…» Он наговорил мне кучу комплиментов… А ваш костюм?
– Я надену домино – костюм стоит очень дорого.
– Ах, как жаль! – так искренне огорчилась она, что ему опять захотелось ее расцеловать.
– Надеюсь, вы проводите Таю, Алексей Петрович? – сказал Леонид в передней, заботливо подавая Таисе пальто.
– Я дойду и одна, – возразила она.
– Я с удовольствием провожу вас, – сказал Ремин поспешно: его интересовала эта девушка, и ему хотелось поговорить с нею.
– А как же с бородой? – спросил Чагин, удерживая руку Ремина.
– С какой бородой?
– Вы обещали мне сбрить бороду.
– Но ведь я решил костюма не надевать.
– Алексей Петрович, а вы бы могли исполнить каприз друга. Я сам сознаю, что это глупо, но мне хочется, чтобы вы сбрили бороду – это страшно вам пойдет, ну вот спросите Додо.
Он не выпускал руки Ремина, смотрел на него пристально, и голос его был почти умоляющий.
– Да извольте! Я сбрею бороду, – рассмеялся немного удивленный Ремин.
* * *
Таиса молчала, идя с Реминым, и молчание становилось даже неловким.
– Мне Дарья Денисовна говорила, что вы друг детства ее и ее брата.
– Да, я воспитывалась у них в доме. Мой отец служил их отцу чуть не с детства. Г-жа Чагина заменила мне мать и была настоящей матерью для меня.
Таиса говорила, казалось, равнодушно, но ее глухой и низкий голос, так не идущий к ее детской фигурке, дрогнул при этих словах.
– Вы, верно, очень привязаны к вашим друзьям детства? – спросил он, слегка покраснев за неискренность этого вопроса, но она ответила даже с некоторой поспешностью:
– Я всей душой люблю Дору, нет человека добрее и великодушнее ее. Дора никогда не сделает зла сознательно, даже если бы от этого зависело ее счастье. Многие люди, – при этих словах голос Таисы зазвучал громче, и она даже замедлила шаги, – многие люди считают ее пустой и легкомысленной, – это неправда – она так пряма и откровенна, что говорит все, что ей приходит в голову в данную минуту. Дора всю себя отдаст за ближнего. Во время холерной эпидемии в деревне все разбежались. Дора со мной ухаживала за больными. Когда она была совсем маленькой девочкой, за их горничной погнался бык – она, все забыв, бросилась между ним и горничной… А она до безумия боялась быков и очень не любила эту горничную. У Доры большая, большая душа, Дора всю себя забудет при виде несчастья другого, но она дитя и говорит по-детски. Она глубоко чувствует, глубже, чем другие, может быть.
Таиса говорила твердо и уверенно, пристально смотря в лицо своего собеседника, но Ремин не замечал ее взгляда, он шел и весело улыбался. Ему представилась Дора, бросающаяся на разъяренного быка – это было трогательно, мило и смешно. Если бы он задумался над этим чувством, оно, может быть, удивило бы его!
Отчего, если бы ему рассказали о другой девочке, бросившейся на быка, спасая жизнь ближнего, он бы почувствовал уважение к самоотверженному ребенку?
Но Ремин не анализировал своих чувств в эту минуту – ему просто было весело и хотелось, чтобы Тая еще и еще рассказывала ему о детстве Доры, чтобы воображать себе ее такою, как на портрете, что висел в кабинете Леонида, с двумя короткими косичками по бокам головы, на которых забавно торчали больше голубые банты.
– Вот какой молодец наша Дорочка! Скажите! – засмеялся он.
– Дора любит блеск и шум, но если бы случилось несчастье, где надо помочь – она отдаст все! – сказала твердо Таиса, опять взглянув на него.
Ремин не заметил этого взгляда и шутливо сказал:
– Однако вы страстный апологет Дарьи Денисовны.
Таиса молчала, она опустила голову, словно устав.
– Вы давно состоите секретарем Леонида Денисовича?
– Да, он, еще учась в гимназии, всегда готовил уроки со мною, потом в университете платил мне, чтобы я слушала, как он читает вслух лекции, а секретарем его я стала при первой его работе, и даже жила у них, пока он писал диссертацию, но потом они переменили квартиру, и не было для меня комнаты, они переехали тогда в дом Трапезоновых.
Прошло несколько минут, прежде чем он спросил:
– А вы знакомы с Трапезоновыми? – При звуке этого имени перед Реминым как живая встала Варя, спокойная, холодная и загадочная… Ну а что бы было, если бы он остался там, около нее? Может быть, он бы разгадал ее?
А на что ему нужна эта разгадка? Разве он любил Варю? Он боялся полюбить ее. Боялся этой любви, потому что чувствовал какую-то тяжесть при воспоминании о ней, и голова как-то странно кружилась от этого «пустого», длинного взгляда длинных карих глаз. Его охватывало смутное беспокойство от этих размеренных, спокойных движений сильных красивых рук, медленно втыкающих и выдергивающих иглу, ему почему-то всегда хотелось припасть к этим рукам, покрыть их поцелуями, слезами, и просить, и умолять. О чем? Не о любви ли?
Он вздрогнул и, чтобы отогнать эти мысли, с принужденным смехом произнес:
– Как мал мир! Я тоже знаю Варвару Анисимовну и имею честь считать ее своим другом.
Теперь Таиса замедлила шаги, чтобы посмотреть на Ремина.
Они прошли мост и остановились.
– Я живу здесь в Сите, – сказала Таиса.
Они дошли до группы старых домов около почерневшей церкви, к которой они тесно жались.
– Тут, – сказала Таиса.
– Прелестные дома, я их знаю, внутри есть еще крыльцо времени Людовика XIII.
Таиса стояла неподвижно, освещенная фонарем и вдруг, повернувшись к Ремину, сказала:
– Не брейтесь, г-н Ремин.
– Что? – спросил он, удивленный.
– Я говорю: не брейтесь, – с усилием произнесла Таиса, и в ее глухом голосе прозвучала словно угроза.
– Почему?
– К вам это не пойдет… А впрочем, как хотите. – И кивнув головой, она сделала несколько быстрых шагов и позвонила у едва заметной дверки в стене старинной церкви.
– Вы здесь живете? – удивился Ремин.
– Да, я нанимаю комнату у церковного сторожа.
Она кивнула ему головой и скрылась за дверью.
* * *
Ремин медленно шел домой. Луна светила, и верхние этажи и крыши домов были ярко озарены ее голубым светом, но внизу, вдоль узких улиц, лежала густая тень. Фонари светили, отражаясь в гладкой мостовой, словно в луже, но магазины были уже закрыты и не бросали веселого света на асфальт тротуара.
Ремин сначала думал о Таисе, о ее странной просьбе, но недолго. Другие мысли вытеснили случайный образ этой незначительной девушки, и мысли его снова обратились к двум привычным образам.
Теперь эти два образа словно боролись один с другим.
Один он отгонял, стараясь забыть, как что-то тяжелое, душное, злое, а другой он звал, улыбался ему и желал ему победы над его мрачным противником.
Этот образ – светлый дух начинал рассеивать тяжелые чары.
Рассеет ли?
Этот светлый дух не был могучим ангелом, это был только маленький эльф, шаловливый, веселый эльф из «Сна в летнюю ночь», что скачет в лопухе с зеленым фонариком в руках.
* * *
Таиса между тем поднялась по узкой, почти винтовой, лестнице и отворила своим ключом массивную низенькую дверь, к которой так не шел американский замок рядом с железными украшениями на скобках.
Она сделала шаг и остановилась: тоненький прорывающийся голос что-то жалобно бормотал.
Таиса поспешно повернула электрический выключатель, тоже казавшийся смешным анахронизмом на стене этой маленькой комнатки с тяжелыми сводами. На стуле, подтянув ноги под старую красную шаль, сидела худенькая девочка лет четырнадцати. Она посмотрела на Таису расширенными глазами.
Взгляд этих черных глаз казался бессмысленным, и на худеньком бледном лице в мелких веснушках застыло выражение страдания и испуга.
Она провела рукой по растрепанным волосам и опять сжалась на стуле в позе озябшей птицы.
– Отчего вы не спите, Мадлена? Вы простудитесь, дитя мое, – ласково сказала Таиса.
Девочка вдруг быстро сбросила с себя шаль и, схватив руку Таисы, заговорила нервно:
– Опять злые духи, злые духи! Они принесли их в церковь! Отец взял франк, мама положила его в ящик!.. Теперь злой дух, там, в комнате, – и я боюсь!
Девочка вся дрожала.
Таиса ласково завернула ее плечи шалью и, поднимая ее со стула, заговорила тихо и внушительно:
– Идем спать, Мадлена, я возьму из ящика злого духа и выброшу его в Сену.
Девочка поднялась со стула и, бормоча, покорно пошла за Таисой.
– Они пришли два… Они сказали, что хотят осмотреть церковь. Я сразу по их разговору между собой, – они говорили иностранным языком, – догадалась, кто они… Mademoiselle, вы фея… возьмите и бросьте злого духа, а то… они размножаются быстро, быстро… Вот два, вот пять, десять… тысяча… Я жгу их на церковной свече… Но мне не верят… Mademoiselle, вы фея – прогоните их.
Таиса тихонько отворила дверь и ввела девочку, цеплявшуюся за нее, в большую низкую комнату, освещенную маленькой ночной лампочкой.
Сводчатый массивный потолок и маленькие полукруглые окна с толстыми решетками придавали этой комнате вид каземата.
Когда Таиса ввела Мадлену, за кретоновой занавеской послышался шорох, и испуганный женский голос спросил:
– Что такое? Кто там?
– Это я, m-mе Леру, – отвечала Таиса, – я нашла Мадлену в передней: у нее припадок.
– Ах, боже мой! – послышалось за занавесью. Кто-то спрыгнул с постели, зашлепали туфли, и высокая женщина поспешно подошла к Таисе, на ходу надевая капот.
– Мадлена, дитя мое, успокойся, – заговорила она, обнимая девочку. – Ложись скорей! И что это с ней сделалось… с утра она была спокойна, даже пела… Ради бога, извините, mademoiselle, за беспокойство, вы так добры к моему бедному ребенку, ее болезнь – наше несчастье, – говорила она, укладывая Мадлену в постель. – Как ужасно видеть свое дитя в таком состоянии! Нам советовали отдать ее в лечебницу, но вы знаете, mademoiselle, – эти припадки у нее бывают не часто, – жаль посадить ее между сумасшедшими. Она такая хорошая, добрая и работящая девушка, когда это не находит на нее – не то что другие, которые и в здравом рассудке, а причиняют родителям больше горя!
И m-mе Леру бросила сердитый взгляд в другой угол комнаты, где между комодом красного дерева и небольшим буфетом со стеклянными дверцами стояла еще кровать, а на ней, закутавшись с головой, кто-то мирно почивал, слегка прихрапывая.
Таиса хотела было подняться с постели Мадлены, на которую она присела, но девочка с отчаянием схватилась за нее и заговорила, почти закричала:
– Не уходи, не уходи… я боюсь без тебя!
– Милочка, mademoiselle хочет спать… – начала было m-mе Леру, но Таиса поспешно сказала:
– Не беспокойтесь, я не хочу спать и охотно посижу, пока она не заснет.
– Вы, настоящий ангел, mademoiselle! Я очень виновата, что не позаботилась дать сегодня Мадлен слабительного, как только я заметила, что она расстроилась. Пришли какие-то два иностранца осматривать церковь. Мой старик послал ее за ключами от ризницы, и она прибежала домой, вся дрожа, и не хотела нести ключей. Мне пришлось нести самой, так как некоторым лентяйкам бывает трудно даже пошевелиться.
М-mе Леру бросила взгляд в глубину комнаты.
– После этого она целый день была такая странная… Ах, надо бы ей было дать слабительного.
– М-mе Леру, а не думаете ли вы, что Мадлену надо бы поместить где-нибудь в деревне, на свежем воздухе: уж очень у вас тут мрачно, – сказала Таиса, обводя задумчивым взглядом огромную, низкую комнату.
– Конечно, mademoiselle, нечего и говорить, что мы живем как в тюрьме… Это мне некоторые постоянно и твердят и под этим предлогом шляются неизвестно где, – подхватила m-mе Леру, опять бросив взгляд в угол комнаты. – Ho, mademoiselle, мы люди бедные, где же нам платить за нее, а родни в провинции у нас нет. Есть родня, но далеко, в Эльзасе, – ведь мой отец родом эльзасец, – эта родня даже богатая, но мы не можем там жить. Лучше бедствовать здесь, чем хорошо есть там, у немцев. Мой дед был расстрелян на глазах моей бабушки, а она была беременна моим отцом. Она была потом всю жизнь больна, и мой муж такой нервный, а эта вот видите… Девочка всегда думает, о реванше… А у меня пруссаки убили двух старших братьев… вы думаете они были солдатами, нет, – одному было десять, а другому семь лет: их убили просто так… забавлялись… О боже мой, боже праведный, как же возможно нам вернуться туда?! – воскликнула m-mе Леру голосом таким же пронзительным и нервным, как у Мадлены.
– А дадут мне спать или нет? – вдруг послышался сонный злой вопрос с кровати у буфета.
– Молчи ты! Ей, видите, не дают спать! Она пляшет до утра, а потом ей надо спать, чтобы на другой день наесться получше! У, толстое животное!
Та, к которой относилось это замечание, села на постели и покачала головой.
Волосы ее были закручены в папильотки и торчали в разные стороны.
Это была полная, красивая девушка, рыжеватая и черноглазая.
Она зевнула, показав из-за полных губ блестящие зубы, среди которых недоставало одного спереди.
– Удовольствие, нечего сказать, – заговорила она, – целый день ругают, а ночью m-lle Мадлена не дает спать.
– Молчи, ты! – крикнула m-me Леру. – Ты меня выводишь из терпенья!
Слово за слово между матерью и дочерью началась перебранка, и неизвестно, чем бы она кончилась, так как m-mе Леру взялась за каминные щипцы, если бы Мадлена, поднявшись с кровати, не крикнула жалобно и пронзительно:
– Злой дух, злой дух… там… там, бросьте его в Сену… Выкиньте в Сену проклятые деньги! Мама… мама, это пруссаки!
* * *
Квартира церковного сторожа состояла из двух комнат и маленького закоулка, заменявшего переднюю.
Одна комната, в которой помещалась семья, была велика, но темновата. Два маленьких окна с толстыми железными решетками выходили на церковный двор, где между плитами пробивалась трава, а у стены росли три каштана.
Другая комната была очень маленькой. Она помещалась в башенке, прилепленной на углу церковного флигеля.
Эту комнату г-н Леру отдавал, и Таиса жила в ней.
Ей нравился этот тихий уголок среди шумного города, между почерневшими от времени стенами церкви.
Ей нравились скучающие у стены каштаны и надворный фасад церкви, неправильные выступы, примитивной работы барельефы святых.
Главный фасад, выходящий на улицу, был перестроен уже в восемнадцатом веке, а надворная сторона осталась нетронутой.
Таиса любила свою комнату, в ней было, правда, холодно зимой, и пришлось завести керосиновую печку, но Таиса не искала лучшего помещения.
Вся меблировка комнаты состояла из письменного стола, столика с пишущей машиной, большой полки с книгами, кровати и двух кресел.
Ее скромный гардероб висел в очень оригинальном шкафу – это был тайник в толще стены, который когда-то запирался потайной дверью с хитрым механизмом, остатки которого, в виде железных стержней, еще были видны в каморке.
Что это было? Хранилище для сокровищ или страшная тюремная камера? Тая не знала. Она держала там свои платья, корзинку и коробку со шляпой.
На письменном столе да и во всей комнате не было ни одного украшения, только над кроватью рядом с маленьким темным образком Спаса висела фотография.
Лицо женщины на этой фотографии было прекрасно. Не чертами лица, а какой-то неуловимой красотой выражения, взгляда, поворота.
Таиса часто, просыпаясь, смотрела на портрет, и ей казалось, что Зоя Петровна Чагина говорит ей, как говорила, умирая, ей тогда еще пятнадцатилетней Тае: «Тебе я поручаю мою девочку, будь ей сестрой. Помни: ты сильна, она – слаба. Охраняй ее не от житейских невзгод, а от злых духов, что владеют слабыми людьми».
* * *
«А я ничего не могу сделать. Почему она всегда называла меня сильной? – думала Тая поутру на другой день, смотря на фотографию. – Да и нуждается ли Дора в моей защите, и от чего?»
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе