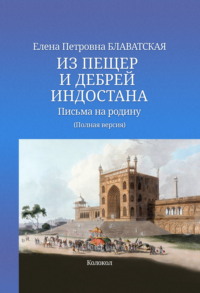Читать книгу: «Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину», страница 2
А теперь заглянем в Hand-Book и посмотрим, что об этом говорит Иствик, посвящая книгу брату своему, капитану Бомбейской армии. “Если бы, – пишет он, – наша злополучная крепость, даже когда и изъявила претензию на защиту, то неприятелю не стоило бы обращать на неё внимания. Ему следовало бы только, совсем не заходя в гавань, обогнуть остров и высадить войска с северной, совершенно не защищённой, стороны его. Только во время монсуна (сезона дождей) Бек-бей бывает опасен своими бурями, а главное, – подводными скалами, которыми так густо усеяно всё пространство кругом Пронгского маяка (Prong). Во все же остальные восемь месяцев пароходы могут с полною безопасностью бросать якорь вне залива”.
Не правда ли, как откровенно? Поэтому и злорадное замечание одного известного англо-индийского писателя, напоминающего, что в случае либо войны, либо затеваемого вторжения, “Бек-бей представляет столь же заманчивую, сколько и коварно-опасную приманку угрожающему неприятелю” – теряет всё своё значение. Эта опасность, как нам объявляет и “Guide-Book”, существует лишь во время четырёхмесячного монсуна, а в остальные времена года – милости просим!
А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят в каждом невинном туристе из других государств – шпиона. Проехала здесь, года два назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin20, и пожелала прокатиться по Индии; двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г-н Орас фан-Руит), изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, двух англичан из Лондона – ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, хотя и русской по рождению,21 и вот национальность последней подымает на ноги всю полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются политикой земного мира, но что их русская спутница даже и “аза в ней не смыслит”22. “Коварство России давно вошло в пословицу”, отвечают ей. “России де мы Афганистанскою войной23 отрезали дорогу через Гималайские горы; вот она и пошла плясать с другой стороны… Подружилась с китайцами, а теперь науськивает их идти на Индию через Рангун. Поэтому нам и необходимо завладеть Бирмой”.24 Уже и китайцев стали уже бояться с их горшками со смердящей жидкостью! Ну и владейте на здоровье, коли никто не мешает – благо, что предлог нашёлся. Только зачем же нести такой сумбур про Россию?
Эта национальная черта англичан кричать “караул, режут”, когда их никто и не думает трогать, – отвратительна. Она в них особенно развилась со времён биконсфильдского премьерства25. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить её в Индии? Здесь подозрительность перешла в мономанию: англо-индийцы готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чёртиков.
– А что, – спрашивает один американский полковник у главного полицейского надзирателя одной из северо-западных провинций, – возможно ли по-Вашему повторение сипайского возмущения 1857 года?26 Как Вы полагаете, усмирены индусы?
– Пшоу!.. Бояться подобного возмущения было бы столько же основательно, как и падения луны нам на голову! – получает он гордо в ответ.
А между тем, этот же капитан тут же рассказывает за завтраком о превосходстве полицейской организации в их провинциях: ни один индус не прибудет из деревни в город даже на один час без того, чтобы тотчас бы не узнали об этом в тайной полиции. Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был и англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане всё ещё дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель, в свою очередь, трусит… Тогда горе ему! Во всяком случае, подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости.
Наконец, мы бросили якорь, и в одну минуту сотни тощих, голых индусов, могулов, парсов и других народов атаковали как наш багаж, так и нас самих. Вся эта ватага мгновенно выскочила как бы со дна морского; защебетала, зачирикала, залопотала и стала голосить, как умеют голосить одни азиатские народы. Чтобы скорее избавиться от подобного Вавилонского столпотворения, грозившего оглушить нас навеки, мы бросились в первый попавшийся бундер-бот27 и отчалили.
Когда мы приехали в заранее заготовленный для нас бунгало, первое, что нас поразило в Бомбее, были миллионы ворон и коршунов. Первые – мусорщики города, и убивать их не только воспрещено полицией, но и весьма опасно, так как это навлекло бы на убийцу серьёзное возмездие со стороны индусов, всегда готовых предложить собственную жизнь за воронью. Души грешных прадедов их переселяются в ворон: убивать эту птицу значит мешать закону возмездия и тем28 обрекать душу на что-нибудь худшее. В этом не только индусы, но и не менее их суеверные парсы (даже самые образованные между ними) вполне уверены. Странные повадки индийских ворон (о которых будет упомянуто далее) до некоторой степени оправдывают такое поверье. А коршуны, всегдашние могильщики парсов, находятся под прямым покровительством Фарварданьи, ангела смерти, который парит над “Башней Молчания”, руководя занятиями пернатых работников. Но и об этом после.
Ужасное карканье ворон, не прерывающееся и по ночам, поражает вновь прибывшего своею странностью, но затем объясняется весьма просто. Всякое дерево из бесчисленного множества кокосовых лесов, окружающих Бомбей на откупе у правительства, и наверху каждого привязана тыква, в которую стекает сок, превращающийся по брожении в крепчайший напиток, называемый здесь “тодди”. Совершенно голые “тоддивала” (обыкновенно португальцы), скромно украшенные, между прочим, коралловым ожерельем, как белки лазят по два раза в день на вершину полуторастафутовых [46 м] стволов, собирая этот напиток. Вороны вьют гнёзда лишь на этих деревьях и постоянно пьют из этих открытых тыкв. В результате является хроническое опьянение этих крикунов.
Едва успели мы войти в густой, заросший сад нашего будущего жилища, как с каждого дерева послетала с пронзительным карканьем стая ворон: птицы эти окружили нас, прыгая на одной ноге. Чудилось нечто положительно человеческое в позе хитро склонённой на бок головы пьяной птицы, и чисто дьявольское выражение светилось в лукавом глазе, оглядывающем нас снизу вверх…
Радда-Бай
Письмо II29
Мы занимали три маленькие бунгало, утопающие как гнёзда в зелени сада, с крышами, буквально покрытыми розами, растущими на трёхсаженных [6,4 м] кустах, и с окнами, затянутыми кисеёй30, вместо обычных рам и стёкол. Эти бунгало находились в туземном квартале. Таким образом мы были разом перенесены в настоящую Индию: мы жили в Индии, и отнюдь не как англичане, лишь издали окружённые Индией; мы могли изучать её нравы, обычаи, религию, суеверия и обряды, знакомиться с её преданиями, словом, жить в одном кругу с индусами, в кругу заколдованном и недоступном англичанам, как вследствие вековых предрассудков туземцев, так и по собственному высокомерию англо-саксонской расы.
Всё в Индии, в стране слона и ядовитой кобры, тигра и неудачного английского миссионера, всё своеобразно, странно; всё кидается в глаза чем-то непривычным и неожиданным даже для того, кто побывал в Турции, Египте, Дамаске и Палестине. В этих тропических странах условия природы до того разнообразны, что делается понятным, почему все формы бытия в животном и растительном царствах должны разниться от тех же форм, к которым мы так привыкли в Европе. Взгляните: вот идут женщины к колодцу через частный, но всем открытый сад, где пасутся чьи-то коровы. Кому не случалось встречать женщин, видеть коров и любоваться садом? Кажется, вещи самые обычные; но стоит лишь вглядеться в них внимательнее, чтобы тотчас же сообразить всю громадную разницу между этими самыми предметами в Европе и Индии. Нигде человек не чувствует так своего ничтожества, своей слабости, как пред этою величественною природой тропиков. Прямые, как стрелы, стволы кокосовых пальм достигают иногда 200 футов [61 м] вышины; эти “принцы растительного царства”, как назвал их Линдли, увенчанные короной длинных ветвей – кормильцы и благодетели бедного народа: пальмы доставляют ему и пищу, и одежду, и кров. Самые высокие наши деревья показались бы карликами пред баньяном и особенно пред кокосовыми и другими пальмами. Наша европейская корова, приняв индусскую свою сестру сперва за телёнка, тотчас же отказалась бы от родства с нею, так как ни мышиный цвет шерсти, ни прямые, как у козла, рога, ни большой на спине её горб (как у американского бизона, но без его гривы) не дозволил бы ей впасть в подобную ошибку. Что же касается женщин, то хотя каждая из них способна привести любого художника в восторг своими движениями, костюмом, грацией, тем не менее от нашей румяной и дебелой какой-нибудь Анны Ивановны ни одна из красавиц Индостана не дождалась бы ни ласки, ни привета: “Ведь экая срамота, прости Господи, глядишь: баба-то совсем голая!” Мнение нашей русской женщины 1879 года вполне согласовалось бы на этот счёт с таковым же мнением знаменитого русского странника XV столетия, “грешного раба Божия Афанасия, сына Никитина, из Твери”. Совершив “грешное странствование” своё по трём морям: морю Дербентскому, сиречь “Дорьи31 Хвалиской”, морю Индии, “Дорви Иондустанской”, морю Чёрному или “Дорви Стемболвской” (Стамбул), – Афанасий Никитин прибыл в Чаул32 (или, как он называет его, Чевиль) в 1470 году и описывает Индию в следующих словах:
“Сия есть земля Индейская. Люди в ней ходят голые, с непокрытыми головами и голыми грудями; с волосами заплетёнными в одну косу. Жёны здесь рожают детей каждый год, и ребят у них много; мужи и жёны чёрные. Их князь носит одну фату на голове, а другую обматывает промеж ног; бояре носят её на плечах (т. е. брамины, носящие шарф через плечо), а княгини – на плечах и вокруг поясницы; но все босые. Жёны прохаживаются простоволосые и с голыми грудями. Мальчики и девочки ходят до семи лет совершенно наги и стыда своего не скрывая…”33
Всё это описание совершенно верно; только относительно их бескостюмия Афанасий Никитин не совсем-то прав: описание его может относиться лишь к низшим и беднейшим кастам. Эти действительно прохаживаются в одной “фате”; да и фата-то эта до того бедна, что часто представляет собою лишь тесёмку. Но у женщин она состоит из куска материи иногда до 15 аршин [10,7 м] длины; один конец служит короткими шароварами, а другим прикрывается грудь и голова на улице, хотя лица всегда открыты; причёска же напоминает греческий шиньон. Ноги ниже колен, руки до плеч и поясница всегда голые. Да и ни одна здесь честная женщина не согласится надеть башмаки: последние составляют принадлежность и отличительную черту только “нечестных” туземок. В южной Индии, напротив, башмаки дозволены лишь жёнам и дочерям браминов. Когда не так ещё давно жена мадрасского губернатора вздумала, под влиянием миссионеров, хлопотать в пользу закона, обязующего женщин покрывать грудь, то дело дошло почти до революции: ни одна женщина на это не согласилась, так как верхнее платье здесь носят лишь публичные танцовщицы. Проект, к великому горю миссионеров и благородных леди, провалился; правительство скоро поняло всё неблагоразумие восстановлять против себя женщин (которые в иных случаях гораздо опаснее своих мужей и братьев) покушением уничтожить обычай, предписанный законом Ману и освящённый трёхтысячелетнею давностью.
В течение более двух лет до нашего выезда из Америки мы находились в постоянной переписке с одним учёным, известным даже в Европе, брамином, слава которого гремит в настоящее время по всей Индии. Этот брамин, под руководством которого мы приехали изучать древнюю страну ариев, “Веды” и трудный язык её, пандит Дайананда Сарасвати, свами34. Он считается величайшим санскритологом современной Индии. Пандит этот составляет для всех непроницаемую загадку: выступив лет пять тому назад на арену реформаторства, он, как древние “гимнософисты” (упоминаемые греческими и римскими писателями), жил до того времени отшельником в “джонгле” [джунглях], а затем, под руководством мистиков и анахоретов,35 изучал главные философские системы “Арья-варты” 36 и тайный смысл “Вед”. С первых дней своего появления он поразил всех, и его тотчас прозвали Лютером Индии. Странствуя из одного города в другой, сегодня на юге, завтра на севере, переносясь с невероятною быстротой с одного конца страны на другой, он исходил весь полуостров от Коморинского мыса37 до Гималая и от Калькутты до Бомбея, проповедуя единство Бога38 и доказывая с “Ведами” в руках, что в этих древних писаниях нет ни одного слова, могущего быть перетолкованным в смысле политеизма. Гремя против идолопоклонства, великий оратор восстаёт всеми силами против каст, раннего брака и суеверия. Карая всё это зло, привитое к Индии столетиями фальшивой казуистики и лжетолкованием “Вед”, он прямо и бесстрашно укоряет в нём браминов, обвиняя их пред массами народа в унижении родины, когда-то великой и независимой, теперь павшей и порабощённой. Но Великобритания имеет в нём не врага, а пожалуй даже и защитника. Он не только не подстрекает народ к бунту, но, напротив, говорит ему прямо: “Прогоните англичан, и завтра и вы, и я, и все мы, восстающие против идолопоклонства браминов и зол мусульманского деспотизма, будем перерезаны как бараны. Мусульмане сильнее идолопоклонников, но последние сильнее нас…” И однако же англичане так мало понимают свою выгоду, что два года тому назад, в Пуне, где народ разделился на две партии: реформаторов и идолопоклонников-консерваторов, когда партия первых развозила своего проповедника с торжеством и ликованиями на слоне, а другая бросала в него камнями и грязью, то, вместо того, чтобы защищать Дайананду, она выслала его из города, запретив ему впредь являться туда.
Много горячих диспутов держал пандит с браминами, этими коварными врагами народа, и всегда выходил победителем. В Бенаресе к нему подослали убийц; но преступление не удалось. В одном местечке Бенгалии, где он особенно резко нападал на фетишизм, какой-то фанатик ловко бросил ему на голые ноги огромную змею кобру-дикапеллу39, укушение которой причиняет в три минуты смерть и от которого медицина до сих пор не знает спасения. “Да решит наш спор сам бог Васуки!40 воскликнул поклонник Шивы, уверенный, что его воспитанная и дрессированная для таинств змея тут же покончит с оскорбителем её святыни. “Да”, спокойно ответил Дайананда, стряхнув сильным движением ноги обвившуюся вокруг неё кобру, “только твой бог слишком медлил; спор решаю я…” И быстрым, могучим движением пятки раздавил голову змеи. “Идите”, добавил он, обращаясь к народу, “и поведайте всем, как легко погибают фальшивые боги!”
Благодаря превосходному знанию санскритского языка, пандит оказывает великую заслугу как народу, рассеивая его невежество насчёт монотеизма Вед, так и науке, указывая, что такое именно брамины, единственная каста в Индии, имевшая в продолжение столетий право изучать санскритскую литературу и толковать “Веды” и воспользовавшаяся этим правом лишь для собственного интереса. Задолго ещё до появления таких учёных ориенталистов, как Бюрнуф, Колебрук и Макс Мюллер, было немало туземных реформаторов, старавшихся доказать чистый монотеизм учения “Вед”. Являлись и основатели новых религий, отрицавшие откровение этих писаний, как, например, раджа Рамохун Рой [Рам Мохан Рой], а за ним бабу Кешуб-Чендер-Сен [Кешобчондро Сен] – оба калькуттские бенгальцы.41 Но ни те, ни другие не имели положительного успеха: они только к бесчисленному множеству других сект Индии прибавили новые. Рамохун Рой умер в Англии, не успев ничего сделать, а преемник его, Кешуб-Чендер-Сен, установив “церковь Брахмо-Самадж”, в которой исповедуется религия, извлечённая из глубины собственного воображения бабу, бросился в самый отвлечённый мистицизм и теперь оказывается “одного поля ягодой” со спиритами, которые его считают за медиума и провозглашают калькуттским Сведенборгом.
Таким образом, все попытки возобновить чистый первобытный монотеизм арийской Индии оставались до сей поры более или менее тщетными. Они разбивались, как волны, о неприступную скалу брахманизма и веками вкоренившихся предрассудков. Но вот нежданно-негаданно является пандит Дайананда. Никто даже из самых приближённых к нему учеников не знает, кто он и откуда он. И сам он откровенно сознаётся перед народом, что даже имя, под которым они его знают, ему не принадлежит, а дано ему при посвящении его в йоги.42 Знают одно: такого учёного санскритолога, глубокого метафизика, удивительного оратора и бесстрашного карателя всякого зла, Индия не видала со времён Шанкарачарьи, знаменитого основателя философии Веданты, самой метафизической изо всех систем Индии, венца пантеистического учения. К тому же наружность Дайананды поразительная: громадный рост, бледная (скорее европейская, нежели индийская) смуглость лица, большие чёрные искромётные глаза и длинные чёрные с проседью волосы43. Голос у него чистый, звучный, способный передавать оттенки всякого внутреннего чувства, переходящий от нежного, почти женского шёпота, увещания, до громоподобных раскатов гнева против злоупотреблений и лжи презренного жречества. Всё это взятое вместе неотразимо влияет на нервного, мечтательного индуса. Всюду, где бы ни появился свами Дайананда, толпы падают пред ним ниц и простираются во прахе ног его. Но он не проповедует им, как, например, бабу Кешуб-Чендер-Сен, новой религии, не учит их новым догматам; он только просит их обратиться к санскритскому, почти забытому языку и, сравнив учение праотцов их, арийской Индии, с учениями Индии браминов, вернуться к чистым воззрениям на божество первобытных риши (Rishis): Агни, Вайю, Адитьи и Ангиры44. Он даже не учит, как другие, что “Веды” были-де получены откровением свыше; он учит, что “всякое слово в “Ведах” принадлежит к высшему разряду божественного вдохновения, возможного человеку на этой земле, – вдохновению, повторяющемуся в истории всего человечества, в случае надобности, и между другими народами…“
В эти последние пять лет у свами Дайананды насчитывают около двух миллионов новообращённых, большею частью из высших каст. Последние, по-видимому, готовы положить за него все до одного и жизнь, и душу, и даже самое состояние, что для индуса часто бывает драгоценнее самой души. Но Дайананда, как истый йог, до денег не дотрагивается, денежные дела презирает и остаётся довольным несколькими горстями риса в день. Словно заколдована жизнь этого удивительного индуса, так беспечно играет он самыми худшими человеческими страстями, возбуждая во врагах своих самый бешеный и столь опасный в Индии гнев. Мраморное изваяние не оставалось бы спокойнее Дайананды в минуты самой ужасной опасности. Мы один раз видели его на деле: отослав всех приверженцев своих и запретив им следовать за ним либо заступаться за него, он остановился один пред разъярённою толпой и спокойно смотрел в глаза чудовищу, готовому прыгнуть и разорвать его на куски… Два года тому назад он начал переводить с собственными, совершенно новыми комментариями “Веды” с санскритского на язык хинди – самый распространённый здесь диалект. Его Веда Башья45 служит неисчерпаемым источником учёности самого Макса Мюллера, в переводах немецкого санскритолога, который постоянно переписывается и советуется с Дайанандой. Ему также многим обязано другое светило по части ориентализма – Монье Уильямс, профессор в Оксфорде, который, побывав в Индии, лично познакомился с пандитом Дайанандой и его учениками.46
Но здесь необходимо небольшое отступление.
Лет пять тому назад в Нью-Йорке образовалось общество образованных, энергических, решительных людей. Один остроумный учёный прозвал этих людей “членами Общества des Malcontents du spiritisme47”. Основатели этого клуба были люди, верившие в феномены спиритуализма, как и в возможность всяких других феноменов в природе, но вместе с тем отвергавшие теорию “о духах”. Люди эти взирали на современную психологию как на науку, стоящую ещё на самой первоначальной ступени развития, находящуюся в совершенном неведении относительно “духовного человека” и, притом, отвергающую в лице многих своих представителей всё то, чего она сама не может разом объяснить по-своему.
С первых же дней основания этого Общества (Теософского) к нему примкнули многие из самых учёных людей Америки. Члены эти разнились в своих понятиях и взглядах не менее членов любого географического или археологического общества, столько лет ссорившихся, например, из-за истоков Нила или египетских иероглифов. Но как в отношении к устьям и иероглифам все единодушно соглашались, что раз существуют воды Нила и пирамиды, то где-нибудь да находятся и эти истоки, и ключ к иероглифам; так точно и в отношении к феноменам спиритизма и магнетизма. Феномены ждали лишь своего Шампольона, а Розетский камень48 следовало искать не в Америке или Европе, а в странах, где ещё верят в магию, где местным жречеством производятся “чудеса” (в которые общество не верило) и куда ещё не проникал холодный материализм науки, словом – на Востоке. “Ламо-буддисты”, рассуждал совет Общества, не верят ни в Бога, ни в личную индивидуальность человеческой души, но они славятся своими феноменами; а “месмеризм” известен и практикуется в Китае под названием йина и яйна уже много тысяч лет. В Индии боятся и ненавидят столь уважаемых спиритами духов, но их простые, невежественные факиры производят “чудеса”, ставящие в тупик самых учёных исследователей и приводящие в отчаяние известнейших в Европе фокусников. Многие из членов Теософского общества бывали в Индии, многие родились там и самолично неоднократно присутствовали при “колдовствах” её браминов. Основатели этого клуба, глядя на современное невежество относительно духовной стороны человека, рассуждали, что должен же когда-нибудь метод сравнительной анатомии Кювье быть допущенным и в метафизике и перейти из области физической в область психологической науки и на таких же дедуктивных и индуктивных началах, как и в первом случае; иначе психиатрия не сделает ни одного шага вперёд и запрудит даже и другие науки естествознания. Мы уже видим, как физиология мало-помалу захватывает не принадлежащие ей права охотиться во владениях чисто метафизических, абстрактных знаний, притом делая всё время вид, будто бы и знать ничего не хочет о последних, и, втеснив их в неподдающееся её страданиям Прокрустово ложе49 естествоведения, старается подвести психологию под итог точных наук.
В скором времени Теософское общество стало считать своих членов не сотнями, а тысячами. Все “malcontents”50 спиритуализма в Америке (а там считается спиритуалистов 12 миллионов) присоединились к упомянутому Обществу. Между тем установились коллятеральные51 ветви его в Лондоне, Корфу, Австралии, Испании, Кубе, Калифорнии и пр.52 Производились эксперименты, и всё более приходили к убеждению, что не одни же “духи” производят феномены.
Наконец основалась ветвь Теософского общества и в самой Индии, и на Цейлоне.53 В числе членов Общества постепенно стало оказываться больше буддистов и брахманистов, нежели европейцев. Составился союз, и к имени общества было добавлено название “Brotherhood of Humanity” (братство человечества). Вступив в деятельную переписку с вождями религиозных и реформаторских партий Арьи Самадж (то есть Общества арийцев), основанной свами Дайанандой, все слились с Теософским обществом. Затем главный совет Нью-Йоркского Общества решил отправить в Индию делегацию с целью изучения на месте, под руководством санскритологов, древнего языка “Вед”, рукописи и “чудес” йогизма. Для этого избраны президент Нью-Йоркского общества, два секретаря и два советника. И вот 17 декабря 1878 года “миссия” отплыла из Нью-Йорка в Лондон и затем в Бомбей, куда и прибыла в феврале 1879 года.
Понятно, что при таких благоприятных обстоятельствах члены помянутой миссии в состоянии изучать страну и производить исследования тщательнее, нежели кто-либо другой, не принадлежащий к Обществу. На них взирают, как на “братьев”, и им помогают самые влиятельные туземцы Индии. Они имеют членов между пандитами Бенареса и Калькутты, между первосвященниками буддистских вихар Цейлона (учёный “Сумангала”54, между прочим, глава пагоды на Adam’s Peak, о котором упоминает г-н Минаев в своём путешествии), среди лам Тибета, в Бирме, Траванкоре и т. д. Членов миссии допускают в святилища, где ещё не была нога европейца; поэтому они смело могут надеяться, что, несмотря на неохоту представителей точных наук и их недоброжелательство к ним, верующим, они будут в состоянии оказать более одной услуги миру и науке.
Тотчас по приезду в Бомбей мы намеревались ехать лично знакомиться с Дайанандой и поэтому немедля отправили к нему телеграмму. В ответ он нас известил, что ему необходимо ехать в Хардвар (Hurdwar), куда стекалось в этот год несколько сот тысяч пилигримов. Он просил нас вместе с тем не приезжать в Хардвар, так как там непременно должна появиться холера, и назначил нам чрез месяц местом свидания местечко у подножия Гималаев, в Пенджабе.55 Таким образом нам оставалось довольно времени осмотреть все достопримечательности Бомбея и его окрестностей.
Решив наскоро осмотреть первый, мы согласились ехать потом, не теряя времени, в Декан, на большой храмовой праздник в Карли,56 старинный пещерный храм буддистов, по уверению одних, – браминов, как доказывают другие. Затем, посетив Танну, на острове Сальсетте, и храм Каннари, мы намерены были отправиться в столь прославленный Афанасием Никитиным Чаул.
А пока поднимемся на вершины Малабарского холма, к “Башне Молчания”, последнему жилищу каждого из сынов Зороастра.
“Башня Молчания”, как сказано, – кладбище парсов. Тут богатый и убогий, набаб57 и кули58, мужчины, женщины и дети – все кладутся рядом, и от каждого из них через несколько минут остаются лишь одни скелеты… Странное, тяжёлое впечатление производят на иностранца эти “башни”, где действительно целые века царствует гробовое молчание. Подобные строения рассеяны повсюду, где только живут и умирают парсы, особенно в Сурате. Но в Бомбее из шести таких башен самая большая выстроена 250 лет тому назад, а следующая за ней по величине даже очень недавно. Это круглые, иногда и четырёхугольные строения без крыш, без окон, без дверей, от 20 до 40 футов [6-12 м] вышины и с одним лишь закрытым кустами отверстием на восток, состоящим из толстой железной дверцы. Первый труп, принесённый в новую дакхму (так называются эти башни), должен быть трупом невинного ребёнка и непременно дитяти “мобеда” (жреца). К этим башням, построенным в стороне, на холме и среди уединённого сада, никому не дозволяется подходить, даже главному смотрителю и сторожам, ближе как на тридцать шагов расстояния. Одни нассесалары59 (носильщики трупов), ремесло коих наследственное и которым закон строго воспрещает заговаривать с живыми, дотрагиваться или даже подходить к ним, входят и выходят из “Башни Молчания”. Входя, они вносят труп, безразлично богатого или бедного человека, завёрнутый в белые и самые старые тряпки; раздев его донага, они кладут его в тот или другой из трёх кругов и, не произнося ни слова, выходят в таком же молчании из башни, запирая её до следующего покойника, а саван – тряпки – тотчас же сжигают.
Смерть у огнепоклонников лишена всего своего величия, и труп возбуждает в них лишь одно омерзение. Коль скоро замечают, что наступает последний час больного, все домашние отделяются от него, как для того, чтоб не помешать душе освободиться от тела, так и затем, чтобы живому не оскверниться прикосновением к мёртвому. Один мобед шепчет на ухо умирающему напутственное из Зенд-Авесты наставление: “Ашем-Воху” и “Ято-ахуварье”, и удаляется, пока отходящий ещё жив. Затем приводят собаку и заставляют её смотреть в лицо умирающему. Эта церемония называется сас-дид (собачий взгляд), так как собака единственное из живых существ, взгляда которого боится друкс-насу (злой демон), сторожащий умирающих, дабы завладеть их телом… Следует однако остерегаться, чтобы чья-нибудь тень не легла между мёртвым и собакой; иначе пропадает вся сила собачьего взгляда, и демон воспользуется благоприятною минутой. Где бы ни умер парс, там он и остаётся, пока за ним не явятся нассесалары, с руками, погружёнными до плеч в старые мешки. Положив покойника в железный закрытый гроб (один для всех), его относят в дакхму. Если б отнесённый в дакхму даже ожил (что нередко случается), он уж не выйдет более на Божий свет: нассесалары в таком случае убивают его. Кто раз осквернился прикосновением к мёртвым телам и побывал в “башне”, тому возвращаться в мир живых уже невозможно: он осквернил бы всё общество.60 Родные следуют за гробом издали и останавливаются в 90 шагах от “башни”.
У отверстия, после последней молитвы, повторяемой хором носильщиками возле тела, а мобедом издали, ещё раз повторяется церемония с собакой. В Бомбее нарочно для этого дрессированная собака держится на цепи у дверец башни. Затем нассесалары вносят тело внутрь и, вынув его из гроба, кладут на отведённое трупу, смотря по полу или возрасту, место.
Мы два раза присутствовали при церемонии “умирания” и один раз при “погребении”, если позволено употребить подобное не подходящее к делу выражение. На этот счёт парсы гораздо снисходительнее индусов, считающих присутствие европейца осквернением их религиозных обрядов. Хоронили какую-то богатую женщину, и наш знакомый смотритель башни, Н. Байранжи, пригласил нас к себе в дом. Таким образом мы присутствовали при всех обрядах, находясь шагах в сорока от башни, на веранде бунгало нашего любезного хозяина. Сам он, хотя уже много лет служил при “башне”, в неё никогда не входил и даже близко не подходил. Пока собака глазела на покойника, мы, признаться, с тайным чувством отвращения глазели, в свою очередь, на огромную стаю коршунов, летавших над дакхмою. Коршуны влетали в неё и снова вылетали с кусками окровавленного человеческого мяса в клюве… Эти птицы, которые ныне сотнями свили себе гнёзда над “Башней Молчания”, привезены нарочно с этою целью из Персии, так как коршуны Индии оказались и не довольно хищными и слишком слабыми, чтобы справляться с окоченевшими трупами со скоростью, требуемою законом Зороастра. Говорят, будто процесс совершенного очищения костей от мяса требует не более нескольких минут…
Ред.: оригинал текста (ru.wikisource.org):
«И тут есть Индийская страна, и люди ходят все наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети родятся на всякый год, а детей у них много. А мужики и жонкы все нагы, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку. А князь ихъ – фота на голове, а другая на гузне; а бояре у них – фота на плеще, а другаа на гузне, княгини ходят фота на плеще обогнута, а другаа на гузне. А слуги княжие и боярьскые – фота на гузне обогнута, да щит, да меч в руках, а иные с сулицами, а иные с ножи, а иные с саблями, а иные с луки и стрелами; а вси наги да босы, да болкаты, а волосов не бреют. А жонки ходят голова не покрыта, а сосцы голы; а паропки да девочки ходят наги до семи лет, сором не покрыт».
Начислим
+30
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе