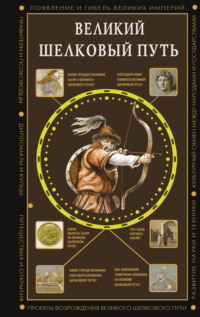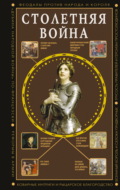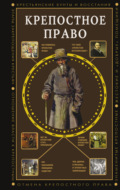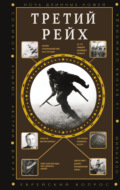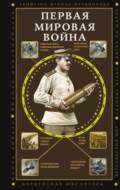Читать книгу: «Великий Шелковый путь», страница 3
Глава третья
Китай открывает Запад
Божество тутового шелкопряда
Великие открытия часто происходят по чистой случайности, когда человек, не подозревая о божественном провидении, тем не менее следует воле небес. И тогда к нему приходит озарение или он сам является проводником неведомых сил. Мы все помним открытие Ньютона, когда упавшее с дерева яблоко привело ученого к формулированию закона всемирного тяготения. Нечто подобное случилось и много веков назад в Китае. Только роль яблока здесь сыграл кокон шелкопряда. Но это открытие имело для развития цивилизации ничуть не меньшее значение, чем закон Ньютона.
Жена Великого желтого императора Ши Хуан-Ди Лэй Цзу во время чаепития сидела под кроной тутовника, когда внезапно – как ей показалось, прямо с неба – в чай упал кокон шелкопряда. Императрица извлекла его из чаши, кокон стал разматываться, и взволнованная женщина увидела длинную нить – волокно для пряжи. За это открытие императрица была наречена «Божеством шелка». И с тех пор по праздникам в ее честь на алтари храмов приносились в дар коконы шелкопряда.
Существует и другая красивая легенда о том, что жили некогда отец с дочерью, и был у них крылатый волшебный конь, который мог понимать человеческую речь. Однажды отец не вернулся домой, и дочь поклялась, что если конь найдет отца, то она выйдет за него замуж. Конь отыскал отца, но отец не хотел, чтобы дочь исполнила свою клятву, и поэтому убил его. Но когда конь уже был почти разделан, его кожа как ковер подхватила девушку и взмыла в небеса. Долго они летели и наконец опустились на тутовое дерево. Когда же девушка коснулась ветвей, то превратилась в шелкопряда и стала выпускать длинные нити – как слезы о потерянной любви и разлуке.
Важно отметить: во всех легендах говорится, что именно женщины причастны к открытию шелкопряда, ведь традиционно шелководческими работами занимались представительницы прекрасного пола!
Согласно историческим данным и археологическим раскопкам, коконы тутового шелкопряда и их свойства были знакомы китайцам уже почти пять тысяч лет назад. Шелк был окружен в Китае самым настоящим почитанием. В стране существовали священные тутовые рощи и совершались жертвоприношения божествам шелковичного червя. Основным центром шелководства был Ханчжоу. Сезон шелководческих работ открывался весной и длился полгода. О высоком статусе всего, что связано с шелком, говорит тот факт, что открывала этот сезон сама императрица.
На заре зарождения шелкопрядения одежду из шелка носили только члены императорской семьи. При этом цвет одежды строго регламентировался. В дворцовых покоях одевались в белое, при парадных выходах и торжествах – в желтое. Постепенно в связи с развитием производства одежду из шелка стали носить придворные, а затем и простые китайцы.

Хуэй-Цзун. Женщины, изготавливающие шелк. Рисунок чернилами на шелке. 1100–1133
Письменные источники и археологические находки дают важную информацию о шелководстве и шелкоткачестве в древнем Китае. На бронзовых сосудах периода Чэканьго, на барельефах и настенных росписях эпохи Хань можно увидеть тутовые деревья – высокие и низкие. На высокие сборщикам листьев нужно было залезать, а с низких, которые ненамного превышали рост человека, было легче собирать листья для кормления шелковичных червей. Они носили название «луская шелковица» или «наземная шелковица». Постепенно «луские шелковицы» получили широкое распространение, что способствовало улучшению породы шелкопрядов и получению шелка более высокого качества.
Согласно древним письменным источникам, шелковицы обычно сажали на пустырях, межах полей, перед домами. Алтари иньского правящего дома и некоторых из чжоуских княжеских фамилий находились в рощах из тутовых деревьев, которые назывались специальным термином – «Лес шелковиц». А места рождения древних правителей и выдающихся исторических деятелей, согласно мифам и легендам, часто поэтично назывались «шелковичными пещерами». Образ мифологического солярного древа Фусан также связан с шелковицей.
Археологические раскопки позволяют датировать начало китайского шелкоткачества VI–V тыс. до н. э., а его родину соотносить с областью нижнего течения Янцзы.
Лянчжуские мастера владели не только искусством шелкоткачества, но и умением разводить бабочек и гусениц тутового шелкопряда. От иньской эпохи подлинных образцов шелковых тканей не сохранилось, но имеются материальные свидетельства шелкоткачества в этот период. К ним можно отнести отпечатки тканей на бронзовых и нефритовых изделиях. Тогда было принято обертывать предметы погребального инвентаря кусками ткани. Прежде чем истлеть, шелк (при определенных благоприятных условиях) оставлял отпечатки на металлической и нефритовой поверхности, часто настолько четкие, что по ним удавалось восстановить тип, фактуру ткани и даже наличие вышивки.
Согласно письменным источникам, в иньскую эпоху было несколько региональных центров шелководства и шелкоткачества. Они локализировались на юго-востоке, юге и юго-западе страны – на территории современных провинций Цзянсу, Аньхуэй, Хунань и Сычуань.

Этапы производства шелка. Гравюра из Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. 1751–1780
Самые ранние подлинные образцы древних шелковых тканей, точнее небольшие фрагменты, можно датировать раннечжоуским периодом и периодом Весен и Осеней. (Так в китайской истории называют время с 722 по 481 г. до н. э. в соответствии с летописью Чуньцю «Вёсны и Осени», составителем которой традиционно считается Конфуций. Период относится к началу династии Восточная Чжоу.)
Начиная со второй половины чжоуской эпохи шелк можно обнаружить в погребениях, которые располагались в первую очередь на территории царства Чу – крупнейшего царства чжоуского Китая, располагавшегося в районах к югу от Хуанхэ, преимущественно в бассейне рек Хуай и Хань. О том, как широко использовался шелк в захоронениях, можно судить по женскому погребению из комплекса Цзянлин (340–378 гг. до н. э.). Усопшая была облачена в 13 слоев одежды, состоявших в общей сложности из 31 предмета. Поверх одежд находились три покрывала и саван. Все эти вещи были изготовлены из гладких и узорчатых тканей – тафты, газа, полихромных шелков. Данные находки совместно с письменными источниками позволили почти полностью и в деталях восстановить тип древних шелков и технологию их производства. Доказано, что именно на протяжении периода Борющихся царств (этот период длился от V в. до н. э. до объединения Китая императором Цинь Ши Хуанди в 221 г. до н. э. Этот исторический отрезок следует за периодом Вёсен и Осеней, а также входит в эпоху правления династии Восточная Чжоу) и Ханьской эпохи (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), когда оформились все основные производственные операции китайского шелкоткачества и сформировался ареал главных шелкопроизводящих центров.
В третьем месяце по лунному календарю, который назывался «шелкопрядный», начинались работы по выкармливанию шелкопрядов. В первый день этого месяца женщины промывали яйца шелкопряда (они еще называются греной) чистой водой и помещали в теплый «шелковичный домик». Для стимулирования быстрого развития грену поливали отваром. В «шелковичном домике» нужно было соблюдать определенную температуру и тишину, содержать его в чистоте, проветривать, не допускать сильных потоков воздуха. Сперва грена находилась в кормушках. Через 20–22 дня гусеницы начинали окукливаться. После этого их помещали в решета и ставили на деревянные стеллажи. На следующем этапе коконы обваривались кипятком, и с них разматывали нити. В результате этой операции клейкое вещество серицин, который скрепляет нити между собой, растворялось настолько, что волокно, достигающее 700–1000 м в длину, оставалось нетронутым. На прядильном колесе эти волокна соединялись в одну нить. Иногда нити для утолщения сращивались повторно.
В отличие от других волокон растительного или животного происхождения шелковые нити с коконов шелкопряда не требовали скрутки.
Важные сведения о подготовке шелковых нитей для ткачества дают изображения на барельефе периода Восточной Хань, где можно видеть процесс намотки нитей на катушку. На трех барельефах, происходящих из провинции Шаньдун, показана ткачиха, наматывающая нить на катушку. Перед ней на земле находится мотовило. Нить идет вверх через крючок и вниз к ткачихе, а та левой рукой направляет нить на катушку, которую держит в правой руке.
Самое раннее из известных нам изображений прядильного колеса находится на картине на шелке, обнаруженной в 1976 г. в могиле периода ранней Хань в Цзинь Цзяошани (уезд Линьин, пров. Шаньдун). Кроме того, нам известно четыре ханьских барельефа из Шаньдуна и Цзянсу с изображением прядильного колеса. На одном из них нить идет из одной шпульки – по-видимому, показан процесс намотки нитей на барабан. На двух других барельефах нити разматываются с двух шпулек, проходят через крюк и спускаются к колесу. Ткачиха одной рукой направляет нить, другой вращает колесо. На барельефе, найденном в 1956 г. в провинции Цзянсу, тростильщик сидит перед другим мастером, разматывающим нить с мотовила, но изображения барабана на этом колесе нет. На барельефе позднеханьского времени из уезда Сыхунь (провинция Цзянсу) мы видим изображение прядильного колеса более современной конструкции с ножным приводом.
Для окраски шелка употребляли красители на основе растительных и минеральных пигментов. Древнейшими растительными пигментами являлись трава лань (местная разновидность произрастающего на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии растения индигофера, из которого получается краситель синего цвета), корень морены (красный цвет), плоды гардении (чжи-цзы, желтый краситель), желуди китайского дуба (черный). Во II–I вв. до н. э. в качестве сырья для красного красителя стали выращивать сафлор (кит. хун-хуа – «красный цветок») – растение, попавшее в Китай по Великому шелковому пути и быстро адаптированное к местным условиям. Из минеральных пигментов употреблялись киноварь, дающая красный цвет, и охра чжэ-ши, из которой получались красители красного, желтого и коричневого тонов. Уже в древности китайские мастера-красильщики в совершенстве владели техникой многослойного окрашивания и умели добиваться нужных оттенков путем комбинирования красок. Например, для получения нитей светло-багрового цвета их окрашивали три раза, используя попеременно красные и синие (или красные и черные) пигменты в определенных соотношениях. Шелк составлял важнейшую часть культуры Китая, и в стихотворении китайского поэта одежда из шелка – один из непреходящих символов быстротечности и одновременно радости жизни.
…Как поток, как поток,
вечно движутся инь и ян,
Срок, отпущенный нам,
словно утренняя роса.
Человеческий век промелькнет,
как краткий приезд:
Долголетием плоть
не как камень или металл.
Десять тысяч годов
проводили один другой.
Ни мудрец, ни святой
не смогли тот век преступить.
Что ж до тех, кто «вкушал»,
в ряд стремясь с бессмертными встать,
Им, скорее всего,
приносили снадобья смерти.
Так не лучше ли нам
наслаждаться славным вином,
Для одежды своей
никаких не жалеть шелков!
(Древнее китайское стихотворение в переводе Л. Эйдлина)
Сюнны, хунны… Гунны
Казалось бы, что общего между Великим шелковым путем и воинственным предводителем гуннов Аттилой, наводящим ужас на всю Европу, и Китаем? Оказывается, гунны были и на территориях, приграничных с Китаем, только назывались они там «сюннами». Хотя некоторые исследователи, например Лев Гумилев, автор труда «История народа хунну», употребляют вместо «сюнну» монгольское наименование гуннов – «хунну».
Это были воинственные племена, которые доставляли немало хлопот своим соседям. Их описание можно найти в китайских источниках, где есть характеристика предков хуннов – «ху». Эти предки были лишены государственности, являлись кочевыми скотоводами, но для науки они сделали важное дело – перебрались через пустыню Гоби и открыли Сибирь. Эти кочевники совершали набеги в пограничные области Китая, все разоряли и растаптывали на своем пути, оставляя позади себя выжженные земли. Они уводили в монгольские степи тысячи пленных, и китайцы не знали, как противостоять беспощадному и жестокому врагу.
Первое упоминание о хуннах в Китае относится к 822 г. до н. э. В одной из од «Книги песен» описывается их вторжение:
«В шестой месяц, какое смятение! Боевые колесницы стоят наготове, в каждую запряжено четыре статных коня, они снаряжены, как это обычно делается. Хунну яростно вторглись, поэтому мы должны были спешно выступить; чтобы освободить столицу, царь приказал выступить в поход. Мы победили Хунну, проявив великую храбрость, хунну плохо рассчитали, заняв Цяо и Ху, захватив Хао и Фэнь, дойдя до северной части реки Цзинь. Наши знамена, украшенные изображениями птиц, развевались своими белыми складками. Десять военных колесниц мчались впереди. Мы победили Хунну. Это пример для десяти тысяч [т. е. многих] стран».
Здесь речь идет о столь ценной и желанной победе китайцев над хуннами-сюннами. Но эта победа не была окончательной, а являлась всего лишь одним из эпизодов непрекращающейся войны.
Затем на какое-то время хунны пропадают из исторических хроник, и Поднебесная подвергается набегам со стороны других племен – жунов.
Китай в то время представлял собой лоскутное одеяло из феодальных княжеств, а для успешного отражения натиска врагов требовалась крепкая централизованная власть. Это являлось основной причиной, почему страна не могла справиться с племенами, которые вторгались на ее земли. Борьба с жунами шла с переменным успехом, но в конечном итоге победа досталась китайцам. Однако, находясь в окружении враждебных племен, они не могли чувствовать себя в безопасности.
Мироощущение китайцев было таким, словно они находились на острове, со всех сторон окруженном неприятельским флотом. Об этом весьма образно и красочно повествует стихотворение Цюй Юаня «Призывание души»:
Восточной стороне не доверяйся,
там великаны хищные живут
и душами питаются людскими;
там десять солнц всплывают в небесах
и расплавляют руды и каменья,
но люди там привычны ко всему.
И в южной стороне не оставайся!
Узорами там покрывают лбы,
Там человечину приносят в жертву
и стряпают похлебку из костей.
Там ядовитых змей несметно много,
там мчатся стаи великанов-лис;
удавы в той стране девятиглавы.
Вся эта нечисть там кишмя кишит,
чтоб пожирать людей себе на радость.
Про вредоносность запада послушай:
повсюду там зыбучие пески,
вращаясь, в бездну льются громовую.
Сгоришь, растаешь, сгинешь навсегда!
А если чудом избежишь несчастья,
там все равно пустыня ждет тебя,
где каждый муравей слону подобен,
а осы толще бочек и черны.
Там ни один из злаков не родится
и жители, как скот, жуют бурьян,
и та земля людей, как пекло, жарит.
Воды захочешь – где ее найти?
И помощь ниоткуда не приходит.
Пустыне необъятной нет конца…
На севере не вздумай оставаться:
там громоздятся льды превыше гор,
метели там на сотни ли несутся…
(Перевод А. Ахматовой)
Китайцы ни на минуту не могли забыть об опасности, которая подстерегала их со всех сторон. И только после возвышения династии Цинь положение Китая изменилось.
Царство Цинь, ставшее централизованным государством благодаря проведенным военным и политическим реформам, сумело добиться объединения китайских земель под своей властью. Завоевание Восточного Китая царством Цинь продолжалось двести лет и получило наименование «Брань царств», или период Борющихся царств. Сломив сопротивление противников, князь Ин Чжэн стал императором и принял титул Цинь Ши Хуанди. Стремясь закрепить победу, он совершил поход на Юг и заставил местные племена признать его власть.

Неизвестный художник. Портрет Цинь Ши Хуанди, первого императора династии Цинь. XVIII век
Желая обезопасить страну от вторжения соседних племен, Ши Хуанди предпринял акт, имевший большое государственное значение, – он приступил к строительству Великой Китайской стены на северных границах. Существовавшие до этого разрозненные стены должны были стать единым мощным укреплением. Работы велись беспрерывно, и днем и ночью, от тяжелых условий многие люди умирали, и трупы замуровывали прямо в земляной насыпи стены.
Когда строительство подошло к концу, пошли разговоры о том, что возведение Великой стены бессмысленно, поскольку вооруженных сил Китая не хватит на оборону такого длинного фортификационного сооружения. В самом деле – в длину она занимала 4 тыс. км, высота была 10 метров, через каждые 60–100 метров высились сторожевые башни. Несмотря на критику, возведение стены имело большое положительное значение: враждебным племенам невозможно было применять конницу для набегов, да и сам вид стены сигнализировал, что осада и нападение легкими не будут.
Великая Китайская стена до сих пор является впечатляющим памятником Древнего Китая.
С Ши Хуанди связана и так называемая «терракотовая армия» – захоронение свыше восьми тысяч терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора в Сиане. Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства, так как выполнялись в индивидуальном порядке, вручную – каждая статуя имеет свои уникальные черты. После придания необходимой формы фигуры обжигались и покрывались специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска.
Сегодня Великая Китайская стена и «терракотовая армия» входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большое путешествие Чжан Цаня
В основе почти каждого открытия или путешествия лежит жажда познать мир, описать его и оставить труд в назидание потомкам. Но Чжан Цянь – человек, который открыл для Китая другие земли, – не помышлял ни о чем подобном. Он являлся чиновником и был отправлен ханьским императором (к тому времени династию Цинь сменила династия Хань) на запад для установления союза с племенами юэчжи против хунну, непрестанно совершавших набеги на китайские земли.
В середине II в. до н. э. двор китайского императора получил известие, что враждебные хуннам кочевые племена «больших юэчжи», дважды разбитые теми в степях, лежащих к западу от Великой стены, обосновались где-то за далекими горами. И в 140 или 139 г. до н. э. император У-ди решил направить к этим юэчжи посольство, чтобы заключить с ними союз против хуннов и нанести давним врагам Китая сокрушительный удар с востока и запада.
Было сформировано большое посольство количеством более ста человек, и вскоре этот караван выехал из области Лунси в сторону страны юэчжи. Чжан Цянь, возглавлявший посольство, был физически крепок и вынослив, к тому же он обладал обходительностью и умел находить язык с людьми других племен. В помощь Чжан Цяню был дан хуннский раб Гань Фу, хорошо владевший стрельбой из лука.
На карте Азии в то время можно было выделить две большие области – сам Китай и часть Азии, примыкавшую к Китаю. В азиатской области (после похода Александра Македонского) царило смешение разных культур – греческой, вавилонской, персидской. Но среднеазиатский Китай ничего не знал о землях, лежащих за собственными пределами. Было неизвестно, сколько времени надо добираться до страны юэчжи и какие трудности могут поджидать путешествующих, но главная проблема состояла в том, что путь пролегал через земли хунну, и в любой момент можно было ожидать нападения.
И действительно, вскоре посольство было схвачено дозорными хуннов и направлено к вождю. Предводитель хуннов задержал Чжан Цяня в своем плену на целых десять лет. Желая отбить у него охоту путешествовать, он дал Цяню жену-хуннку, родившую тому наследника. Но мысль о побеге не оставляла бывшего посла китайского императора. Воспользовавшись удобным случаем, он вместе со своей семьей и челядью, а также с верным хуннским рабом Гань Фу бежал из плена. Он сохранил при себе бирку посла, понимая, что в любой момент она может вновь ему понадобиться.
Преодолев тянь-шаньские перевалы, беглецы вышли к озеру Иссык-Куль, где находилась ставка вождя одного из местных племен. Тот сообщил Чжан Цяню о том, что юэчжи бежали от хуннов на юго-запад в страну Давань (Даюань), и тот направился туда с целью вступить с ними в переговоры.

Посольство Чжан Цяня. Фреска из храмового комплекса Цяньфодун. VIII век
Но его надежды не оправдались – достигнув страны Даюань, Цянь обнаружил, что юэчжи покинули и эти места. Правда, правитель Даюани был к нему благосклонен и оказал помощь.
Узнав, что Чжан Цянь отправляется с миссией в Большое Юэчжи, правитель выделил ему переводчика и проводника для сопровождения в пути к юэчжи через Канцзюй. Иероглифами «канцзюй» обозначалось скифское племя, жившее на северном побережье Сырдарьи и подчинившее себе согдийцев на южном побережье Сырдарьи. Вождь канцзюй оказал Чжан Цяню радушный прием и выделил отряд для сопровождения ханьского посла во дворец юэчжи на северном берегу Амударьи. В ту пору Большим Юэчжи правила вдовствующая царица (по другим источникам, царевич) и юэчжи уже подчинили себе богатые земли Бактрии на южном побережье Амударьи. В Бактрии не прекращались беспорядки, большую часть территории захватила Парфия. Под ударами сюнну и усуней юэчжи с реки Или переселились в Центральную Азию, заняв среднеазиатское Междуречье, при этом вытеснили живших там скифов на юг, в Бактрию и Парфию. В 140–130 г. до н. э. юэчжи покорили Бактрию, основали крупный город к северу от реки Гуйшуй (Амударья) и сделали его столицей. Ко времени посещения Бактрии Чжан Цянем (128 г. до н. э.) юэчжи «напали и подчинили Дася» на северном побережье Амударьи. Вскоре после возвращения Чжан Цяня на родину правитель Большого Юэчжи перешел через реку и завоевал всю Бактрию и бывшие территории этого царства. После этого юэчжи появились в западных исторических источниках под этнонимом «тохары», а их земли стали называть Тохаристаном. Однако китайские историки по-прежнему называли это царство Большим Юэчжи. В своем докладе Чжан Цянь называл столицу Бактрии словом «Ланьшичэн», которое происходит от греческого слова «Александрия». Раскопки и исследования американских и французских археологов, предпринятые в 1920–1950-х гг., установили: столица Бактрии располагалась неподалеку от Вазирабада, в 23 км к западу от Мазари-Шарифа, на севере современного Афганистана.
Площадь Ланьшичэна была 550 га; город разделялся на верхнюю и нижнюю части. Верхний город располагался на севере и был окружен крепостными стенами и защитным рвом, его площадь – 150 га, нижний город находился на юге, его площадь – около 400 га. Люди жили в этом городе со второй половины I тысячелетия до н. э. до XIII в. н. э.
Юэчжи мирно жили в Бактрии и не желали новых столкновений с сюнну. Чжан Цянь прожил в Бактрии больше года, но не сумел уговорить юэчжей объединиться в союз с Хань и выступить против сюнну. Его миссия была фактически провалена. Чтобы не попасть в плен к сюнну, Чжан Цянь отправился в дорогу по северным отрогам Куньлуня (т. е. по южному участку Великого шелкового пути). Он планировал вернуться в Чанъань по следующему маршруту: Ваханский коридор – Ташкурган, Юйтянь (нынешний уезд Хотан в Синьцзяне) – Гуйми (Керия в современном Синьцзяне) – Цинхай, где жили цяны. Но Чжан Цянь опять попал в плен к сюнну. Плен продолжался год. После смерти старого вождя в племенах хунну начались волнения и смута, и в этой неразберихе Цяню вновь удалось бежать вместе с женой и верным рабом Гань Фу.
Поистине судьба была на стороне отважного путешественника и дипломата – то, что ему удалось остаться в живых после всех приключений, выпавших на его долю, можно считать настоящим чудом. По возвращении на родину Чжан Цянь был повышен в должности, а его верный Гань Фу стал особым государевым посланцем. В докладе императору Чжан Цянь написал о том, что видел, и дал описание тех земель, куда до него не проникал ни один китаец. Он описал расстояние между населенными пунктами, рассказал, чем занимались их жители и как строилось управление. Это был четкий и ясный доклад, который понравился императору.
Вот как описывал Цянь увиденное: «[Государство] Аньси расположено в нескольких тысячах ли к западу от Даюэчжи. Там ведут оседлый образ жизни, возделывают поля, разводят рис, пшеницу, делают виноградное вино. Города и селения такие же, как в Дайюани. Им подвластно несколько сот больших и малых городов. Земли протянулись на несколько тысяч ли. Это очень крупное государство.
На берегах реки Гуйшуй расположены рынки, куда покупатели и торговцы на повозках и лодках прибывают из соседних государств, порой за несколько тысяч ли. Из серебра отливают монеты. На монетах [изображено] лицо [парфянского] государя. Когда государь умирает, сразу же выпускают монеты с изображением [нового] государя. Записи делают на пергаменте в строчку рядами. На западе от [Аньси лежит] Тяочжи, на севере – Яньцай и Лисюань».
Или другой отрывок: «Тяочжи расположено в нескольких тысячах ли на запад от Аньси, прилегает к Сихаю. Там жарко и влажно. [Жители] возделывают поля, сажают рис. [Там] водятся большие птицы, их яйца [размером] с кувшин. Население очень велико, [но] страна раздроблена на небольшие уделы. Аньси подчинило их, считая своими внешними владениями. Страна славится фокусниками. Аньсийские старейшины говорят, что, по слухам, в Тяочжи есть река Жошуй и обитает Сиванму, но [они] ее никогда не видели.
[Государство] Дася расположено в двух с лишним тысячах ли на юго-запад от Дайюани, к югу от реки Гуйшуй. Там ведут оседлый образ жизни, города обнесены стенами. Обычаи такие же, как и в Дайюани. Там нет единого государя, повсюду города и селения с собственными правителями. Войска слабы, сражений опасаются. [Жители] искусны в торговых делах. Когда даю-эчжи переселились на запад, [они] напали и подчинили Дася. Население Дася многочисленно, более миллиона [человек]. Их столица называется Ланьшичэн, там есть рынок, где торгуют любыми товарами. На юго-восток [от Дася] расположено государство Шэньду».
Здесь идет описание земель Парфии (Ань-си), реки Амударьи (Гуйшуй), Антиохии и Нижней Месопотамии (Тяочжи). Дасей именовалась Бактрия. Шэньду – была Индия. Лисюань трактуется как синоним Дацинь (Римская империя). Видимо, упоминание здесь Лисюани надо понимать как возможность попасть в Римскую империю северным путем, через страну аорсов (Яньцай).
В докладе упоминались моря – Каспийское и Аральское, Персидский залив. Географические описания чередовались с характеристикой населения и родом его занятий. Рассказывал посланник императора и о знаменитых ферганских скакунах. Впоследствии эти породистые лошади, предмет гордости Ферганы, станут экспортироваться в разные страны.
Доклад имел большое политическое значение. Император понял, что можно прокладывать новые пути в обход земель воинственно настроенных хунну (сюнну).
На этом превратности судьбы Чжан Цяня не закончились. Он воевал в армии в должности старшего офицера против хуннов/сюнну. В одной из битв китайские войска попали в окружение, и сюнну разгромили их. Но случай и здесь благоволил Чжан Цяню. Очевидно, он родился под счастливой звездой, так как, опоздав к началу боя, именно в этой битве бывший путешественник не участвовал. За это его могли казнить, но император помиловал человека, совершившего для страны столько полезных открытий. Видимо, Цянь не утратил доверия императора, потому что через несколько лет ему была поручена новая почетная миссия – его отправили в землю усуней с большим посольством, включавшим 300 человек, 600 лошадей, 10 000 быков и баранов, огромное количество денег и шелка. Задача была та же самая, что и много лет назад, – создать союз против хуннов.
Кочевой народ усуни первоначально населял территории между Дуньхуаном и Цилянем и издавна враждовал с юэчжами, которые после поражения от сюнну бежали на запад, в бассейн реки Или. Впоследствии усуни объединились с сюнну и совместно разгромили юэчжи, вынудив их переселиться на запад, в бассейн Амударьи. Усуни заняли бассейн реки Или. Незадолго до этих событий ханьская армия нанесла сокрушительное поражение хунну и отбросила их на земли к северу от монгольских степей. Таким образом дороги в Западный край, проложенные к югу и северу от хребта Тянь-Шань, были свободны. Поэтому Чжан Цянь отправился к усуням через северные отроги Тянь-Шаня – т. е. по северному отрезку Великого шелкового пути. Этот маршрут начинался в Чанъане. Маршрут первой миссии Чжан Цяня в Западный край проходил через Дуньхуан и Лоулань, тянулся на север до Турфанской равнины, затем – на запад вдоль северных отрогов Тянь-Шаня, проходил через долину реки Или, через степь Чжаосу и оканчивался в столице царства Усунь – городе Чигучэне. Где находился этот город – пока установить не удалось, но в бассейне реки Или ученые обнаружили царские курганы усуней. Увенчанные большими насыпями, они тянутся от степи Чжаосу в Синьцзяне до берегов озера Иссык-Куль. Царь усуней благосклонно принял Чжан Цяня, но не согласился заключать союз с Хань против хуннов. Однако для укрепления отношений отправил своих послов к императору У-ди. Посольство усуней прибыло в Чанъань вместе с Чжан Цянем.
Второе путешествие Чжан Цяня в Западный край завершилось в царстве усуней, однако он направил несколько помощников в ранге посланников в Дайюань, Канцзюй, Большое Юэчжи, Бактрию, Парфию, Индию, Хотан, Ганьми и другие западные государства.
Во время первой поездки в Западный край Чжан Цянь узнал, что в этих местах нет шелка. Поэтому во второе путешествие для поднесения даров правителям Западного края он взял с собой шелк. В «Истории династии Хань. Сказание о западном крае» записано, что вторая миссия Чжан Цяня везла с собой следующие дары: «Десятки тысяч быков и овец, несметное множество золота и шелка, а еще множество помощников с верительными знаками». Это первое документальное свидетельство о партии китайского шелка, вывезенной на Запад. Таким способом шелковые ткани попали в регионы Центральной и Западной Азии.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе