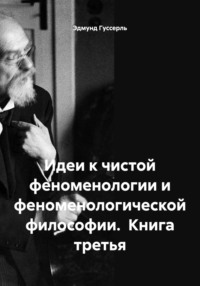Читать книгу: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга третья», страница 2
Что касается вида причинной зависимости, то реальность психического поначалу кажется ведущей себя вполне аналогично реальности организменного. Но очень скоро обнаруживаются сущностные различия. В основе структуры фундированной реальности, которую мы называем одушевлённым существом, лежит материал одушевлённого организма, и ему принадлежит замкнутый причинный nexus, находящий своё место в материальной природе. Однако дело не ограничивается материальной причинностью физического одушевлённого организма, в которой он доказывает себя как материальная субстанция. Скорее, если физический одушевлённый организм при определённом переплетении причинных обстоятельств принимает принадлежащее ему материальное состояние, то в принадлежащем ему как одушевлённому организму соматическом слое ощущений происходит определённое сопутствующее изменение чувствования. Это изменение, в свою очередь, не оказывает обратного воздействия на природный слой. Ощущения кажутся, подобно своего рода тени (как эпифеномены), следующими за определёнными материальными состояниями одушевлённого организма. То же самое было бы и с психическим слоем, если бы и он, подобно соматическому слою чувствований, мог рассматриваться как однозначная функциональная последовательность организменных состояний. Психология, или антропология и зоология, были бы тогда, по сути, соматологическими науками более высокого уровня. Естественно, вся спонтанность, например, психическая спонтанность, проявляющаяся в свободном движении одушевлённого организма, была бы тогда лишь «эпифеноменом», и то, что в свободном движении мы называем «волением», а в отношении психического Эго – эгологическим актом, всё это было бы чистой последовательностью определённых организменных потоков, а само движение – процессом, происходящим чисто в сфере материальной причинности. Однако при ближайшем рассмотрении мы обнаружили в психической реальности, ввиду её зависимости от одушевлённого организма и от материи, нечто сущностно иное по сравнению со всякой иной зависимостью, даже той, что свойственна одушевлённому организму: а именно, принципиальную невозможность неизменного пребывания психики и, в единстве с этим, принципиальную невозможность возвращения в то же самое состояние. Уже в этом проявляется абсурдность психофизического параллелизма. Если бы психика зависела от физического одушевлённого организма так же, как чувственность, то в принципе было бы возможно, чтобы психика старого человека развивалась обратно до психики ребёнка – того же самого ребёнка с тождественными состояниями, который стал старым человеком. Но это принципиально исключено собственным специфическим характером психики, её необходимо развивающимся характером.
Во всём этом следует иметь в виду следующее: односторонняя и однородная зависимость, которую события чувственных полей имеют от материальности одушевлённого организма (его определённой материальной конституции в каждый данный момент), не отменяет того факта, что соматической апперцепцией, или опытом, конституируется новая предметность с новым слоем. Новый слой не устраняется, а предполагается в исследовании физико-соматических причинных отношений. И в этом случае одушевлённая физис и одушевлённый организм стоят в причинных отношениях, две реальности, из которых одна фундирована в другой; и, как с причинными отношениями реальностей вообще, так и здесь, возникновение состояний одной реальности причинно зависимо (следствие) от возникновения соответствующих состояний другой реальности при соответствующих обстоятельствах. Однако отношение к обстоятельствам здесь означает только материальные обстоятельства; то есть односторонность состоит именно в том, что фундированная реальность не привносит с собой собственных обстоятельств, то есть не имеет собственных причинностей наряду с теми, что принадлежат фундирующему. Это было бы так же и с апперцепцией психики, даже если бы психика была в этом смысле высшим придатком одушевлённого организма.
Бесспорно, что зависимости, относящиеся к психическому, переходят в физически-организменное. Насколько далеко они фактически простираются – это вопрос, который должна решить психофизиологическая эмпирическая наука. Насколько далеко они могут простираться, то есть насколько вопросы о «физиологических коррелятах» и соответствующие гипотетические конструкции могут быть осмысленными и направляющими для процесса реального исследования – это вопрос феноменологического исследования сущностей. Оно предписывает границы психофизическим исследованиям, столь же абсолютно фиксированные, как те, которые геометрия предписывает геодезическим исследованиям. Но об этом ещё будет сказано, когда мы рассмотрим идею рациональной психологии.
Наше исследование продвинулось теперь до того пункта, где возникает идея психологии как науки, направленной на психическую реальность и которую необходимо отличать от соматологии, а именно – как от физической соматологии (которая находит своё место в общей науке о материальной природе), так и от эстезиологической, и, с другой стороны, связана с ней, в точности соответствуя фундированию реальностей. Если психика – не самостоятельная реальность, а лишь слой реальности над телом, то она не может обосновать никакой самостоятельной науки. Физическое естествознание – самостоятельная наука и относительно самостоятельна в своих дисциплинах, как и физическая соматология; соматология – самостоятельная наука, но соматологическая эстезиология не самостоятельна, тогда как антропология (или зоология в полном понимании) снова самостоятельна. Но это не мешает тому, чтобы выдающийся исследовательский интерес был направлен на психику и вопросы реальности, к ней относящиеся, а значит, и вопросы причинности. В этом случае, однако, как и во всех науках о реальности, своеобразие предмета заключается именно в том, о какой реальности идёт речь, то есть о психике или о человеке в отношении его психики; а психика – не «пучок» сознательных процессов, а реальное единство, в них проявляющееся. Можно хранить полное молчание о психике, можно презрительно называть её façon de parler: она всё равно остаётся главным в аппрегензии и, с принадлежащими к ней коррелятивными представлениями, определяющим в исследовании. Но лучше говорить правильно и не интерпретировать в ничто то, что, если мы хотим мыслить правильно, должно оставаться живым.
Наши рассмотрения до этого момента кажутся неполными в той мере, в какой они не учитывали специально чистое и психическое Эго; то есть не рассматривали ближе способ, каким оно определяет задачу психологии и контекст причинного исследования. В этом отношении, однако, сразу же следует видеть, что исследование психически аппрегенирующего Эго – это лишь один уровень общего исследования психики. Как Эго проявляет себя как чистое Эго – это относится к психологической сфере, поскольку последняя исследует явление актов в контексте природы. Как Эго, как эмпирическое Эго, развивает себя, преобразует себя, всегда приобретает в этом новые диспозиции – это лишь конкретизация вопроса о том, как психика вообще развивает себя, преобразует себя и т. д. Не всё психическое является чем-то специфически эгологическим. Ассоциации образуются, участвует в этом Эго или нет. Вопрос о том, принадлежат ли и в какой мере собственные идиопсихические регуляции к Эго и его актам – это дело специальных психологических исследований; в любом случае, психическое Эго определяется всем психическим контекстом, даже если оно подчиняется правилам, которые, выходя за пределы его собственной сферы, общепсихически значимы. Здесь нам не нужно дольше задерживаться.
Трудные моменты и их разбор.
1. Двойственность ощущений
«Тело ощущает, и это касается локализованного. Через него мы "ощущаем" вещи; здесь "ощущение" – это восприятие пространственных объектов, и это мы, воспринимая, направляем наш интеллектуальный взгляд на вещь, и это тело – наше тело.»
Объяснение:
– Ощущения имеют двойную функцию:
1. Соматическая – как локализованные в теле (например, тактильные ощущения).
2. Перцептивная – как материал для восприятия внешнего мира (например, ощущение прикосновения к столу).
– Это напоминает различение у Локка между первичными (объективными) и вторичными (субъективными) качествами, но Гуссерль углубляет анализ, показывая, как ощущения встроены в структуру сознания.
2. Связь соматологии и психологии.
«Психика – это реальность, которая имеет свои состояния под рубрикой сознания… она дана как нечто, принадлежащее живому организму.»
Объяснение:
– Психика основана на теле, но не сводится к нему.
– Гуссерль критикует психологический параллелизм (идею, что психические и физические процессы строго соответствуют друг другу, как у Спинозы или Лейбница), поскольку психика обладает собственной динамикой развития, исключающей полную редукцию к физиологии.
Сравнение с другими философами:
– Декарт разделял тело и душу, но не объяснял их взаимодействие.
– Кант рассматривал психику как часть феноменального мира, подчинённую причинности, но Гуссерль идёт дальше, исследуя как именно сознание конституирует свою реальность.
3. Критика натуралистического подхода в психологии.
«Если бы кто-то думал иначе и утверждал, что нужно идти в психологические институты и опрашивать экспертов, чтобы узнать сущность психологии… то он не понимает, о чём вообще философия.»
Объяснение:
– Гуссерль выступает против сциентизма (веры в то, что только естественные науки дают истинное знание).
– Он утверждает, что сущность психологии нельзя вывести из эмпирических исследований – её нужно понять через феноменологический анализ сознания.
– Это перекликается с Гуссерлевой критикой психологизма в «Логических исследованиях», где он отвергает попытки свести логику к психологии.
4. Психофизическая проблема и эпифеноменализм.
«Если бы психика была зависима от организма так же, как чувственность, то в принципе было бы возможно возвращение психики старика к психике ребёнка. Но это исключено самой сущностью психики.»
Объяснение:
– Гуссерль отвергает эпифеноменализм (точку зрения, что сознание – побочный продукт физиологических процессов, как у Т. Гексли).
– Психика обладает историчностью (как у Гегеля или Дильтея), она не может «откатиться» назад, поскольку её состояния необратимы.
Выводы и значение текста.
1. Соматология (наука о теле) и психология (наука о психике) должны различаться, но их связь необходимо понимать через феноменологический анализ.
2. Ощущения играют двойную роль: они принадлежат и телу, и сознанию, но не сводятся друг к другу.
3. Психология не может быть чисто естественной наукой, поскольку её предмет – сознание – требует особого, феноменологического метода.
4. Критика психофизического параллелизма: психика не может быть полностью объяснена через физиологию, так как обладает собственной темпоральностью и развитием.
Важно: Этот параграф важен для понимания феноменологического подхода Гуссерля и его влияния на последующую философию (например, Мерло-Понти, который развил идеи телесности).
§4. «Сообщества» с точки зрения естествознания.
Исходя прежде всего из материального мира, в котором находится живой организм, и далее следуя последовательности уровней обоснованного опыта, мы определили исходные области для ряда соответствующих уровней опыта. Феноменологическое прояснение апперцепций и основных видов объективностей, конституирующихся в них, дает радикальное понимание специфического смысла соответствующих наук. Мы могли бы продолжить расширять последовательность уровней, но без особой пользы для себя.
Если психические объекты связаны друг с другом, объединены в ассоциации, сообщества различных уровней, это не создает новых объективностей в отношении их фундамента в изначальной природе. Ибо здесь не возникает новая психика как психика высшего уровня, надстроенная над совокупностью живых организмов и их психик, не возникает единая связь сознания, на основе которой могла бы конституироваться новая реальность – реальность коллективной психики.
С точки зрения естествознания, здесь имеется множество отдельных людей, каждый со своим сознанием, своей психикой и своим «Я». В психофизической взаимосвязи, которая становится возможной благодаря материальным взаимодействиям живых организмов, в индивидуальных психиках возникают акты, интенционально направленные на нечто психически внешнее. Однако здесь проявляются лишь новые состояния отдельных психик.
Это не отличается от того, когда множество материальных вещей образует относительно замкнутую систему взаимодействий и тем самым создает материальные системы, которые, возможно, следует рассматривать как материальные единства. Принципиально новой науки при этом не возникает.
Другой вопрос – могли бы мы (и имели ли бы право) сказать нечто подобное, если бы элементами этих единств были не психики, а духовные личности. Но для нас сейчас *не существует* духов (умов, *Geister*). Мы находимся в рамках естествознания, определенного универсумом тех реальностей, которые либо сами являются материальной природой, либо основаны в материальной природе.
Объяснение сложных моментов и философские параллели.
1. «Апперцепции и конституирующиеся объективности»
– Гуссерль использует термин «апперцепция» (восприятие, включающее осмысление) в кантианском ключе: это не просто восприятие, но и его интерпретация сознанием.
– «Конституирование объективностей» – процесс, в котором сознание формирует устойчивые смысловые структуры (например, представление о «сообществе»).
– Сравните с Кантом: у него апперцепция – это единство самосознания, делающее возможным синтез опыта. Гуссерль идет дальше, исследуя, как конституируются сами объекты опыта.
2. «Нет коллективной психики» .
– Гуссерль отвергает идею «сверхиндивидуальной души» (как у Гегеля, где есть «Мировой Дух»). Для него сообщество – лишь взаимодействие отдельных сознаний, но не новая онтологическая реальность.
– Контраст с Дюркгеймом, который вводит понятие «коллективного сознания» как самостоятельной силы.
3. «Материальные системы vs. духовные единства».
– Гуссерль проводит аналогию между физическими системами (например, атомы в молекуле) и сообществами людей: и те, и другие – лишь совокупности, а не новые сущности.
– Но он оставляет вопрос открытым: а если рассматривать людей как духовные существа? Здесь возможен переход к персонализму (Мунье, Шелер), где личность – не просто «психика», а духовное «Я».
4. «Мы находимся в рамках естествознания».
– Гуссерль подчеркивает, что пока мы ограничиваемся натуралистической установкой (мир как природа). Позже в «Кризисе европейских наук» он покажет, что эта установка недостаточна и нужен возврат к жизненному миру (*Lebenswelt*).
Ключевые философские отсылки.
– Кант – апперцепция и синтез опыта.
– Гегель – критика идеи «Мирового Духа» как сверхиндивидуального субъекта.
– Дюркгейм – противоположный взгляд на коллективное сознание.
– Шелер – персонализм и духовная личность.
Важно: Этот параграф показывает, как Гуссерль редуцирует социальные феномены к индивидуальным сознаниям, отрицая самостоятельное бытие «сообщества». Позже, в работах о интерсубъективности, он усложнит эту позицию.
Глава вторая. Отношения между психологией и феноменологией.
§5. Отношение феноменологии к наукам.
Теперь мы хотим обратить особое внимание на отношения между психологией и феноменологией. Все анализы этого раздела сами по себе были феноменологическими и не могли быть истолкованы как эмпирически-научные, даже если они исходили из реального опыта. Единичный факт опыта, например, какого-то «восприятия», «апперцепции» и т. п., рассматривался исключительно как пример; мы сразу же переходили к эйдетической установке и исследовали то, что принадлежит к сущности, к возможностям, заключённым в сущности определённых апперцепций: возможность перехода в ряды интуиций, ряды переживаний, благодаря чему они однозначно исполняются, и возможность экспликации их смысла, то есть смысла интендированного, переживаемого как такового, а вместе с ним и смысла соответствующих объективностей.
Феноменологические анализы, представленные в виде фрагментов интуитивного эйдетического анализа, с одной стороны, демонстрировали метод и тип искомых результатов; с другой стороны, они служили для извлечения из первоисточников сущности реальностных категорий – материи, живого организма, психики и психического Я, категорий, которые основываются друг на друге, и тем самым для постижения изначального смысла соответствующих наук, который этим определяется.
В то же время благодаря этим анализам – которые, если необходимо, могут быть ещё более развиты в том же направлении – выполняются (или могут быть дополнительно выполнены) все предпосылки для определения фундаментальных характеристик метода этих наук и для интуитивного понимания того, насколько, например, метод физического естествознания и психологический метод могут быть параллельны и в какой степени они должны быть принципиально различными.
Нормы, которые здесь изначально возникают, нельзя игнорировать, не внося путаницу в ход науки и не уводя её в ложные постановки проблем и ошибочные способы опыта. Не то, что называет себя «современной наукой», и не те, кто именует себя «экспертами», определяют метод; скорее, сущность объектов и соответствующая сущность возможного опыта объектов данной категории (то есть априори феноменологической конституции) предписывают всё фундаментальное в методе. И характерно для гениального эксперта, что он схватывает эту сущность интуитивно (даже если и не доводит её философским образом до уровня строгих понятий и сформулированных норм) и ориентирует частные проблемы и частные методы в соответствии с ней.
Все открытия и изобретения экспертов движутся в рамках абсолютно непреодолимого априори, которое можно извлечь не из их учений, а только из феноменологической интуиции. Однако научное постижение этого – особая задача философии, а не самих догматических наук.
Конечно, то, что нормативно определяет метод в целом, является темой общей ноэтики, которая выходит за пределы всех категорий объективностей и конститутивных интуиций. Но мы ещё не обладаем ею. Она станет возможной только после того, как общая феноменологическая эйдетическая теория познания будет достаточно разработана в отношении интуиции и специфического мышления. Но даже без завершённой ноэтики ясно следующее: метод каждой науки должен определяться родом изначально дающей интуиции или основным родом изначального схватывания, существенно принадлежащим к категории объекта, с которой она связана (возможно, наряду с другими науками).
Общеизвестно, что всё познание природы имеет свой конечный источник в опыте, или, конкретнее: что всё научное обоснование в конечном счёте покоится на актах опыта (на акте, который изначально даёт природную объективность). И если мы принимаем это как верное (а мы должны это сделать), то очевидно, что методологические нормы, которые опыт извлекает из себя и которые очевидно обоснованы в своей сущности, должны быть определяющими для естественнонаучного метода.
То же самое, естественно, должно относиться ко всем наукам вообще: во всех них обоснование необходимо приводит в конечном счёте за сферу мышления к интуиции и, наконец, к изначально дающей интуиции, которая может не быть опытом только в том случае, если её объективности отличны от опытных объективностей (реальностей сферы природы).
Мы, конечно, уже установили, что различным категориям объектов должны соответствовать существенно различные конститутивные апперцепции, а значит, и основные формы изначально дающих актов.
Объяснение сложных моментов и ссылки на других философов:
1. Эйдетическая установка (eidetic attitude) – переход от фактуального к сущностному рассмотрению, характерный для феноменологии Гуссерля. Это восходит к платоновскому различию между миром явлений и миром идей (эйдосов).
2. Конститутивные апперцепции – процессы, благодаря которым сознание конституирует (создаёт смысл) объектов. Связано с кантовским понятием «апперцепции», но у Гуссерля это активный синтез смысла в потоке переживаний.
3. Ноэтика (noetics) – у Гуссерля это учение о познании, восходящее к Аристотелю (νοῦς – ум, разум). Здесь подчёркивается, что метод науки зависит не от произвола учёных, а от априорных структур сознания.
4. Параллель с Кантом: Гуссерль, как и Кант, утверждает, что метод науки определяется не эмпирией, а априорными условиями познания. Однако если у Канта это трансцендентальные формы рассудка, то у Гуссерля – феноменологические структуры интенциональности.
5. Критика «современной науки» напоминает критику позитивизма у Гуссерля в «Кризисе европейских наук»: наука забывает свои изначальные основания в жизненном мире.
6. Изначально дающая интуиция (originarily bestowing intuition) – ключевое понятие: объект дан сознанию не опосредованно (через знаки или умозаключения), а непосредственно, в своей явленности. Это связано с гуссерлевским лозунгом «Назад к самим вещам!».
Важно: Гуссерль здесь утверждает примат феноменологии над эмпирическими науками: только через анализ сознания можно понять их истинные методы и избежать методологических ошибок.
§6. Онтологическое основание эмпирических наук .
Метод во всех науках определяется также всеобщей сущностью объективности, которая интуитивно раскрывается в полном представлении этой объективности, то есть в полном развертывании интенций, заключенных в её схватывании, и, естественно, в эйдетической установке, направленной не на само схватывание, а на конституируемую объективную данность. Всеобщая сущность может быть развернута в мышлении, и её развертывание необходимо ведёт к онтологии. Полноценный метод предполагает систематическую разработку онтологии, то есть эйдетического учения, относящегося к данной категории объектов. Совокупность познаний, которые она предлагает, является безусловной нормой для всего, что может дать эмпирическое познание фактических наук, связанных с этими категориями, и одновременно включается в фактическое познание.
Каждый шаг вперёд в области онтологии – и особенно в формулировании основных онтологических познаний или онтологических дисциплин, раскрывающих ещё не онтологически схваченные стороны соответствующей категории объектов – должен быть на пользу эмпирической науке. Мы уже говорили об этом, и здесь лишь напоминаем, чтобы обосновать законность, даже безусловную необходимость рациональной психологии.
Именно в исследованиях по феноменологии познания (в «Логических исследованиях») мы впервые осознали, что должна существовать такая дисциплина – причём огромного масштаба, – построенная не «сверху», из пустых «понятий» (смутных словесных значений), как старая метафизическая психология, а как эйдетическое учение, извлечённое из чистой интуиции. Это, кажется, полностью ускользнуло от всех прежних исследователей познания и сознания вообще, несмотря на многовековые разговоры об априори мышления и воли под названиями логики и этики. Ведь то, что они давали и хотели дать под этими названиями, было чем угодно, но не психологической эйдетикой в том смысле, о котором здесь идёт речь.
В упомянутой работе феноменология была представлена как чисто имманентное описание данного во внутренней интуиции (иногда вольно называемого там «внутренним опытом»), описание, которое, однако, устанавливает не эмпирические факты, а в установке «идеации» – только сущностные взаимосвязи. Именно на этом основывалось окончательное опровержение (предпринятое в «Шестом исследовании») психологизма в теории познания.
После этого в «Логических исследованиях» феноменологическая эйдетика и рациональная психология совпали. То, что рациональную психологию следует понимать как онтологию реального, конституирующегося в связи переживаний, и что она поэтому не может совпадать с сущностью самой этой связи, – в различных отношениях ошибочно. Это станет ясно после того, как мы проясним идею реальности вообще, а также психической реальности, и откажемся от старого недоверия (которое ещё владело даже автором «Логических исследований») к психической и эгологической реальности.
Удивительное соотношение между феноменологией и психологической онтологией, позволяющее первой находить своё место во второй, а второй – подобно всем онтологическим дисциплинам – в определённом смысле находить место в первой, займёт нас в дальнейшем, и мы увидим параллельные соотношения для онтологии духа.
Разбор сложных моментов и философские отсылки.
1. «Интуитивное раскрытие объективности».
– У Гуссерля «интуиция» (Anschauung) – не мистическое озарение, а непосредственное усмотрение сущностей. Это ключевая идея феноменологии: познание должно опираться на «усмотрение сущностей» (Wesensschau), а не на абстрактные конструкции.
– Сравнение: у Канта интуиция (чувственное созерцание) ограничена явлениями, а у Гуссерля она расширена до схватывания эйдосов.
2. «Эйдетическая установка».
– Это позиция, в которой мы рассматриваем не факты, а чистые возможности (сущности). Например, мы думаем не о конкретной радости (эмпирический факт), а о «радости вообще» как сущности.
– Связь с Платоном: эйдосы как идеальные формы, но у Гуссерля они даны не в трансцендентном мире, а в феноменологическом опыте.
3. «Онтология» у Гуссерля.
– Это не традиционная метафизика (как у Аристотеля или Хайдеггера), а наука о сущностных структурах объектов. Например, «онтология психического» изучает не мозг, а саму структуру сознания.
– Критика «старой метафизической психологии»: Гуссерль отвергает спекулятивные конструкции (как у Декарта или Лейбница), требуя возврата к «самим вещам».
4. «Рациональная психология».
– В классической философии (например, у Канта) это попытка познать душу через чистый разум, без опыта. Гуссерль переосмысляет её как феноменологическую эйдетику сознания.
– Кант критиковал рациональную психологию за иллюзорность (в «Критике чистого разума»), но Гуссерль считает, что она возможна как наука о сущностях сознания.
5. «Психологизм».
– Это позиция (например, у Дж. С. Милля), сводящая логические законы к психологическим. Гуссерль в «Логических исследованиях» жёстко критикует это, утверждая независимость логики от эмпирической психологии.
– Связь с Фреге: оба боролись с психологизмом, но Гуссерль идёт дальше, разрабатывая феноменологию как основу.
6. «Реальность психического».
– Гуссерль здесь намекает на своё позднее учение о «трансцендентальном Эго» (в «Картезианских размышлениях»). Он преодолевает ранний скепсис («недоверие» в «Логических исследованиях») к реальности Я.
– Сравнение: у Декарта «Я» – субстанция, у Гуссерля – поток переживаний, но с собственной онтологией.
7. «Феноменология и онтология».
– Феноменология описывает, как сознание конституирует объекты, а онтология изучает их сущностные структуры. Они взаимосвязаны: феноменология – метод, онтология – результат.
– Параллель у Хайдеггера: «фундаментальная онтология» в «Бытии и времени» тоже вырастает из феноменологии, но с акцентом на бытии, а не сознании.
Важно: Гуссерль здесь обосновывает:
1. Науки нуждаются в онтологии как учении о сущностях их объектов.
2. Психология должна быть не эмпирической, а «рациональной» (эйдетической), основанной на феноменологии.
3. Феноменология и онтология взаимопроникают: одна описывает конституирование, другая – сущностные структуры.
Это ключевой шаг к его поздней трансцендентальной феноменологии, где сознание становится основой всей онтологии.
§7. Региональные понятия и «родовые» понятия.
Прежде всего, философу и феноменологу крайне важно совершенно ясно и интуитивно осознать, что отличает объективные региональные понятия, которые я выделяю: а именно, метод, согласно которому они могут быть выведены априори. Этот вывод не подразумевается в смысле «трансцендентальной дедукции» из какого-либо постулата или системы мышления, которая сама не дана в интуиции (как система форм суждения в кантовской дедукции так называемых категорий), а следует аподиктически очевидному «трансцендентальному ключу», следуя которому мы не выводим понятия, а находим их сами, шаг за шагом усматривая и схватывая их. Необходимо уяснить себе, что придает этим понятиям их уникальное значение и предопределяет их в качестве региональных понятий онтологий таким образом, что априори должно существовать столько онтологий, сколько есть региональных понятий – независимо от того, богаты они содержанием или бедны, разветвляются ли в крупные науки или исчерпываются небольшими группами положений. Далее, необходимо понять, что всякая радикальная классификация наук, прежде всего опытных, должна зависеть от этого образования понятий – «региона», в частности, что должно существовать столько принципиально различных эмпирических наук (или групп дисциплин), сколько онтологий. Не исчерпывая тему, мы лишь хотим сказать то, что необходимо, чтобы исключить вводящие в заблуждение эмпиристские возражения.
Эмпирист спросит: почему понятие «материальная вещь» (которое мы представляем как региональное) должно быть чем-то принципиально иным по сущности или играть иную роль, чем понятие «небесное тело»? Естественно, это очень общее понятие, можно даже сказать, в некотором смысле наиболее общее, охватывающее целые группы дисциплин. Но понятия возникают из опыта через обобщение; нам должно оставаться открытым находить в обобщении опытные основания для дальнейшего продвижения, и тогда более общее понятие будет играть ту же роль, что и понятие физической вещи. Тем более понятие «животное» (еще один пример регионального понятия): оно возникает не иначе, чем понятие «лягушка» или «рептилия», просто оно более общее. Действительно, дальнейшее обобщение ведет от него к «живому существу» – и, возможно, можно сделать еще шаг вперед. Все понятия, как общие, так и частные, происходят из опыта, и их полезность должна подтверждаться в процессе дальнейшего опыта. Мы всегда должны быть готовы изменить их в соответствии с ним.
С другой стороны, необходимо уяснить себе следующее: каким бы ни было это много обсуждаемое, даже двусмысленное, «происхождение из опыта» – и каким бы образом, будь то во сне или по чуду, мы ни приобрели способность использовать общие слова в тождественном значении – словесные значения могут быть действительными как логические сущности только в том случае, если согласно идеальной возможности «логическое мышление», актуализирующее их в себе, способно адаптироваться к «соответствующей интуиции», если существует соответствующее ноэматическое содержание – соответствующая сущность, схватываемая интуитивно и находящая свое истинное «выражение» через логическое понятие. Логическая сущность, конституирующаяся в чистом мышлении, и интуитивное ноэматическое содержание находятся в определенном эйдетическом отношении «подходящего выражения». Если это так, понятие действительно в смысле «возможности» соответствующего объекта. При этом эйдетическая интуиция может быть осуществлена на основе единичного акта воображения. Этой интуиции достаточно, чтобы схватить общую сущность, при условии, что она настолько всеобъемлюща, что действительно приводит к данности соответствующее интуитивное ноэматическое содержание, то есть не оставляет никакого компонента мыслительного представления, который не подходил бы в качестве чистого выражения компонента интуитивно данного ноэматического содержания.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе