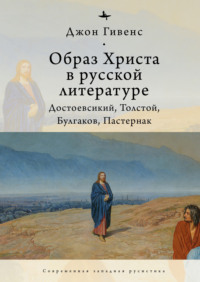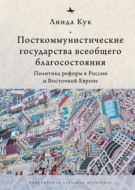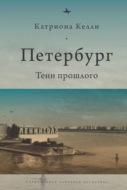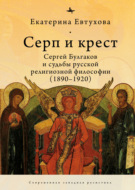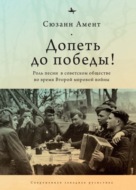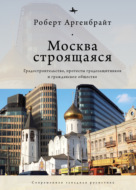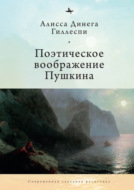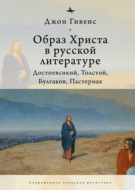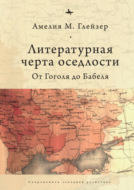Читать книгу: «Образ Христа в русской литературе. Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак», страница 4
Эти концепции, вытекающие из православного учения об иконах, теозисе и Троице и далее разработанные Соловьевым, развиваются в полномасштабную теорию персонализма русскими религиозными философами XX века Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым. В книге «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (1947) Бердяев вслед за Соловьевым утверждает, что в воплощении раскрывается не только «человеческое в Боге», но и «божественное в человеке» [Бердяев 1952: 27], таким образом возвышая понятия «человечества» и «человечности». «Человечность не есть то, что называют гуманизмом или гуманитаризмом, она есть богочеловечность человека», утверждает Бердяев (Там же: 139). Это не «самодостаточность» или «самообоготворение» (Там же: 143), но «признание высшей ценности всякой человеческой личности» (Там же: 144). А высшей ценностью она является только потому, что личностное начало неразрывно связано с образом и подобием Бога, который подтверждает эту связь между божественным и человеческим с помощью воплощения Христа и встраивает личностное начало в тайну Троицы. Таким образом, согласно Бердяеву, «человечность есть раскрытие полноты человеческой природы», потому что «человечность божественна, не человек божествен, а человечность божественна» (Там же: 155).
Такое понимание личности в конечном счете вытекает из троичной природы Бога, которую, как утверждал С. Н. Булгаков, следует понимать как персоналистическое явление. Триединый Бог, каждое из лиц которого – Отец, Сын и Святой Дух – «пребывает в двух других силою вечного движения любви» [Уэр 2012: 219], формирует релятивный аспект личностного начала и несводимость личности к понятию индивидуума. Индивидуум – это всего лишь отдельная единица общества, объект, не являющийся в религиозном или философском смысле субъектом. Таким образом личность – это богословское понятие, поскольку оно неразрывно связано с образом и подобием Божьим. Полное осознание нашего личностного начала – не то же самое, что полное осознание нашей индивидуальности, поскольку личность включает радикальный поворот к Богу и окончательное преодоление разделения и разъединения. Людям свойственна соотносительность, пишет Булгаков, как внутри себя, так и между собой: «Откровение через Другого, знание Себя как Другого… такое отношение, в котором Каждый существует только для Другого и в Другом, Себя с Ним отожествляет, такая жизнь в Другом и есть Любовь…субстанциальное отношение Триединого Субъекта есть любовь, как взаимность и взаимоотречение, как жертвенная любовь» [Булгаков 1928: 65].
Персонализм, вытекающий из православного учения о теозисе, оказал влияние на формирование не только русской религиозной мысли, но европейского гуманизма. Греческие святоотеческие представления о теозисе проникли в Европу, где повлияли на ренессансные концепции человеческой личности, а в середи-не XIX века вернулись в Россию в общедоступных переводах, выполненных четырьмя духовными академиями империи [Hamburg, Poole 2010: 8–9]. Таким образом, эти идеи проложили путь от религиозных источников к светским, оставив на этом пути свой след и оказав влияние на ведущих писателей и мыслителей XIX века, как славянофилов, так и западников, каждый из которых подчеркивал центральную роль человеческой личности (Там же: 10–11). Д. С. Мирский отмечает в русской литературе XIX века выраженную «гуманность» мышления, породившую «сочувственное отношение к человеку, независимо не только от его классовой принадлежности, но и от его моральной значимости» [Мирский 2005:299]. Это отношение стало «основной чертой русского реализма», особенно в произведениях Достоевского, где «муки неловкости – это муки конечной и абсолютной ценности человеческой личности, раненной, непризнанной и униженной другими человеческими личностями» (Там же: 471). Персонализм Достоевского, в свою очередь, повлиял на более поздних религиозных мыслителей, а также на М. А. Булгакова и Б. Л. Пастернака.
Опасность здесь, конечно, в том, что четко сформулированная идея персонализма, сопровождающая православную концепцию теозиса, может привести к неожиданным выводам. Если, например, идея святости личности сводится к обычному гуманизму, то достаточно легко вообще исключить какую-либо потребность во Христе, то есть превознести человека над Богом. Именно это и произошло в России в середине XIX века, когда такие интеллектуалы, как А. Н. Герцен и В. Г. Белинский, проповедовали радикальную философию личности, не основанную, однако, на представлении, что человеческая личность создана по образу и подобию Божию. Напротив, это была сугубо материалистическая философия, для которой и источником, и вершиной достоинства и ценности был человек.
«Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира», – объявил в 1841 году Белинский [Белинский ПСС, 12: 22]. Однако, чтобы защитить индивидуальную личность и возвысить ее с помощью разума и науки, первой и самой необходимой задачей было противодействие христианству, которое, как пишет Герцен в книге «С того берега» (1850), признавало «бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным» [Герцен СС, 6:125]. Поэтому «учение Христово» любой материалист, говоря словами Достоевского, «необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами» [Достоевский ПСС, 21: 10]. Богочеловек должен был быть низложен, чтобы освободить место для новых ролевых моделей.
Иисус истории и новый прототип
В отречении от Христа русский светский гуманизм следует Штраусу и методу исторической критики. В своем труде «Жизнь Иисуса» Штраус отрицает божественность Иисуса как нечто неправдоподобное, да и ненужное для подтверждения божественности человечества. Он пишет: «В человеке, Богочеловеке, свойства и функции, которые Церковь приписывает Христу, противоречат друг другу; в идее рода они полностью согласованны. Человечество есть соединение двух природ – Бог становится человеком, бесконечное проявляется в конечном». Индивидуум не может быть совершенным или божественным, но человечество может, ведь «скверна пристает только к индивидууму и не касается рода или его истории». Взгляды Штрауса последовательно антропоцентричны: это именно человечество «умирает, воскресает и возносится на небеса» в сменяющих друг друга поколениях, постоянно двигаясь вперед, «к высшей, духовной жизни», «единению с бесконечным духом и небесами». Таким образом, заключает Штраус, «тепля в себе идею Человечества», «индивидуум участвует в божественно человеческой жизни всего вида» [Strauss 1993: 780].
Книга Штрауса, распространившаяся в России вскоре после ее выхода, оказалась невероятно популярной. Ее быстро перевели на основные европейские языки; глубокое влияние она оказала на Белинского, в кругу которого, по словам Достоевского, «о Штраусе говорилось с благоговением» [Достоевский ПСС, 21: 11]. «Жизнь Иисуса» – не первое произведение, написанное с позиций исторической школы библейской критики, но, наряду с вышедшей тридцать лет спустя «Жизнью Иисуса» Э. Ренана, самое главное в России – появилось в переломный для русской культуры момент. Заимствованные с Запада идеологии, до тех пор преобладавшие в России, такие как немецкий романтизм или французский утопический социализм, начали терять влиятельность. Штраус и другие мыслители левогегельянского толка (например, Л. Фейербах в книге «Сущность христианства», 1841) подчеркивали «антропологическую сущность религии», провозглашая, что спасение человека – дело рук самого человека, и помочь ему в этом может опора на опыт и разум. Люди должны были ориентироваться, как отмечает П. Л. Майкельсон, «не на сверхъестественный или трансцендентальный авторитет», а, напротив, «на антропологический идеал “разумного человека” и “очищенной личности”. Человечество могло достичь подлинной свободы, лишь осознав всемирно-исторический факт, что человек сам себе высшее существо» [Michelson 2010: 252].
Историко-критическая школа сыграла особенно важную роль в этом процессе свержения Христа, поскольку оспаривала бесспорность самих евангельских текстов [Bailey 2008: 17]. Наряду с тем, что Ч. Тейлор называет современным «космическим воображаемым» [Тейлор 2017: 410] – возникшим в XIX веке благодаря достижениям науки пониманием, что Вселенная слишком обширна, чтобы христианский нарратив мог охватить или объяснить ее, – историко-критическая школа поставила под сомнение объяснительный авторитет самого христианства. В России ни один труд историко-критической школы не справился с этой задачей лучше, чем биография Иисуса, проанализированная Э. Ренаном. Ренановская «Жизнь Иисуса», опубликованная в 1863 году, была почти сразу переведена более чем на десяток языков, в том числе на русский, и в первые же два года выдержала тринадцать переизданий [Ziolkowski 1972: 37]. Важнее всего то, что «Жизнь Иисуса» появилась в десятилетия, когда материалистические взгляды проложили себе широкий путь в сознание среднего класса [Bailey 2008: 16]. Поскольку в книге Ренана открытия историко-критического метода были изложены и доступно, и увлекательно, она стала особенно авторитетной. Ренан подвел итоги напряженным интеллектуальным дебатам ревизионистской академической христологии, изложив ясную, лирическую и простую историю обаятельного галилейского проповедника, который ввел новый способ культа и изображения Бога в Иудее I века. Таким образом, по словам А. Швейцера, он суммировал «в одной книге результаты, полученные целым процессом немецкого критицизма» [Schweitzer 1981: 181], радикально изменив представления о Христе везде, где бы эту книгу ни читали.
Ренан выводит биографию Иисуса из четырех Евангелий, каждое из которых признает «подлинным», хотя все они «отчасти легендарны» [Ренан 1906: 9]21. В соответствии с историкокритическим методом Ренан отвергает чудесное происхождение и деяния Иисуса, временами предлагая собственные рациональные толкования невероятных событий. Так, Ренан предполагает, что воскрешение Иисусом Лазаря могло быть просто трюком, придуманным больным и двумя его сестрами, чтобы обратить неверующих: «Может, горячее желание заставить замолчать всех дерзавших отрицать божественное посланничество их друга побудило этих людей перейти все границы» (240). Что касается многочисленных исцелений, безусловно, составляющих большинство чудес Иисуса, Ренан предлагает историческое объяснение:
У Иисуса, как у большей части его соотечественников, не было представления о рациональной врачебной науке; подобно всем, он верил, что главное средство исцеления – в религиозных действиях, и эта вера была очень последовательна. <…> Исцеление считалось нравственным актом; Иисус, сознававший свою нравственную силу, должен был считать себя особо одержанным силой исцеления. Убежденный, что прикосновение к его одежде, возложение рук, помазание слюной приносит пользу больным, он был бы жесток, если бы отказал страждущим в облегчении, предоставить которое было в его власти (185–186).
Малообразованный провинциал, Иисус «ничего не знал вне иудейства» (58). Чтение книг Ветхого Завета «произвело на него большое впечатление» (59), пищей его фантазии были видения мессианской судьбы еврейского народа, что способствовало формированию апокалиптического мировоззрения (60). С ранних лет Иисус был проникнут «глубоким пониманием тесных сношений между человеком и Богом» (62). Поэтому суть его теологии – «Бог, непосредственно понятый как отец» (82). Бог – уже «не пристрастный деспот, избравший Израиля Своим народом» – напротив, это «Бог человечества» (83), общаться с которым позволяет «чистый культ, религия без священства и внешних обрядов, покоящаяся на сердечном чувстве, на последовании Богу, на непосредственном общении совести с Отцом Небесным» (86–87). Такие верования привели Иисуса к конфликту с иудейской религиозной иерархией в Иерусалиме, а потом и к гибели – распятию на кресте. Его тело было похоронено, а затем исчезло, что привело к появлению слухов о его воскресении, в чем, по мнению Ренана, «играла видную роль сильная фантазия Марии Магдалины» (280). Возможно, рассуждает Ренан, «энтузиазм, всегда легковерный» его опечаленных последователей и положил начало историям «воскресшего Бога» (280).
В результате Иисусу, которого Ренан предлагает поставить «на высшую вершину человеческого величия» (289), принадлежит «основание истинной религии», которую нам остается «только развивать и оплодотворять» (287). Его до сих пор не понимают до конца, и его толкователи, желая возвеличить его с помощью христологии божественного сыновства, на самом деле лишь умаляют его (290), поскольку «никогда он не выражал кощунственной мысли, будто он Бог» (81). В этом смысле он остается в некотором роде незнакомцем, встречаться с которым нужно за пределами традиционного христианского исповедания, – здесь все четыре субъекта исследования моей книги солидарны в своих подходах к изображению Христа. В одном, однако, Ренан согласен с православным христианским учением: «что среди сынов человеческих никогда не рождалось более великого, нежели Иисус» (296). Этими словами он завершает свою небольшую книгу.
В России книга Ренана была принята бурно. Русский перевод «Жизни Иисуса», изданный в Дрездене в 1864 году, был запрещен министром внутренних дел П. А. Валуевым за богохульное и еретическое содержание. Этот запрет, как и следовало ожидать, только усилил тягу к книге. «Не запрещали бы Страуса и Ренана, и кто бы знал про них у нас, например?» [Достоевский ПСС, 24: 95], – сокрушался Достоевский. Книга широко распространялась в печатной версии и в списках, читалась и в интеллигентских, и в народных кругах. Для интеллигенции это было практически обязательным чтением, и вскоре «Жизнь Иисуса», наряду с трудами западных материалистов и русских радикалов, заняла свое место в минимальной «учебной программе» для начинающих прогрессистов, особенно после 1905 года, когда цензура была ослаблена и книга могла быть опубликована в России легально.
С идеальной своевременностью «Жизнь Иисуса» Ренана вышла в том же году, что и другой влиятельнейший текст русского светского гуманизма XIX века – роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». В совокупности эти два произведения нанесли двойной удар в пользу русского секуляризма: Ренан заменил богочеловека Христа смертным Иисусом, а Чернышевский предложил новый образец человечества – идеальных «новых людей» (определение Чернышевского), которые совершенствуются не для того, чтобы уподобиться Христу, а чтобы создать новое общество, основанное на разуме и научном знании. Вокруг Чернышевского объединилось целое поколение образованных простолюдинов-разночинцев, бескомпромиссных, жаждущих действия и готовых жертвовать собой во имя дела. Вслед за Чернышевским они утверждали, что к нравственным вопросам возможен научный подход.
Чтобы шире распространить свои идеи, Чернышевский, сидя в Петропавловской крепости и ожидая суда за подстрекательство к беспорядкам, написал роман «Что делать?» (1863). Тенденциозный политический трактат, кое-как замаскированный под роман, «Что делать?» сыграл исключительную роль как произведение, вдохновившее революционное движение в России, давшее голос и указавшее направление тысячам адептов нового дела – революционного действия и материалистической философии. Роман также ознаменовал собой решающий момент в движении от сакральной иконографии к светской, провозглашающий новый, небожественный образец для подражания. Самым главным персонажем «Что делать?», которому, правда, уделено мало текстового пространства, выступает, безусловно, загадочный революционер Рахметов, первый из «новых людей», поднявшийся на более высокий уровень политической целеустремленности, идеологической верности, личного самопожертвования и плотского смирения. Глава, где впервые появляется Рахметов, называется «Особенный человек», и обе посвященные этому «особенному человеку» главы романа представляют собой нечто вроде жития святого и одновременно словесной иконы, к подобию которой должны были, по замыслу, стремиться читатели романа в собственной жизни.
Биография Рахметова излагается в благоговейном тоне, раскрывая факты, которых «никто не знал, пока он жил между нами» [Чернышевский 1975: 203]. Как и Христос, он имеет почтенную родословную – происходит из семьи, «одной из древнейших не только у нас, айв целой Европе» (202). В юности Рахметов посвятил себя учебе и физической подготовке, трудясь чернорабочим, чтобы укреплять физическую силу. С этой же целью он «кормит себя» бифштексом, «почти сырым», и странствует по России, работая бурлаком, пахарем, плотником и «чернорабочим по работам, требующим силы» (204). Во время этих странствий он встречает одного из «новых людей» и переживает квазирелигиозное обращение в революционную веру. Он читает политическую литературу восемьдесят два часа подряд, проклинает женщин и вино, отказывается есть то, что недоступно простому народу, и начинает жить спартанской жизнью, спит на войлочной подстилке и посвящает все свои часы бодрствования делу. Так, в семнадцать лет он превосходит своих учителей, которые начинают называть его «особенным человеком». Он оказывает материальную поддержку бедным студентам, занимается подпольной политической агитацией в Петербурге, а потом уезжает в Европу, где продолжает свою революционную деятельность. Повествователь намекает на таинственные пробелы в его биографии и рассказывает о нем удивительные истории, например о том, как Рахметов, испытывая собственную физическую выдержку, проспал ночь на кровати, утыканной гвоздями. Он представляет собой невероятную смесь уверенности в себе, нравственной чистоты, высоких ожиданий и стальной решимости, и единственная его слабость – любовь к сигарам.
При всей неправдоподобности этого портрета и ходульности повествования, в которое он вписан, роман был восторженно принят русской публикой. Сама его публикация, ставшая возможной из-за ряда ошибок цензоров, была своего рода чудом. Вскоре он превратился в светский Новый Завет, позитивистское «новое Евангелие» [Паперно 1996: 166]22. Притом что Рахметов и «новые люди» вдохновили целое поколение революционеров, никто не воплотил в себе идеалы Чернышевского полнее, чем сам вождь революции В. И. Ленин, взявший Рахметова себе за образец.
Ленин перечитал «Что делать?» после того, как его брат был повешен за участие в заговоре против Александра III; роман оказал на него воспитательное воздействие. «Он меня всего глубоко перепахал»23, – вспоминал он впоследствии, в 1904 году. В знак уважения он назвал именем романа свою работу 1902 года о роли и организации большевистской партии. Он и в поведении напоминал Рахметова пренебрежением к личному комфорту, скромностью, уверенностью в себе, целеустремленной преданностью революции, трудовой этикой и ожиданием, что все будут следовать его примеру.
И Чернышевский, и Ренан предложили своим читателям светский образец для подражания, и каждый из этих образцов, в свою очередь, отражает одну из двух главных проблем, вызывавших тревогу в России в век неверия. Убедительный портрет Иисуса у Ренана представляет собой рационалистическое ниспровержение Богочеловека. «Житие Рахметова» у Чернышевского возвещает о пришествии нового Человекобога научного материализма. Отныне все христологические битвы в России должны были вестись на два фронта: с исторической критикой, низводившей Иисуса до статуса обычного человека; и с материалистами, которые и вовсе сбросили Иисуса с парохода современности и заменили его другим сакральным прообразом – истовым революционером, которому предназначено возвестить эру справедливости под знаменем науки и прогресса. Именно на этих двух полях сражений предстояло вести свои «священные войны» величайшим русским романистам-христологам – Ф. М. Достоевскому и Л. Н. Толстому.
Достоевский, Толстой и тревога о вере
И Достоевский, и Толстой отреагировали на Чернышевского и Ренана парадоксально. Ответом Достоевского на «Что делать?» стал подпольный человек с его бунтом, полным своеволия и злобы, – иррациональное противоядие от рациональных эксцессов утилитарной утопии Чернышевского, но, как ни странно, без прямых упоминаний Иисуса Христа. На «Жизнь Иисуса» – книгу, «полную безверия» [Достоевский ПСС, 23:10], – Достоевский ответил романом «Идиот», написанным непосредственно в годы после первого знакомства с Ренаном. Но и здесь критики отмечают парадокс, ибо князь Мышкин явно разделяет многие черты, характерные для ренановского Иисуса:
Его кроткий, поэтичный характер <…> Его наивность, притягательную силу Его взгляда и улыбки, незнакомство с науками, незнание жизни высших слоев общества, любовь к общению с детьми и женщинами, которые лучше других понимали и ценили Его, Его собственную детскость, Его слабости и сомнения, борьбу с «демоном, который живет в сердце каждого человека» [Степанян 2004: 145]24.
Как будто, отвечая Ренану, Достоевский невольно поддался его чарам.
Толстой тоже разделяет основные взгляды как Чернышевского, так и Ренана, хотя и отвергает то, что они отстаивают. Всегда оставаясь дуалистом, Толстой не соглашался с Чернышевским в том, что тот подчеркивал исключительную силу человеческого разума и разумный эгоизм, считая их и сущностной природой человека, и единственным путем к улучшению жизни общества. Как напоминает нам Д. Орвин, Толстой «верил в существование как разумного эгоизма, так и внутреннего духовного принципа, позволявшего управлять им и даже противостоять ему» [Orwin 1993: 21]. Его пьеса 1864 года «Зараженное семейство» служит слегка завуалированным ответом на роман Чернышевского, где Толстой противопоставляет эмоциональность и естественность героини с говорящим именем Любовь мелкому эгоизму ее поклонников-нигилистов, неспособных по-настоящему любить ее в силу их рационализма. В то же время, как указывает А. Н. Уилсон, Толстой «в значительной степени впитал в себя крайний радикализм Чернышевского, Герцена и Прудона» (Там же: 20), влияние которых можно заметить в том, какие позиции в последующие годы занимал Толстой по вопросам землевладения и правительства. Что касается «Жизни Иисуса», то, хотя Толстой, как известно, высмеивал мнимый интерес Ренана к биологическим функциям Иисуса, он и сам, подобно Ренану, в своих исследованиях Евангелий и христианской веры выступал за небожественного Иисуса.
В противостоянии обоих писателей человекобогу и небогочеловеку центральное место занимали два фактора: убежденность в неправоте Чернышевского и Ренана, но также и отчетливая тревога по поводу того, как правильно на них реагировать. Очевидно, что для Толстого и Достоевского проблемы, которые создавал Иисус Христос их эпохе и благополучию человечества, имели первостепенную важность. Собственно, последние десятилетия жизни каждого из писателей были почти целиком посвящены тому, чтобы донести свое понимание Иисуса и его учения до читателя, чья враждебность или безразличие к нему только росли. В век неверия каждый из писателей был подобен гласу, вопиющему в пустыне: «Приготовьте путь Господу». И подобно Иоанну Крестителю, каждый из них по-своему указывает на Христа, пусть и собственного изготовления.
Какой образ Христа они нам раскрывают, увидим в следующих главах.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе