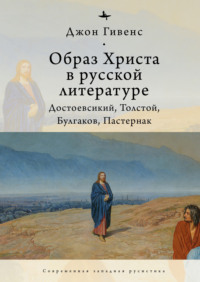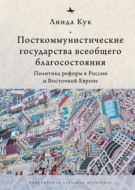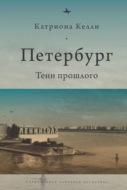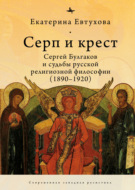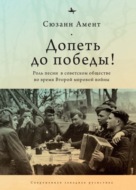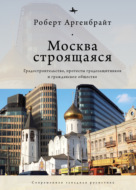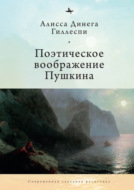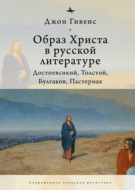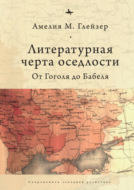Читать книгу: «Образ Христа в русской литературе. Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак», страница 3
Русские писатели в век неверия
Яркий пример – родоначальник современной русской литературы А. С. Пушкин, чье детство прошло в «атмосфере фривольной и поверхностной культуры французского XVIII века» [Мирский 2005: 159]. Пушкин был изначально далек от религии, а в юности колебался между агностицизмом и атеизмом. Безусловно, он не был благочестив. Достаточно взглянуть на несколько его ранних стихотворений на религиозные темы. Стихотворение 1821 года «Христос Воскрес, моя Ревекка…» адресовано молодой еврейке, с которой он целуется на Пасху, следуя «закону бога-человека», Иисуса Христа; в дальнейших непристойных строках речь идет о том, что за другой поцелуй он готов «приступить» «к вере Моисея» и даже вручить ей то, «чем можно верного еврея / от православных отличить». В послании «В. Л. Давыдову», написанном в тот же день, что «Христос воскрес, моя Ревекка…», Пушкин шутит, что его «ненабожный желудок» не приемлет евхаристии, – иное дело, «…когда бы кровь Христова / Была хоть, например, лафит». В том же году Пушкин написал свою богохульную пародию на Благовещение, «Гавриилиаду», в которой Марию в один день посещают сатана, архангел Гавриил и Бог, с каждым из которых она вступает в сексуальную связь.
Хотя эти стихи не обязательно означают метафизический бунт молодого поэта, они отражают глубоко укоренившийся скептицизм по отношению к религиозным догмам. Этот скептицизм, однако, не помешал Пушкину впоследствии превозносить христианство как «величайший духовный и политический переворот на нашей планете» [Пушкин ПСС, 7: 100] или восхищаться нравственной силой христианства в мировом масштабе. Более того, как отмечает Ф. А. Раскольников в статье «Пушкин и религия», в стихах поэта о смерти, написанных в 1830-е годы, количество религиозных мотивов возрастает, что дает повод некоторым критикам представлять Пушкина как христианского писателя [Раскольников 2004]12. Однако, если смотреть с этой точки зрения, в «Евгении Онегине» (1823–1831), шедевре, который он писал почти десять лет, вообще отсутствуют какие-либо существенные отсылки к христианству. Наоборот, его героиня Татьяна в начале романа больше руководствуется в своих действиях суевериями и народными верованиями, чем христианством, и, хотя в конце концов она предпочитает остаться верной своему немолодому мужу и отвергает признание Евгения в любви, ее нравственный поступок не основан на явных религиозных убеждениях. Собственно, самый понятный вид бессмертия, о котором говорит роман, – это бессмертие, обретенное не верой и молитвами, а искусством. Однако одно из последних стихотворений Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» (1836) – поэтическое переложение одной из самых известных молитв великопостной литургии, молитвы Ефрема Сирина – часто цитируется как свидетельство того, что в последние годы жизни Пушкин обратился к вере13.
Очевидный наследник Пушкина, М. Ю. Лермонтов демонстрирует такие же колебания в отношении веры. Его бесспорным вкладом в русскую литературу служит знаменитый психологический портрет первого в русской прозе истинного материалиста (прямо названного так в середине романа)14 – Григория Печорина из романа «Герой нашего времени» (1840). Красивый, загадочный, манипулятивный и жестокий, Печорин, помимо прочего, – пресыщенный циник, в жизни и мировоззрении которого место веры занимает скептицизм. Он смотрит на звездное небо и дивится, что человечеству когда-то приходило в голову искать помощи у небес, тогда как его собственное поколение, в отличие от предыдущих, равнодушно переходит «от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому» [Лермонтов 1962: 115].
В эпоху, когда вера уже не выдерживала критики, Печорин одним из первых в русской литературе ощутил бремя своего экзистенциального одиночества и невозможности дать ясные ответы на главные вопросы бытия. «Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет? – вопрошает он, – и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..» (Там же: 117). Будучи сплавом романтических штампов и иронических инверсий того же романтизма, Печорин предстает вполне современной фигурой. Он сомневается во всем, не доверяет ни чувству, ни холодному расчету, и как человек, который «вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно» (Там же: 115), задается вопросом, что можно считать подлинным опытом, а что, напротив, иллюзорным – искаженной копией реальности, выведенной из искусственных построений культуры и пропущенной через наши ожидания и заблуждения. Появление на литературной сцене Печорина задало тон подобным вопросам, которые два десятилетия спустя стали задавать герои Достоевского и Толстого.
Современник Пушкина и Лермонтова Н. В. Гоголь, похоже, представляет собой первое исключение в нашем списке авторов, произведения которых отмечены равнодушием к религии и церкви. Гоголь, чья литературная карьера началась со сборника рассказов о том, как добрые христиане сражаются с чертом и его злыми силами («Вечера на хуторе близ Диканьки», 1831–1832), а завершилась сборником очерков, проповедующих верность православной Церкви, доброе христианское поведение и воскресение Христа («Выбранные места из переписки с друзьями», 1847), был самым выдающимся автором первой половины XIX века, писавшим на религиозные темы. Однако такая характеристика слишком растяжима. Не будучи автором «романов идей» в духе Толстого и Достоевского, Гоголь в своих произведениях не касается непосредственно вечных метафизических вопросов, а скорее разоблачает повседневное мелкое зло с помощью гротескного изображения. Его шедевр «Мертвые души» целиком построен на идее, что тривиальные пошлости – не «широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому» – заставляют человечество «позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое» [Гоголь ПСС 7, 1: 227]. Главный прием Гоголя – искажение масштабов. Если в роман и вписано христианское содержание, его следует искать именно здесь, в гоголевском описании убивающих душу свойств мира, тонущего в банальности. Хотя все эти разоблачения имели более дальний нравственный прицел, желание Гоголя развить «Мертвые души» в более масштабное произведение назидательной христианской литературы – своего рода русскую «Божественную комедию» – так и не было реализовано.
Когда Гоголь обратился непосредственно к религиозной теме, результат оказался катастрофическим. Гоголю всегда хотелось служить для своих читателей духовным наставником, и его разочаровывало то, что это стремление не может в полной мере выразиться в художественной прозе. Под конец жизни он опубликовал «Выбранные места» как своего рода «религиозно-этический трактат» [Erlich 1969: 194]. Неуспех книги как у консервативных, так и у либеральных читателей объяснялся не только ее реакционным содержанием, но и несвоевременностью: Гоголь шел не в ногу со временем. Благочестивые наставления писателя скорее годились бы для более ранней эпохи, и уж конечно, были далеко не так занимательны, как его художественная проза. В 1830-40-е годы в российском обществе уже преобладали более светские интересы, и религиозные наставления уступили место социальной этике и политической философии (Там же: 198).
Это смещение интересов отразилось и в русской литературе, где православие отошло на роль исключительно культурной или фоновой черты. Лучший пример этого явления – «Обломов» И. А. Гончарова. Тематический и эстетический центр романа, «Сон Обломова», опубликованный за десять лет до самого романа, в 1849 году, показывает, что православие в жизни, описанной в романе, сводится к сугубо культурным аспектам. Центральное место в сновидении занимает «комико-эпическое» описание жизни в глубинке российской провинции, в родовом имении Обломовых, где ход времени отсчитывается православными праздниками (упоминаются Ильин день, Троица, петровки, Прохор, Никанор). Слуги и хозяева живут во взаимном согласии, никто ни в чем не нуждается; они «никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами; оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго» [Гончаров 1987: 97]. Это самый настоящий райский сад, только здесь никто не вспоминает о Боге, разве что упоминая разнообразные церковные праздники. На самом деле текст не имеет отношения к богословию: скорее это комическое мифотворчество, включающее библейские и классические аллюзии, плюс мимолетный намек на «гомеровский список»15. Таким образом, сон не описывает рай, а скорее комически искажает его на манер Гоголя.
«Сон Обломова» служит также философским центром книги: здесь формулируется основной вопрос романа о том, что в жизни имеет истинный смысл – деятельность и достижения или же покой, еда и друзья. В романе предлагаются два ответа на этот вопрос, состоящие в описании двух браков, заключенных в конце книги: друг детства Ильи Ильича Обломова Андрей Штольц женится на Ольге Ильинской (бывшей невесте Обломова), сам же Илья Ильич – на Агафье Матвеевне, хозяйке его квартиры на Выборгской стороне. Ольга и Штольц – идеальное сочетание ума и трудолюбия, красоты и деловитости. Обломов и Агафья, напротив, представляют собой уход в обломовскую идиллию, но только лишенную поэзии, которой обладала ее реконструкция в мечтах Обломова. Домашний уклад Агафьи, как в Обломовке, состоит в переходе от одной обильной трапезы к другой, а время отсчитывается сменой времен года и чередой церковных праздников (упоминаются заговенье, Пасха, Троица, Иванов день и Ильинская пятница), пока в эрзац-рай Обломова не вторгается смерть. Смерть, как выясняется, очень важная тема в романе, так как, хотя в обеих парах между супругами царит общность интересов и согласие, ни брак, ни взгляды, которые они воплощают, в конечном счете не в состоянии ответить на единственную метафизическую проблему романа: как признать ожидающий все живое конец, не впадая в отчаяние.
В этом отношении больше всех склонна к сомнениям Ольга: при мысли об «общем недуге человечества» (Там же: 358) на нее накатывают приступы тоски. Штольц называет это «расплатой за Прометеев огонь», но в ответ может предложить Ольге только банальные слова о том, что такие мысли «с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь» (Там же). В свою очередь Обломов, ослабевший здоровьем от безделья и чревоугодия, боится своей неминуемой смерти, а перед тем как скончаться в постели от удара, даже временами плачет. Таким образом, роман, в котором церковные праздники представлены как важная черта повседневной жизни России, полностью умалчивает о том, что христианская вера способна предложить ответ на поставленные в нем вопросы о смысле жизни и смерти. Ясно, что для Гончарова русское православие – это просто часть мира, в котором живут его герои, а не средство, с помощью которого они справляются с жизненными испытаниями.
Учитывая литературный контекст того времени, в этом парадоксальном выводе нет ничего удивительного. Писателей занимала не христианская теология, а прогрессивная идеология, и произведения оценивались по степени их соответствия текущей социально-политической полемике. Так читали и «Обломова». В знаменитой статье «Что такое обломовщина?» (1859) Н. А. Добролюбов рассматривал роман как диагноз болезни, которой заражено русское общество: бездействия и пассивности. Обломов, по утверждению Добролюбова, лишь один из череды героев, от Онегина и Печорина до тургеневского Рудина, не сумевших применить свои таланты на благо общества. В этом контексте христианская среда романа была не чем иным, как текстовым маркером культурной отсталости. У христианства не было ответов на проблемы общества, у нового социализма они были.
В свою очередь, И. С. Тургенев очень хорошо понимал новую роль литературы и в череде романов «Рудин» (1856), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867) и «Новь» (1877) описывал как конфликт поколений в русском обществе, так и меняющиеся повседневные политические реалии, что создало ему репутацию прозаика, обращающегося к социальным, а не духовным вопросам. Подобно Белинскому, Герцену и другим интеллектуалам своего поколения, Тургенев был человеком мирским до мозга костей. Хотя в юности он был верующим христианином, с возрастом Тургенев утратил веру, хотя, по-видимому, восхищался искренней религиозной верой и иногда сожалел о своей неспособности верить. Не будучи откровенным атеистом, он оставался агностиком на протяжении всей жизни. Однако он посещал церковь вместе со своей незаконнорожденной дочерью Полинет и даже защищался от обвинений в том, что «отнял Бога у нее». «Я бы себе не позволил такого посягательства на ее свободу – и если я не христианин – это мое личное дело – пожалуй, мое личное несчастье», – писал он в 1862 году [Тургенев ПСС, 17: 129].
Агностицизм Тургенева, однако, не помешал ему описывать в своих произведениях религиозные чувства. Так, сильными религиозными мотивами пронизано «Дворянское гнездо» (1859), героиня которого, Лиза, в конце романа принимает постриг, чтобы искупить несчастную любовь. Но Лиза, как и сам роман «Дворянское гнездо», скорее исключение, подтверждающее правило. Как почти все сильные духом героини Тургенева, она ведет жизнь жертвенную и самоотверженную, но, как отмечает А. Ярмолинский, «она поступает так из религиозных соображений», при том что героини последовавших произведений «мыслят светски» [Yarmolinsky 1961: 161]. Светское мышление – характерная черта мировоззрения Тургенева как писателя и пропагандиста западных ценностей в России. Тургенев не одобрял «внешние атрибуты религии, крепостное право и сентиментальную привязанность к традиционным “древнерусским обычаям”» [Schapiro 1982: 21], и эти взгляды отражены в его романах.
Таким образом, по взглядам и мировоззрению Тургенев предвосхищает А. П. Чехова, чьи рассказы и пьесы ознаменовали конец реализма в России fin de siecle. Внук крепостного крестьянина, сумевшего купить себе и своей семье свободу, Чехов имел достаточно оснований верить в прогресс и, будучи врачом с естественнонаучной подготовкой, прекрасно понимал ценность образования и важность всесторонних знаний. Как и Тургенев, он относился к религии настороженно, возможно, из-за того, что в детстве ему приходилось поневоле принимать участие в семейных молитвах и петь в церковном хоре своего отца. В то же время он на всю жизнь сохранил любовь к церковной музыке и литургии, и во многих его рассказах фигурируют православная служба, иконы, Священное Писание, праздники и жития святых – обычно как часть окружения его персонажей, но, как утверждают некоторые критики, порой и как важные христианские подтексты16. Чехова также восхищало то, как в два последних десятилетия века переосмыслил христианскую веру Толстой – как веру, представляющую собой набор нравственных предписаний, без обрядов, догм и священников. «Я человек неверующий, – писал Чехов в письме М. О. Меньшикову в январе 1900 года, – но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру» [Чехов ПСС, 9: 273].
Хотя отношение писателя к вере было более сложным, чем можно понять из его признания в собственном неверии, основой нравственности для Чехова служила не одна лишь религия. «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индиф-ферентист, – писал Чехов А. Н. Плещееву в 1888 году в письме, которое впоследствии будут считать «символом веры» писателя. – Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» [Чехов ПСС, 3: 11]. Чтобы верить в эти добродетели, не обязательно верить в Бога, поэтому неудивительно, что Чехова не беспокоил упадок религии в России. В 1902 году Чехов писал С. П. Дягилеву, что образованная часть русского общества «ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались» [Чехов ПСС, 11: 106].
Растущий упадок веры среди образованных классов не был ни для кого секретом. Так или иначе на него откликаются все произведения Достоевского, написанные после сибирской ссылки; эта тема также занимает видное место в «Соборянах» Н. А. Лескова (1872) и «Анне Карениной» Толстого (1875–1877), где вера в Бога и Иисуса Христа рассматривается как нечто несовместимое с мировоззрением современного образованного человека. Отец Савелий в «Соборянах» жалуется на «общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России убеждению, что развитому человеку “стыдно веровать”» [Лесков СС, 4: 201]. В «Анне Карениной» Лёвин на протяжении всего романа борется с верой в Бога, а художник Михайлов, трудясь над картиной «Христос перед судом Пилата», категорически заявляет, что по вопросу, Бог Иисус или не Бог, «для образованных людей… спора уже не может существовать» [Толстой ПСС, 19: 43]. Для многих персонажей романа «религия есть только узда для варварской части населения» и никак не предназначена для прочих членов общества, таких как брат Анны Стива Облонский, который «не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело» [Толстой ПСС, 19: 9].
Позиция Степана Аркадьевича типична для высших классов России, многие представители которых, как отмечает Хью Маклин в биографии Лескова, «утратили всякую связь с церковью, кроме разве что случайной». Маклин считает, что в то время «распространенное повсеместно равнодушие к религии» высших классов и гражданских властей представляло «более серьезную угрозу для церкви, чем откровенный атеизм радикалов» [McLean 1977: 202]. Лесков – в меньшей степени в «Соборянах», более открыто в последующих произведениях – также утверждает, что угрозой подлинной вере в России служат недостатки самого православия, начиная с малообразованных продажных священников и жесткой иерархии, заканчивая православными литургическими обрядами и таинствами, похожими на магические заклинания и оторванными от более прагматичной и здоровой духовности, подобной той, которую провозглашали некоторые направления протестантизма и личное своеобразное христианство Толстого. Последние глубоко восхищали Лескова.
Утрата православной веры, однако, не обязательно означает утрату желания верить. Восхищение Лескова неправославными и неортодоксальными христианами напоминает нам о том, что нередко недовольство Церковью заставляло людей искать ей альтернативу17. Достаточно вспомнить заигрывание Пьера Безухова с масонством в «Войне и мире», описание Толстым интереса к столоверчению, спиритизму, медиумам и пиетизму в «Анне Карениной» или растущий интерес к евангельскому протестантизму в «Воскресении» (1899), чтобы получить представление о меняющемся ландшафте веры в России XIX века. Православие – все еще господствующая религия – сталкивалось с вызовами как растущей неортодоксальности, так и постоянно углубляющейся секуляризации.
Однако если Толстой был прав, утверждая в «Воскресении», что не только образованная элита, но и большинство верующих русских не задумывались над предметом своей веры и просто «верили, что непременно надо верить в эту веру» [Толстой ПСС, 32: 139], то нет ничего удивительного в том, с какой легкостью большевикам после революции удалось дискредитировать и маргинализировать православие. Но определение XIX века как эпохи неверия – все же скорее полемический аргумент, чем констатация факта, отчасти потому, что историческая реальность довольно сложна, а отчасти из-за того, что называть писателей «светскими» или «религиозными» – несколько сомнительное занятие, которое может завести нас слишком далеко. В конце концов, авторы пишут не только то, к чему их подталкивает эпоха, но и то, что диктуют им личные предпочтения. Речь о другом – об особой тревоге, которую вызывали у русских писателей взаимосвязанные вопросы о вере и о смысле и значении Иисуса. Именно эта тревога важна для настоящего исследования, и именно ее помогает объяснить идея «эпохи неверия». Назвать XIX век эпохой неверия – один из способов дать имя этой тревоге.
Христос веры в век неверия
Если век неверия в России – продукт эпохи Просвещения, то корни связанной с верой в Иисуса тревоги, о которой здесь идет речь, можно найти в историко-критической школе библеистики, сформировавшейся под непосредственным влиянием просветительских идей. Чтобы в полной мере понять эту тревогу, необходимо прежде всего рассмотреть два образа, с которыми имели дело русские писатели в век неверия: Иисуса истории и Христа веры18.
Христос веры в России XIX века был вездесущ: он смотрел с домашних и церковных икон, он был объектом поклонения во время церковных служб. Это был Пантократор, Вседержитель, владыка вселенной, чье суровое лицо смотрело вниз из-под самого высокого купола русских церквей. Это также был милосердный Спаситель, который умалил себя, приняв человеческий облик. Это был униженный Бог, распятый на кресте. Иисус истории, напротив, был совершенно иным, во всяком случае, так утверждалось в двух самых влиятельных трудах историко-критической школы библеистики, появившихся в России в XIX веке и ставших известными во всей Европе. Согласно «Жизни Иисуса» Д. Ф. Штрауса (1835) он был «создателем религии человечества»19, который, хотя сам и не был божественным, раскрыл божественность, присущую человеческому роду. Согласно «Жизни Иисуса» Э. Ренана (1863) он был «возвышенным человеком», провинциальным, смертным, не чудотворным, грешником, как и все мы, – но «благодаря ему человеческий род сделал величайший шаг к божественному» [Ренан 1906: 295]. Влияние двух этих работ на эпоху неверия в России сложно переоценить. Собственно, историко-критический метод в XIX веке изменил представление об Иисусе не меньше, чем вселенские соборы – Никейский (325 г. н. э.), Константинопольский (381 г. н. э.), Эфесский (431 г. н. э.) и Халкидонский (451 г. н. э.) в раннем христианстве.
Как соборы, так и ученые историко-критической школы стремились разрешить вопрос об истинной личности Иисуса; те и другие стремились доказать, в частности, одно: что Иисус был целиком и полностью человеком. Историко-критическая школа утверждала, что Иисус был всего лишь смертным человеком. Соборы постановили, что абсолютными были и божественность Христа, и его человеческая природа. Это утверждение имеет огромное значение для понимания не только Иисуса, но и природы нашей личности и наших отношений с Богом. Ранние церковные соборы боролись с альтернативными представлениями о связи между божественной и человеческой природой Иисуса, опровергая и отбрасывая одни идеи (впоследствии названные ересями) и утверждая другие. Ереси, конечно же, получили ярлыки: докетизм (человечность Иисуса была просто иллюзией, маскирующей его божественную природу); арианство (Иисус был сотворенным существом, подчиненным Богу, несколько меньшим, чем Бог, но большим, чем человек); несторианство (Иисус был просто человеком, соединенным с божественной личностью Сына Божьего); и монофизитство (человеческая природа Иисуса была полностью вытеснена его божественным единением с Сыном). Эти запрещенные представления об Иисусе давали ценные проясняющие моменты для ранней церкви, которая, хотя и исповедовала божественного Христа, тем не менее не хотела отрицать или преуменьшать его человеческую природу. Борясь с недостатками каждой из отвергнутых христологий, соборы пришли к выводу, и сегодня доминирующему в исповедании Христа, что Иисус был «истинным человеком и истинным Богом», полностью человеческим и полностью божественным существом, и его человеческая и божественная природа проявлялись в равной степени во всем, даже в страданиях и смерти Иисуса.
Такого Иисуса знали все русские писатели. Богочеловека Иисуса Христа как сочетание человеческого и божественного можно было увидеть не только на иконах, в окружении которых росли русские писатели, но и в самой конструкции любой русской церкви. Каждая церковь была пограничным пространством, где соприкасались земная и божественная реальности, отграниченные друг от друга иконостасом: земной неф с одной стороны, святой алтарь – с другой. Вход в русскую православную церковь был не только праздником чувств, но и богословским уроком, где каждая архитектурная и ритуальная деталь рассказывала историю воплощения Бога. Особенно важную роль в этом рассказе играли иконы, неотъемлемая часть русских храмов.
Икона – это в первую очередь зримый образ самого Бога, абсолютно человеческий и абсолютно божественный. Как напоминает нам Л. Успенский, «образ изначала присущ самой сущности христианства, ибо христианство есть откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, явленного Богочеловеком» [Лосский, Успенский 2014: 32]. «Видевший Меня видел Отца», сказал Иисус (Ин 14: 9). Об этом недвусмысленно говорят греческие буквы в нимбе, окружающем голову Христа. В верхней части нимба находится буква омикрон, греческий определенный артикль. Слева от головы Христа – омега, которая сочетается с буквой «ню» с противоположной стороны. Вместе они образуют слово «[Я есмь] Сущий» – так Бог назвал себя Моисею из Неопалимой купины (Исх 3: 14). Из этого можно сделать только один вывод: фигура, которую мы видим перед собой, – то же самое, что Бог.
Однако будучи пограничным пространством, икона есть маркер разделения в той же степени, что и примирения. В этом она подобна иконостасу, преграде, «отделяющей мир божественный от мира человеческого», которая в контексте самого церковного интерьера «объединяет их в одно целое в образе, отражающем такое состояние вселенной, в котором преодолено всякое разделение, где осуществлено примирение между Богом и тварью и в самой твари» (Там же: 103). Верующий, стремящийся к примирению, должен участвовать в реальности, которую видит в образах иконостаса. Глядя на икону Христа, он должен делать то же, что ранее делали святые: следовать по пути Богочеловека, указывающего путь к единению с Богом.
Я останавливаюсь на этих аспектах иконографии, поскольку они помогают прояснить понимание русскими писателями образа Христа как Богочеловека. В конце концов, иконы учат своеобразному подражанию Христу, отличному от типичной западной практики. Если на Западе imitatio Christi (подражание Христу) обычно толкуется как поведение, подобное поведению Христа20, то на Востоке верующие подражают Христу, стремясь уподобиться Христу не только мыслями и поступками, но и телом. Подобно Христу, прославленному в Преображении и Воскресении, они тоже должны преобразиться, одухотвориться, обожествиться. Именно к этому одухотворению тела стремится Восточная Церковь, и именно этому призваны помочь и показать пример иконы. Иисус Христос – не только Сын Божий и второе лицо Троицы, но и «обоготворенный первообраз», которому верующие стремятся подражать и который напоминает им, что они созданы по образу и подобию Божьему (Там же: 53).
При этом важно отметить, что, как указывают отцы Восточной Церкви, слова «образ» и «подобие» означают не одно и то же; различие подразумевается в Книге Бытия, где Бог намеревается «сотворить человека по образу Нашему и подобию», но создает его только «по образу Божию» – о подобии Божием далее не упоминается (Быт 1: 26, 27). Согласно православной традиции, образ и подобие – в самом деле две разные вещи. Образ Божий, по словам П. В. Флоренского, составляет «духовную основу каждого человека как такового» [Флоренский 1993: 27]. Это неотъемлемая часть нашей личности: «как бы ни были мы грешны, мы никогда не утрачиваем образ Божий» [Уэр 2012: 227]. Однако подобие Богу – это «способность духовного совершенства» [Флоренский 1993:27], которая достигается «действием благодати Святого Духа при свободном участии самого человека» [Лосский, Успенский 2014: 50]. Собственно, воплощение Иисуса представляет собой главное подтверждение этой стороны наших отношений с Богом. Как сказал святой Ириней, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
Поэтому понимать образ Христа на иконах означает также признавать свое призвание «уподобиться», чтобы наше человеческое состояние – тело и личность – могли одухотвориться. Этот процесс, называемый теозисом, или обожением, стоит в центре богословия иконы и учения Православной церкви. «Красота иконы – красота стяжанного подобия Богу, и потому ценность ее не в том, что она красива сама по себе, что она является красивым предметом, а в том, что она изображает Красоту», – пишет Успенский [Лосский, Успенский 2014: 52]. Красота здесь приобретает богословское значение, поскольку Красота – это эпитет, описывающий Бога. А икона – это не только изображение Красоты, но и средство ее достижения. Таким образом, роль иконы заключается не в статическом изображении, а в динамическом творении.
Учитывая важность теозиса в православной духовности, неудивительно, что русская религиозная мысль, а вместе с ней русская философия и литература так сильно персонализированы. Призыв к обожению – это приглашение принять участие в божественной жизни Христа и вступить в «личностное и органическое единение» с Богом, тема, постоянно звучащая в Евангелии от Иоанна и посланиях апостола Павла. Однако, становясь «причастниками Божеского естества» (2 Пет 1:4), мы сохраняем «полную личную целостность» [Уэр 2012: 241]. Люди не сливаются с Богом, но остаются отличными от него, ибо откровение Христа как Воплощенного Бога утверждает абсолютную ценность человеческой личности, создавая онтологическую общность между человечеством и Богом.
Влиятельный русский религиозный философ В. С. Соловьев, чьи знаменитые лекции о богочеловечестве посещали в 1878 году и Достоевский, и Толстой, утверждает, что союз с Богом был бы невозможен, «если бы божественное начало было чисто внешним для человека, если бы оно не коренилось в самой человеческой личности; в таком случае человек мог бы находиться относительно божественного начала только в невольном, роковом подчинении» [Соловьев 1989: 20]. Таким образом, личность является ключевым концептом для понимания как человека, так и Бога. Человеческая личность «имеет безусловное, божественное значение», отмечает Соловьев, ибо она «может свободно, извнутри соединяться с божественным началом» и таким образом «причастна Божеству». С другой стороны, божественное начало, «будучи личностью, или обладая личным бытием… вместе с тем есть и безусловное содержание, или идея, наполняющая это личное бытие» (Там же).
«Что бы сделал Иисус?»), распространенные у евангельских христиан.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе