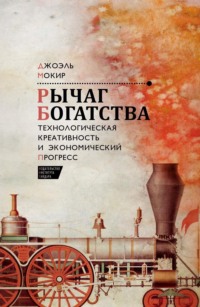Читать книгу: «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», страница 2
Иными словами, ключевая предпосылка нашей книги сводится к тому, что изобретения и инновации взаимно дополняют друг друга. В краткосрочном плане такая взаимодополняемость не идеальна; одно вполне возможно без другого. Однако в долгосрочном плане технологически креативные общества должны проявлять как изобретательность, так и новаторство. Без изобретений инновации в конце концов затормозятся и прекратятся, ввергнув общество в состояние застоя. Без инноваций изобретатели не будут иметь точки применения сил и серьезных экономических стимулов для того, чтобы развивать новые идеи. В третьей части книги будет указано, что такая взаимодополняемость является одной из причин, по которым столь редки технологически креативные общества. Она невозможна без одновременного соблюдения множества различных условий. Изобретения зависят от факторов, определяющих индивидуальное поведение, так как изобретатель в конечном счете одинок в своих попытках создать нечто работоспособное. С другой стороны, инновации требуют взаимодействия с другими индивидами, зависят от институтов и рынков и потому носят в первую очередь социальный и экономический характер.
Ни один простой ответ на вопрос о том, почему технологическая креативность присуща далеко не всем обществам, никогда не удовлетворит всех до единого. «Простой и всеобъемлющий всеобщий закон эволюции, – писал Гершенкрон (Gerschenkron, 1967, p. 448), – лежит по другую сторону линии, отделяющей серьезные исследования от поверхностных фантазий». Однако мы явно в состоянии сказать нечто большее, помимо простой констатации того, что «всё имеет значение», или выявления самых заметных различий между креативными и некреативными обществами и поиска соответствующих причинно-следственных связей. Корреляция не означает наличия причинности. Ирландский католицизм, центральноафриканский климат, зависимость Юго-Восточной Азии от риса – все эти факторы ошибочно объявлялись причинами отсутствия технологической креативности в данных обществах. Экономический анализ поможет нам установить значение одних факторов, усомниться в роли других факторов и разработать методы оценки факторов, неоднозначных с точки зрения теории.
Таким образом, для того чтобы понять, где и почему наблюдается технологическая креативность, мы должны проводить различие между двумя основными компонентами последовательности «изобретение-инновация». Первым из этих компонентов является то, что технические проблемы влекут за собой борьбу между разумом и материей, то есть связаны с контролем над физической окружающей средой. Как говорится, природа скупо раскрывает свои секреты. Извлечение из нее этих секретов и их последующее использование для получения материальной выгоды составляют сущность любого технологического прорыва. Итог определяется отвагой и хитроумием изобретателя, ограничениями, присущими имеющимся у него инструментам и материалам, и сопротивлением законов природы воле изобретателя. Второй компонент носит социальный характер. Для того чтобы внедрить новую технологию, изобретатель должен взаимодействовать со своим окружением, состоящим из конкурентов, клиентов, поставщиков, представителей власти, соседей, быть может, священников. Общество становится технологически креативным при соблюдении трех условий. Во-первых, оно должно иметь кадры изобретательных и предприимчивых новаторов, способных и готовых бросить вызов физическому окружению ради улучшения своей жизни. Какие-либо инновации маловероятны в недоедающем, суеверном или чрезмерно традиционалистском обществе. Во-вторых, экономические и социальные институты должны поощрять потенциальных новаторов, создавая для них нужную структуру стимулов. Отчасти такие стимулы являются экономическими; технологическая креативность более вероятна в том случае, если новатор может рассчитывать разбогатеть. Впрочем, неэкономические стимулы тоже могут сыграть свою роль. Общество может награждать удачливых новаторов орденами, нобелевскими премиями или неосязаемыми символами престижа. В-третьих, инновации требуют разнообразия и терпимости. В каждом обществе существуют стабилизирующие силы, охраняющие статус-кво. Некоторые из этих сил защищают устоявшиеся кровные интересы, которые могут пострадать в случае внедрения инноваций, а другие просто действуют по принципу «не раскачивайте лодку». Технологической креативности приходится преодолевать эти силы.
Работа по экономической истории технических изменений будет неизбежно содержать даты, имена и географические названия. По самой своей природе рассказ о технологической креативности невозможен без упоминаний о том, кто первый пришел к той или иной идее и кто внес принципиальные исправления и усовершенствования, без которых эта идея не работала. Однако в последние десятилетия историки экономики избегали подобной тематики. Как спрашивает Дэвид (David, 1987): не сводится ли история техники всего лишь к непрерывному накоплению мелких, почти не ощутимых изменений, создаваемых трудом множества почти анонимных людей? Некоторые историки утверждают, что почти все изобретения являются результатом «технического дрейфа» (выражение из Jones, 1981, p. 68), складываясь в основном из мелких, постепенных, анонимных усовершенствований (Rosenberg, 1982, pp. 62–70). В качестве реакции на героические теории изобретательства, приписывающие любые усовершенствования гениальности отдельных личностей, теория дрейфа приобрела заслуженное влияние. Но не слишком ли далеко мы заходим в другую сторону, не придавая значения важным изобретениям, сделанным немногими ключевыми фигурами? Некоторые изобретения – такие как печатный станок, ветряная мельница, часы с гирями – противоречат постепенной модели технического прогресса. В истории всегда происходили – и, вероятно, всегда будут происходить – отдельные крупные технические изменения, ошеломлявшие мир и заставлявшие его поскорее заполучить или сымитировать новинку. Действительно, современные исследования показывают, что сокращение издержек в основном осуществляется благодаря мелким, незаметным, постепенно накапливающимся усовершенствованиям. Но что именно при этом совершенствуется? За появлением практически каждого крупного изобретения следовал процесс обучения, в ходе которого снижались производственные издержки, связанные с использованием новой технологии; но для того чтобы эти издержки снижались, новинку сперва следует изобрести. Взрослый человек, весящий около 150 фунтов, с момента рождения набрал примерно 95 % своего веса – следует ли из этого, что зачатие не сыграло никакой роли в его жизни?
При обсуждении различий между мелкими изобретениями, в совокупности оказывающими решающее воздействие на экономический рост, и крупными техническими прорывами было бы полезно провести аналогию между историей техники и современной теорией эволюции, чем мы займемся в главе 11. Некоторые биологи проводят различие между микромутациями – мелкими изменениями существующих видов и их облика – и макромутациями, в результате которых создаются новые виды. Это различие может дать нам полезную аналогию. Мы будем определять микроизобретения как небольшие, постепенные шаги в сторону совершенствования, адаптации и упрощения уже используемых технологий, снижения издержек, оптимизации форм и функций, повышения надежности и экономии энергии и сырья. С другой стороны, макроизобретения – это такие изобретения, в которых используются новые идеи, не имеющие четких прецедентов и возникшие более-менее с нуля. В смысле численности микроизобретения делаются намного чаще, и именно они обеспечивают основной прирост производительности. Впрочем, макроизобретения занимают столь же важное место в истории техники.
Принципиальной чертой технического прогресса является то, что макроизобретения и микроизобретения не заменяют, а дополняют друг друга. При отсутствии последующих микроизобретений большинство макроизобретений окончили бы свои дни экспонатами в кунсткамерах или набросками в блокнотах. Действительно, бывает так, что автор усовершенствования, позволившего довести до ума то или иное эпохальное изобретение, отбирает всю славу у его непосредственного творца – именно так произошло с паровой машиной, пневматической шиной и велосипедом. Однако если бы не существовало радикальных новшеств, непрерывный процесс совершенствования и оптимизации известных технологий сопровождался бы постепенным снижением отдачи и со временем прекратился бы. Микроизобретения более-менее объяснимы с точки зрения стандартных экономических концепций. Они представляют собой результат поисков и изобретательской работы и зависят от цен и стимулов. Обучение в процессе работы и использования повышает экономическую эффективность и коррелирует с такими экономическими переменными, как объем производства и уровень занятости. С другой стороны, макроизобретения как будто бы не подчиняются очевидным законам, не обязательно являются ответом на стимулы и в большинстве своем не поддаются попыткам увязать их с экзогенными экономическими переменными. Многие из них появились на свет в результате гениальных озарений, удачи или интуиции. Соответственно, в истории техники сохраняется компонент необъясненного, который невозможно истолковать в чисто экономических терминах. Иными словами, удача и вдохновение тоже важны и потому все зависит от конкретной личности. Исследователи, сомневающиеся в ее значении, нередко отталкиваются от аксиомы о заменимости: если бы автором данного изобретения не был X, им стал бы Y – этот вывод обычно делается на примере многочисленных одновременных изобретений. Но хотя такая закономерность верна в отношении некоторых изобретений, включая телефон и лампу накаливания, того же самого нельзя сказать в отношении множества других важных инноваций.
Если и существует такая сфера, в которой преобладает сверхупрощенная детерминистическая точка зрения, утверждающая, что результаты всегда определяются неумолимыми силами, подчиняющими себе индивидов – такими, как законы спроса и предложения или классовая борьба, – то этой сферой является экономическая история техники. Спрашивать, почему крупные прорывы важнее, чем маргинальные улучшения, – все равно что спрашивать, кто выигрывает сражение, генералы или солдаты. Подобно тому, как в военной истории мы прибегаем к таким условностям, как «Наполеон в 1806 г. разбил прусскую армию под Йеной», так же мы можем говорить и о том, что конкретное изобретение было сделано тогда-то или тогда-то. Из подобных заявлений не следует, что приростом производительности в результате применения данного изобретения мы обязаны исключительно его непосредственному изобретателю, так же, как из заявления о победе Наполеона над пруссаками не следует, что он в одиночку разгромил всю их армию. Просто нам удобно выстраивать нарратив вокруг конкретного события.
Различие между микро- и макроизобретениями полезно потому, что, как подчеркивают историки техники, в этой литературе рискованно употреблять слово «первый». Многие технические прорывы имеют историю, начавшуюся задолго до того, как произошло событие, обычно считающееся данным изобретением, и почти все макроизобретения требовали последующих усовершенствований, без которых оставались неработоспособными. Однако во многих случаях одно-два конкретных события действительно сыграли решающую роль. Без таких прорывов технический прогресс в конце концов остановился бы. В работе Ашера (Usher, 1954, p. 64) подчеркивается значение «искусства интуиции», и хотя Ашер утверждает, что нет ни одного индивида, без которого не могла бы обойтись история техники, в то же время он признает, что процесс ее развития задавался индивидуальными свойствами и различиями.
В настоящем исследовании мы будем вынуждены ограничиться небольшим числом примеров, взятых, в первую очередь, из экономической истории Запада. Прежде чем перейти в третьей части книги к обсуждению вопроса о том, почему одним обществам была присуща креативность, а другим – нет, необходимо дать обзор фактов. Авторы работ об экономических аспектах технического прогресса слишком часто рассматривают эту тему в отрыве от конкретного исторического материала или прибегают к искусственным построениям, вырывая из контекста те события и факты, которые соответствуют авторской интерпретации. Стремление к обобщениям можно сдерживать путем более широкого освещения основных тенденций в истории техники. Соответственно, во второй части мы вкратце рассмотрим важнейшие технические достижения последних двух с половиной тысячелетий. Подобное начинание выглядит абсурдно амбициозным: изданная в конце 1950-х гг. 5-томная «История техники» под редакцией Чарльза Сингера и др. содержит 4000 страниц текста и тем не менее обычно считается неполной. Поэтому мы затронем лишь самые важные инновации в ограниченном числе областей, оставляя за рамками рассмотрения доисторический период и раннюю древность, а также эпоху после 1914 г. Но и промежуток между 500 г. до н. э. и 1914 г. настолько богат свидетельствами и фактами, что нам удастся лишь отделить несколько крошек с поверхности глубокого и мощного пласта. В стремлении как-то совладать с изобилием материала я был вынужден в целом игнорировать сферы гражданского строительства, архитектуры, медицины и военной техники, уделяя внимание лишь тем достижениям, которые зримо влияли на уровень жизни.
По итогам исторического обзора мы проведем анализ различий между креативными и некреативными экономиками. В главе 7 будет рассмотрен ряд объяснений, ссылающихся на всевозможные факторы – от питания до религии, от институтов до ценностей и менталитетов. С целью оценить значение этих факторов, в главах 8, 9 и 10 на их основе мы сделаем три сопоставления, сравнив античное общество со средневековым Западом, Китай с Европой после 1400 г. и Великобританию в период промышленной революции с остальной Европой и с Великобританией в эпоху ее постепенного упадка как мирового лидера в технологиях – то есть противопоставим технически динамичные общества тем обществам, которые не обладали такой динамикой.
Четвертая часть книги будет посвящена динамике технических изменений. Конкретно – мы зададимся вопросом о том, происходят ли технические изменения рывками и скачками, или же этот процесс носит непрерывный и постепенный характер. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы проведем аналогию между техническим прогрессом и биологической эволюцией, а также попытаемся применить к анализу техники концепцию периодически нарушаемого равновесия.
История технического развития открыта для обвинений в излишнем оптимизме, в том, что ее принято излагать как историю прогресса, усовершенствований, неудержимого движения от бедности к богатству и процветанию. Но думаю, что с учетом разницы между уровнем жизни на Западе в наши дни и тремя веками ранее подобные обвинения не выдерживают критики. Э. Г. Карр (Carr, 1961) рассказывает, что царь Николай I издал указ, которым запрещал использовать слово «прогресс» в своей империи, и едко добавляет, что западные историки с сильным запозданием последовали примеру царя. Едва ли кто станет всерьез спорить с тем, что история использования людьми своей способности манипулировать законами природы с целью решения экономических задач носит однонаправленный характер и заслуживает названия «прогресс». Если абстрагироваться от того, как техническое развитие влияло на такие внеэкономические понятия, как свобода и братская любовь, то с точки зрения экономиста, судящего об истории сквозь призму вековечной борьбы с бедностью и тяготами, технические изменения достойны слова «прогресс». Разумеется, если технические изменения со временем приведут к физическому уничтожению нашей планеты, выжившие вряд ли захотят называть историю техники «прогрессом». Однако до тех пор я считаю себя вправе пользоваться этим термином – не в телеологическом смысле движения к четко обозначенной цели, а в более ограниченном смысле направленности. Если ту же самую корзину товаров можно производить по более низкой цене – при условии, что она точно измерена и включает такие социальные издержки, как ущерб, наносимый окружающей среде, – то термин «прогресс» окажется здесь вполне уместен.
И все же ключевой посыл нашей книги будет не столь однозначно оптимистичным. История дает нам относительно мало примеров технически прогрессивных обществ. Наш собственный мир представляет в этом плане хотя и не единственное, но все же исключение. По большому счету, силы, противодействовавшие техническому прогрессу, обычно брали верх над силами, желавшими изменений. Поэтому исследование технического прогресса – это исследование исключений, тех случаев, когда в результате редкого стечения обстоятельств нарушалась нормальная тенденция обществ к сползанию в застой и равновесие. Беспрецедентным процветанием, доступным в наши дни для значительной доли человечества, мы в гораздо большей степени обязаны случайным факторам, чем обычно думают. Более того, технический прогресс похож на хрупкое и уязвимое растение, живущее лишь в подходящем окружении и климате и вдобавок почти всегда недолговечное. Он чрезвычайно сильно зависит от социальных и экономических условий и легко может быть остановлен посредством относительно мелких внешних изменений. Если история техники и преподносит нам какой-то урок, то он состоит в том, что шумпетерианский рост, как и прочие виды экономического роста, не стоит и не следует воспринимать как данность.
Часть II. Хроника
Глава 2. Античная эпоха
Вплоть до недавнего времени считалось общепризнанным, что античные цивилизации (греческая, эллинистическая и римская) не достигли больших успехов в технологическом плане (Finley, 1965, 1973; Hodges, 1970; Lee, 1973). Но как указывали в последние годы некоторые критики, такое суждение чрезмерно сурово (K. D. White, 1984). Во-первых, в античную эпоху был осуществлен ряд важных технологических прорывов, масштабы которых, скорее всего, недооцениваются историками вследствие скудости литературных и археологических свидетельств. Во-вторых, представление о том, что можно не только восхищаться научными знаниями как таковыми, но и применять их для решения конкретных задач, несомненно, уже существовало в те годы, получив особенно широкое распространение среди эллинистических механиков. В-третьих, как подчеркивается в работе Финли (Finley, 1973, p. 147), в определенном смысле суровое суждение об античных обществах представляет собой попытку навязать нашу собственную систему ценностей обществу, не заинтересованному в экономическом росте. «До тех пор пока имелась возможность вести приемлемый образ жизни, что бы под ним ни понималось, на первом месте стояли иные ценности». В тех сферах, которые имели для них наибольшее значение, греки и римляне добились колоссальных результатов. Чиполла (Cipolla, 1980, p. 168) к этому добавляет, что наша собственная цивилизация механистична по своей природе и потому мы в значительной степени склонны отождествлять технологии с машинами, в то время как античная цивилизация была ориентирована на другие виды технологий. Ряд важных технологических достижений античной цивилизации принадлежит к тем аспектам технологии, которые носят нефизический характер: так, деньги, алфавит, стенография и геометрия связаны скорее со сферой информационных процессов, нежели со сферой физического производства. И даже достижения в физической сфере по большей части относились к строительству и архитектуре, а не к механическим устройствам. Тем не менее наша оценка античных обществ отражает в себе инстинктивное разочарование цивилизацией, отмеченной такими триумфами в литературе, науке, математике, медицине и в области политической организации5. Даже в таких немеханических сферах технологии, как химия и сельское хозяйство, достижения античного мира кажутся менее значительными по сравнению с его предполагаемым потенциалом.
Технический прогресс в античном мире – особенно в римскую эпоху – обслуживал в первую очередь не частный, а общественный сектор. Римские вожди приобретали популярность и политическое влияние, осуществляя удачные общественные проекты. История Рима – и в первую очередь Римской империи – позволяет оценить значение таких людей, как Агриппа и Аполлодор, которые помогали своим покровителям (соответственно Августу и Траяну) в проведении масштабных общественных работ. Столицы цивилизованной Европы в 1800 г. не имели таких мощеных улиц, канализации, водопровода и пожарной охраны, какими мог похвастаться Рим в 1000 г. Однако за сельское хозяйство, производство и услуги отвечал главным образом частный сектор, достижения в котором были малочисленными и медленно внедрялись. Главными сферами, в которых прославились греки и римляне, являлись гражданское строительство, архитектура и гидравлика. Водопроводы для доставки свежей воды и ливневая канализация появляются в Греции уже в первые века античной эпохи6. Римская империя, располагавшая колоссальными ресурсами, подняла строительство в общественном секторе до недосягаемых высот, несмотря на то что в большинстве ее строительных достижений, включая дороги и акведуки, использовались существовавшие технологии. Первый римский водопровод был сооружен Аппием Клавдием в 312 г. до н. э., а к I–II вв. н. э. Рим уже имел беспрецедентно сложную систему водоснабжения7. Также на высоком уровне находились канализация и вывоз отходов. И в жилых домах, и в банях применялось центральное отопление. Описывая городской уклон римских технологий, Ходжес (Hodges, 1970, p. 197) приходит к выводу о том, что «римский город был более интересен масштабами их применения, нежели их прогрессивностью».
Не меньшее внимание в Риме уделялось инфраструктуре сухопутного транспорта: дороги и мосты, построенные римлянами, по праву вызывают восхищение в качестве одного из их величайших достижений. Успехи в этой сфере главным образом опирались на изобретение цемента, которое Форбс (Forbes, 1958b, p. 73) называет «единственным великим открытием, которое можно приписать римлянам»8. Экономическое значение римских дорог не следует преувеличивать. До позднего Средневековья дожили те из них, которые были заброшены, в то время как большинство дорог Галлии в условиях плотного движения и отсутствия ремонта пришло в негодность. Римские дороги строились в военных целях, и их использование населением для торговых перевозок носило случайный характер (Leighton, 1972, p. 48–60). Власти поздней империи накладывали строгие ограничения на вес грузов, допущенных к перевозке, и в отсутствие таких усовершенствований, как конская упряжь, подковы и телеги, экономическое значение дорог, вероятно, сводилось к транспортировке легких и ценных грузов. Римские дороги имели крутые уклоны, не создававшие особых проблем при передвижении пехоты и перемещении легких грузов, но сильно осложнявшие коммерческие перевозки9. При строительстве мостов и акведуков римляне использовали революционную технологию бетонных арок и опор, принимавших на себя тяжесть постройки. Некоторые из этих акведуков – например, знаменитый Пон-дю-Гар под Нимом – уцелели. Другие – такие как деревянный мост на рамных опорах, за десять дней наведенный войсками Юлия Цезаря через Рейн (в 55 г. до н. э.) – известны нам лишь по описаниям.
Кроме того, техническая изобретательность обеспечивала прогресс в таком секторе общественной сферы, как сооружение военных машин. Военная техника в целом не является предметом нашего рассмотрения, однако следует отметить, что и греческие, и римские военные технологии представляли собой одну из немногих областей успешного сотрудничества между наукой и практикой10. Как ни странно, римляне не внесли особых усовершенствований в греческие и эллинистические военные машины, хотя широко их применяли и делали их все более крупными и мощными.
В отношении того, что мы сегодня называем машинами, вклад античного мира, особенно эллинистической цивилизации, заключался в полном осознании значения таких механических элементов, как рычаг, клин и винт, а также различных элементов трансмиссии – храповика, шкива, шестерни и кулачка. Однако они находили применение главным образом в военных машинах и хитрых игрушках, обычно строившихся ради забавы, а не с какой-либо практической целью. Многие из этих идей были забыты на тысячелетия. Возможно, самым блестящим античным изобретателем и инженером, чьи работы дошли до нас, был Герон Александрийский, живший примерно в конце I в. (Landels, 1978, p. 201). В число устройств, приписываемых Герону, входят эолипил – практичная паровая машина, применявшаяся для открывания храмовых дверей, – торговый автомат (для продажи святой воды в храме) и диоптра – прибор, аналогичный современному теодолиту, используемому в геодезии и строительстве, и состоявший из угломерного инструмента, совмещенного с уровнем. Большинство изобретений Герона в лучшем случае предназначалось для развлечения. То же самое можно сказать о жившем в III в. до н. э. Ктесибии, которого иногда называют александрийским Эдисоном. Считается, что Ктесибий изобрел гидравлический орган, металлические пружины, водяные часы и поршневой насос.
Новый свет на технические достижения эллинизма позволяет пролить недавнее открытие знаменитого Антикитерского механизма, найденного среди груза корабля, затонувшего неподалеку от Крита. Этот механизм представляет собой чрезвычайно сложное устройство для астрономических вычислений, созданное в I в. до н. э. Дерек Прайс, осуществивший его реконструкцию, призвал историков к «полному пересмотру наших представлений о древнегреческой технике. Люди, построившие его, могли сконструировать едва ли не любое механическое устройство, какое только могло им понадобиться» (Price, 1975, p. 48). Пожалуй, это чересчур смелое утверждение. В реальности Антикитерский механизм доказывает лишь то, что эллинистические народы обладали более широкими навыками использования зубчатых колес и прикладной геометрии, чем ранее считалось возможным, и то, что их астролябии (изобретенные во II в. до н. э.) являлись механически сложными устройствами. Как демонстрирует Антикитерский механизм, античная цивилизация была в состоянии строить хитроумные астрономические приборы и умела сооружать намного более сложные зубчатые механизмы, чем прежде полагали. Тем не менее этот механизм был не более чем приспособлением, позволявшим воспроизводить движение Луны, Солнца и планет в научных и, вероятно, астрологических целях. Насколько мы можем судить, он не приносил непосредственной экономической пользы, а по мнению одного исследователя Античности, та специфическая область конструирования, которая позволила создать Антикитерский механизм, лежала в стороне от магистрального русла изобретений той эпохи и не оказала на него заметного влияния (Brumbaugh, 1966, p. 98)11. Судя по этому открытию античная цивилизация обладала интеллектуальным потенциалом для сооружения сложных технических устройств. Другой вопрос, почему этот потенциал столь слабо использовался в целях экономического прогресса. К теме техники в греко-римском мире мы еще вернемся в третьей части.
Одной из тех сфер, в которую эллинистическая и римская цивилизации внесли долговечный вклад, являлись водоподъемные устройства и насосы. В Античности широко использовались насосы всевозможных конструкций – для ирригации, осушения шахт, тушения пожаров и откачки воды из корабельных трюмов. Поршневые насосы, известные римлянам и применявшиеся ими, имели серьезный недостаток: их приходилось погружать в воду, что затрудняло их установку и эксплуатацию. Но такое очевидное дополнение к поршневому насосу, как всасывающий насос, было изобретено лишь в XV в. (Oleson, 1984; Landels, 1978, ch. 3). Строительство водоподъемных устройств привело к ряду достижений в механике – таких как изобретение трансмиссии (шестерни, кулачки и цепи). Однако выявляемые позитивные экстерналии, создававшиеся водоподъемными механизмами в других отраслях, немногочисленны, а некоторые важные приспособления – например, кривошип или маховик – остались неизвестны в античном мире.
Прогресс в частном секторе – включая сельское хозяйство, текстильное производство и применение энергии и материалов – за период с 500 г. до н. э. до 500 г. н. э. был весьма скромным. Новые идеи не то чтобы совершенно отсутствовали, но их распространение и применение носило спорадический и замедленный характер. С чисто экономической точки зрения наиболее важным техническим прорывом являлось открытие принципа рычага, приписываемое Архимеду. Из сочетания рычага с принципом спирали родился винт, который использовался как деталь зубчатых передач, крепежное и прижимное приспособление. Эти устройства объединяет известный древним инженерам закон о том, что малое усилие, приложенное издали, по своему воздействию равносильно большому усилию, приложенному вблизи. Винный пресс, основанный на этом принципе, впервые упомянут около 70 г. Плинием, считавшим, что его изобрели греки веком раньше. Еще одно изобретение – сложный блок – позволяло строить краны для подъема тяжелых грузов. В какой степени этими инновациями мы обязаны непосредственно Архимеду, неясно: вполне вероятно, что здесь, как и во многих других случаях, теория следовала за практикой, а не наоборот12.
В металлургии и горнорудном деле главными достижениями являлось использование колес с черпаками и Архимедова винта. Греки разработали более передовые методы отделения руды от пустой породы, но по большому счету в этой области после 300 г. до н. э. не появилось никаких заметных новшеств. Процесс производства железа в Греции и Риме был медленным и позволял выпускать продукцию неодинакового, а следовательно, низкого качества. Из руды путем нагрева в домнице выжигали углерод, а затем, удаляя оставшиеся загрязнения, получали мягкое малоуглеродистое железо. Главной проблемой, стоявшей перед древними металлургами, была невозможность достичь температуры плавления железа. Губчатые, тестообразные чушки, выходившие у античных кузнецов, следовало подвергать ковке и новому нагреву, чтобы сделать металл более-менее пригодным для применения. Самая качественная, булатная, сталь (вуц) поступала из Индии, хотя металлурги Запада тоже умели производить сталь низкого качества (Barraclough, 1984, vol. 1, p. 19). Вероятно, кузнечные мехи были в ходу уже в IV в., но чугун оставался неизвестен, потому что кузнецы так и не научились получать достаточно высокие температуры. В этом отношении античный мир и раннее Средневековье отставали от Китая, где искусство чугунного литья появилось еще в III в. до н. э. Насколько мы можем судить, греки и римляне не достигли особого прогресса в металлургии, несмотря на широкое использование железа. Свидетельства о достижениях в этой сфере спорны и относятся главным образом к Восточной Европе и Великобритании, будучи нетипичными для средиземноморского мира, находившегося под властью Рима (Tylecote, 1976, p. 53). Максимум что можно сказать о Римской империи – то, что в ней шло распространение передовых технологий, а также, возможно, строились чуть более крупные печи и внедрялись некоторые другие мелкие усовершенствования.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе