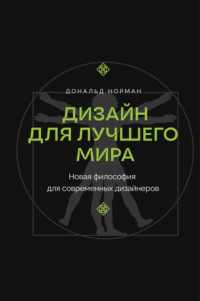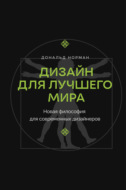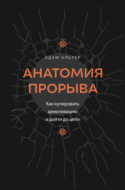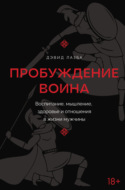Читать книгу: «Дизайн для лучшего мира. Новая философия для современных дизайнеров», страница 6
8. Измерения в естественных науках
Если я попрошу вас назвать самый мощный инструмент науки, то вы, возможно, предположите, что это математика или компьютер. Да, эти инструменты важны, но они не были бы столь мощными без проведения измерений – одного из основополагающих принципов науки и техники. Известный британский ученый Уильям Томсон (более известный как лорд Кельвин) в 1883 году высказался о важности измерений:
В физической науке первый важный шаг в изучении любого объекта – это поиск принципов числового счета и методов практического измерения какого-либо качества, связанного с этим объектом. Я часто говорю, что если можно измерить то, о чем вы рассуждаете, то вы кое-что знаете об этом; если же измерить предмет ваших рассуждений невозможно и его нельзя выразить в цифрах, ваши знания скудны и неудовлетворительны. Возможно, это лишь начало знания, но вы едва ли, по вашим представлениям, продвинулись до стадии науки, о чем бы ни шла речь.
Я познакомился с рассуждением Кельвина об измерениях, будучи студентом инженерного факультета Массачусетского технологического института. Это рассуждение повлияло на большинство научных и инженерных дисциплин. Его также взяли на вооружение во многие социальные и поведенческие науки и распространили даже на гуманитарную сферу и искусство, несмотря на то, что за пределами области естественных наук процесс измерения нелегкий и не всегда уместный. Почти все игнорируют первые три слова Кельвина – «в физической науке».
Как ученые могут измерить процесс принятия решений в племенном совете или на собрании в мэрии, где наблюдается множество соглашений, разногласий, перерывов, драк, тайных договоренностей, одолжений, побуждений и угроз? Излюбленный экономистами показатель эффективности компаний – продуктивность. Он хорошо работает, когда производительность измеряется на заводе или складе, где каждому работнику поручена определенная задача, которую он должен выполнять многократно. Производительность работника измеряется количеством выполненных задач за час или в день. Но как быть с задачами, которые требуют размышлений и принятия решений? Любопытно, что, хотя компании и вознаграждают высшее руководство за управленческие навыки, они неизменно «оценивают» руководителей по росту (или снижению) прибыли компании и стоимости ее акций, которые не только не имеют отношения к их управленческим навыкам, но и часто являются результатом усилий их предшественников, предпринятых несколькими годами ранее. Основная причина, по которой используются именно эти показатели, заключается в том, что их легко получить. Неправильные измерения часто вознаграждают не тех людей.
Как измерить производительность руководителя, ученого, актера или журналиста? Производительность программистов часто измеряют количеством строк кода, который они создают каждый день, а журналистов – количеством слов написанного текста (а сегодня – и количеством скачиваний или кликов, которые получают их статьи, а также реакцией на них в социальных сетях).
Обратите внимание на отсутствие слова «качество» в рассуждении о производительности. Эти показатели игнорируют как качество продукции, так и качество жизни работника, вынужденного выдерживать эти измерения, от которого постоянно требуют повышать «эффективность», увеличивать производительность и количество. Самое странное заключается в том, что чем больше строк в день пишут программисты, тем больше ошибок они допускают, а это – отдельный показатель производительности «команды отладчиков», которым поручают находить и исправлять погрешности. Производительность команды отладчиков измеряется тем, сколько правок они вносят каждый час (или в день). Обе команды могут получать высокие оценки производительности, даже если одна из них создает ужасный код и увеличивает общее время для выполнения работы. Почему же производительность измеряют именно таким способом? Потому что это просто.
Когда дело касается человеческого поведения, при переводе сложной деятельности на язык абстрактных измерений теряется очень многое. Именно здесь погоня за измерениями часто приводит к потере цели, когда контекст и сложные факторы, личности отдельных людей и их скрытые мотивы и стимулы теряются, а часто и игнорируются.
Мы, жители Глобального Севера, выросшие на теориях модернизма, проповедующих преимущества науки, рациональности и силы математического вывода, любим измерять вещи. Большинство этих измерений неполны, неточны и неуместны, но нас это не останавливает. Я знаю это, потому что именно так меня учили и так я действовал в первые годы профессиональной карьеры. Проблема в том, что не все, имеющее значение, можно измерить, или, как гласит известный остроумный афоризм: «Не все, что можно посчитать, достойно счета, и не все достойное поддается счету». Что делать с важными вещами, которые либо невозможно измерить, либо измерять слишком сложно или дорого? Когда научное сообщество не может измерить интересующее его свойство, оно, как правило, делает одно из двух:
1. Называет свойство неважным и забывает о нем.
2. Ищет нечто другое, имеющее отношение к интересующей переменной и измеримое. Затем присваивает измеренному свойству название первого, забыв (или проигнорировав) тот факт, что первая переменная не то же, что измерялось.
Есть и лучшие решения. Во-первых, схемы измерения, используемые учеными-физиками, значительно расширили ученые-социологи, увеличив диапазон измеряемых свойств (глава 9). Во-вторых, качественные описания столь же важны и эффективны, как и числовые величины, и многие сложные объекты гораздо лучше описываются качественно, нежели с помощью числовых показателей, которым не хватает валидности.
Уверенность ученых в необходимости измерений даже для не поддающегося измерениям
Высказывание лорда Кельвина оказало огромное влияние на сферы за пределами естественных наук. Ученые занимаются измерениями отчасти потому, что они позволяют проводить статистические и математические анализы, углубляющие знания и понимание предмета. А еще потому, что от них этого ожидают. Я мог бы процитировать многих критиков чрезмерного присвоения числовых значений тому, что не поддается измерению обычными стандартами, но эту тему хорошо раскрывает интервью политолога Рут Карлиц в журнале American Scientist. Карлиц изучала способы принятия решений в авторитарных режимах во время кризиса COVID‐19. Интервьюер (Скотт Габриэль Ноулз) спросил, какие показатели используются «для определения страны как авторитарной», и Карлиц ответила:
Показывая цифры и рейтинги, мы считаем их объективными, но за этими цифрами стоит множество допущений. Многие из этих рейтингов основаны на субъективном мнении экспертов. Но кто может быть экспертом? И что означает сравнение страны с рейтингом 97 со страной с рейтингом 96?
Существует много коробок, которые не открываются, если на них просто написать номер. Рейтинг превращается в набор холодных, жестких, объективных факторов. Я тоже пользуюсь рейтингами в работе, так что немного лицемерю, но иногда они заставляют меня чувствовать себя неловко.
У проводимых нами измерений есть два недостатка. Первый я уже упоминал – измеряют то (объекты, явления или виды деятельности), что легко измерить, а не то, что имеет наибольшее значение. Во-вторых, как только человеческую деятельность превращают в цифры, она теряет контекст и, следовательно, смысл. Она становится абстракцией, на основе которой принимают решения о поведении людей без учета влияния этих решений на жизнь отдельных людей. Нам нужно измерять важные для людей вещи значимыми и полезными способами.
9. Измерение того, что важно для людей
Заявление лорда Кельвина о том, что если что-то невозможно измерить, то нам не хватает знаний, актуально для большинства наук, хотя, как я уже говорил, часто игнорируются его первые три слова – «в физической науке». Психология, социология и наука о поведении намного сложнее «физических», то есть естественных, наук. Живые организмы – это сложные динамические системы, на которые влияет множество факторов как в пространстве, так и во времени, зависящих от их истории (то есть зависимых от пути) и изменчивых.
Древнегреческому философу Гераклиту приписывают слова о том, что «невозможно дважды войти в одну и ту же реку», ведь если река – некий объем воды, то вода в ней постоянно меняется. В эпоху лорда Кельвина утверждение Гераклита было неприменимо. В естественных науках можно много раз измерять один и тот же объект, и каждый раз объект и измерение будут одинаковыми, если не обращать внимания на изменения в процессе измерения. С живыми существами дело обстоит иначе. Люди постоянно меняют убеждения и мнение с течением времени. Люди взаимодействуют с помощью мимики и движений тела, выбирают тон голоса, подбирают слова, и, конечно же, в общении им помогают технологии, позволяющие взаимодействовать во времени и пространстве. Убеждения человека могут измениться вследствие опыта, образования или манипуляций, а с изменением убеждений меняется и реакция людей на ситуации, регулируемые этими убеждениями. Все живые существа находятся в постоянном движении, взаимодействуют друг с другом и окружающей средой, растут, изменяются физически и химически, а те, у кого есть мозг и разум, – и психически.
Наука добилась значительного прогресса благодаря наблюдениям, измерениям, математике и экспериментам в сочетании с публичным обменом идеями и методами. Важная часть этого процесса – воспроизводимость, то есть способность других людей повторять и развивать полученные результаты. Если результаты не удается воспроизвести, то это часто становится началом научных дебатов, ведущихся в журналах и конференц-залах до тех пор, пока не прояснятся экспериментальные различия, не появятся новые интерпретации или не будут опровергнуты предыдущие результаты. Способность воспроизводить результаты лежит в основе почти всех успехов в сфере естественных наук.
Воспроизводимость результатов зарекомендовала себя в естественных науках, но когда этот метод применяется к наукам о живом, возникают трудности. Единственный способ провести тщательные, хорошо контролируемые эксперименты – это то, что некоторые критики называют моделью «белой комнаты», то есть исследования в тщательно контролируемом пространстве лаборатории, обычно в университете, которое изолировано от внешнего мира и от всего, что не имеет отношения к изучаемым переменным. Результаты из «белых комнат» часто обманчиво просты и четко описывают поведение человека, и их можно повторить в других «белых комнатах». Но как только мы выходим из тщательно контролируемых и искусственных условий лаборатории в реальный мир, наука ломается. Поведение в жизни чувствительно к контексту и в значительной степени определяется индивидуальной историей каждого человека. Хуже того: университетские ученые часто изучают наиболее доступную для них группу – молодых студентов. Критики отмечают, что в большей части исследований человеческого поведения, проводимых в университетах Запада, изучают в основном образованных и небедных представителей демократических стран Запада (чаще белых). Другими словами, в контролируемых исследованиях участвуют люди, не слишком репрезентативные для 8 миллиардов жителей планеты.
Особенно повинны в этом экономисты, пытающиеся отразить сложное поведение людей и общества в нескольких простых числах. Экономическая наука, к сожалению, в последнее время влияет на государственную политику, отчасти потому что логичность, простота измерений и математические формулы создают впечатление строгости и научности. Но экономисты редко тестируют свои предсказания. Воспроизводимость не относится к основным инструментам в этой области. Справедливости ради: проводить контролируемые эксперименты в сфере экономики в реальном мире трудно, а порой невозможно. Каждая ситуация уникальна, и как только публикуются результаты ранних исследований, знание о них влияет на последующие попытки повторения экспериментов.
Чиновники обращаются к экономистам за знаниями и советами для принятия сложных решений, но не только знания и советы экономистов вызывают скепсис – усомниться в их ценности вынуждают и впечатляющие математические рассуждения, прячущие слабо обоснованные предположения за техническим языком математики. Неспециалисты легко поддаются влиянию математических аргументов. Да, математика не может лгать, но заложенные в формулы допущения и предположения могут быть столь же ошибочными, как и вводимые в расчеты неверные числовые значения. Широко известно высказывание о недостатках математики, говорящее о зависимости качества результата от качества исходных данных: «Мусор на входе, мусор на выходе».
Одно из фундаментальных допущений большинства экономических моделей заключается в том, что люди ведут себя рационально и логично. Несмотря на десятилетия исследований психологов, показывающих, что эти предположения неверны, экономисты долго игнорировали доказательства, пока, наконец, они не стали настолько весомыми, что Нобелевские комитеты начали присуждать премии по экономике людям, которые даже не были экономистами, но демонстрировали ошибочность некоторых из этих базовых предположений. И даже это не полностью изменило практику экономики.
В экономических и социальных моделях часто неподобающим образом используются методы естественных наук, что вредит людям и обществам. Научный метод имеет множество достоинств, особенно его жесткие требования к доказательствам, наблюдениям, экспериментам и независимому воспроизведению идей и результатов. Разные области научных дисциплин требуют разных методов для выполнения этих требований, но при соблюдении этих методов получаемые знания бывают весьма эффективными для определения национальной политики.
Науки о поведении человека и общества могут подробно описать важные вопросы и переменные, при необходимости давая количественную и качественную оценку. Как принимать решения без простых ответов, которые часто дает современная математика? Именно это и приходится делать ответственным лицам: принимать важные решения на основе неполных, неоднозначных и противоречивых данных. Они и принимают решения, но часто за непрозрачностью математических или компьютерных моделей скрываются противоречивые и неоднозначные значения. Хуже того, важные качественные оценки, отражающие истинные потребности общества и людей, часто остаются «за кадром», поскольку не вписываются в существующие рамки.
Экономическая наука сталкивается с особыми трудностями, когда имеет дело с крупномасштабными явлениями, такими как современные организации, страны, международные потоки товаров, людей и идей. Нарушить международную торговлю могут сотни факторов, такие как изменения на рынке труда, неполадки с торговым балансом и заминки в плавных сделках между странами из-за тарифов, патентных споров, погоды и многого другого. Особенно это стало заметно в последнее время, когда сочетание болезней (пандемия COVID‐19), стихийных бедствий (пожары и наводнения), войн и торговых барьеров нарушило управление важнейшими цепочками поставок по всему миру.
Измерения в экономике
Экономика стала областью прикладной математики. Работы, модели и мнения экономистов занимают центральное место в государственной налоговой политике и международных договорах. Самой влиятельной областью экономики стала макроэкономика, изучающая и пытающая предсказать поведение больших систем (отсюда и приставка «макро-»). Макроэкономика изучает поведение стран, правительств и крупных международных корпораций, доходы многих из которых больше доходов большинства стран. Экономисты, изучающие макроэкономику, в значительной степени опираются на измерения и теории человеческого поведения и принятия решений. Эти предположения рассматриваются как аксиомы в геометрии, которые многие из вас, возможно, изучали в средней школе, например: «Две параллельные прямые никогда не пересекаются». Это утверждения, кажущиеся настолько очевидными, что нет необходимости их проверять. Но, как я покажу в следующем разделе этой главы, многие из этих кажущихся очевидными аксиом о человеческом поведении, с которыми вы можете даже согласиться, на самом деле ложны. Эти предположения – лишь логические суждения экономистов о том, как должны вести себя люди. Если бы экономисты наблюдали за их поведением в реальном мире, они бы обнаружили, насколько неуместны их предположения. Но до недавнего времени этим занимались лишь психологи, антропологи и социологи, однако, опять же до недавнего времени, их выводы игнорировались.
Макроэкономика изучает крупномасштабные явления; микроэкономика – поведение отдельных людей, принимающих относительно небольшие решения (отсюда и приставка «микро-»). Эту область также исказил акцент на рациональность и идеальное принятие решений, что ни в коем случае не относится к реальным людям. На протяжении десятилетий психологи изучали проблемы микроэкономики, но их исследования долгое время игнорировались экономистами. Я проводил некоторые из этих исследований, когда учился в аспирантуре по психологии. В студенческие годы я пытался убедить друзей, изучавших экономику, что их измерения и теоретические рассуждения не соответствуют реальному поведению людей, но они усмехались и утверждали, что это не имеет значения. Они говорили, что сила толпы побеждает мелкие, локальные заблуждения, часто цитируя книгу Адама Смита «Богатство народов» и его аргумент о силе «невидимой руки».
И макроэкономика, и микроэкономика – неотъемлемые составляющие глубокого понимания экономического поведения, и их важность не вызывает сомнений. Но нам нужен более осмысленный взгляд на экономику, использующий понятные широкой публике показатели, и модели, основанные на реальном поведении людей, а не на чрезмерно упрощенных допущениях. И важно помнить, что денежные показатели, такие как валовой внутренний продукт (ВВП), хотя они иногда и полезны, действительно могут ввести в заблуждение. В своей книге «Почему глобальное развитие идет успешно и как мы можем еще сильнее улучшить мир» (Why Global Development Is Succeeding-and How We Can Improve the World Even More) Чарльз Кенни пишет: несмотря на то, что ВВП многих развивающихся стран практически не изменился за десятилетия, в них наблюдаются повсеместные улучшения в области здравоохранения, образования и даже уровня счастья. Оказывается, измеряемые расходы и доходы страны не служат оценкой прогресса страны или успеха программ социальной помощи. Вот случай, когда единственный используемый макроэкономический показатель скрывает прогресс в аспектах, касающихся качества жизни.
Примеры ошибочных допущений
Одно из основных предположений экономической теории заключается в том, что люди максимизируют полезность, то есть удовлетворение, которое получают от товара, услуги или вида деятельности. Чаще всего полезность выражается в денежном эквиваленте и потому толкуется так, как будто люди ищут наименее дорогой вариант. Предположим, вы видите на прилавке два одинаковых товара, но один дороже другого. Какой товар вы бы купили? Согласно традиционной экономической теории, очевидно, что вы купите наименее дорогой.
Но почему тогда люди покупают дорогие вина, виски и часы? Разве они вкуснее или точнее показывают время? Нет. Недорогие цифровые часы часто показывают время лучше, чем очень дорогие механические ручной работы. Один из способов увеличить продажи некоторых товаров – поднять цену, что нарушает здравые логические аксиомы экономистов. Это работает не для всех товаров и не для самых осведомленных покупателей, но во множестве случаев люди считают, что товар подороже лучше. Взять для примера дорогие вина и ликеры, роскошные автомобили и дорогие блюда в высококлассных ресторанах. И в самом деле, если бы вы сравнивали предметы домашнего обихода, которые внешне кажутся одинаковыми, но один из них стоит в два раза дешевле остальных, обязательно ли вы купили бы самый дешевый? Или вы заподозрите, что с ним что-то не так – возможно, он изготовлен из некачественных компонентов или без соблюдения строгих норм?
Герберт Саймон, один из первых исследователей поведенческой экономики, в 1978 году был удостоен Нобелевской премии за работу о принятии решений. Саймон был настоящим междисциплинарным исследователем, внесшим важный вклад в менеджмент, психологию, информатику и исследования в области искусственного интеллекта. Он утверждал, что память и умственные вычислительные способности людей ограничены, называя это «связанной, ограниченной рациональностью». По его словам, люди неспособны оптимизировать решения, поэтому довольствуются тем, что считают удовлетворительным. Он даже придумал отдельный термин «saticfice», объединив слова «saticfy» («удовлетворять») и «suffice» («достаточно»), – когда, не имея нужной информации, люди вместо принятия обоснованного решения просто выбирают то, что, по их мнению, «сгодится и так». Саймон научил меня придерживаться следующего правила: «Я довольствуюсь приемлемым для себя выбором, потому что знаю, что совершенство невозможно. Я экономлю свои время, энергию и терпение. Я удовлетворяюсь (“satisfice”)».
Работая в крупной компании по производству электроники, выпускавшей лазерные и струйные принтеры для промышленности и домашних хозяйств, я вскоре узнал, почему многие потребительские товары, особенно крупные – компьютерные принтеры и так называемые «белые товары» (кухонные и прачечные приборы, которые традиционно выпускались с белым эмалевым покрытием), – выпускаются в трех вариантах. Если у производителя есть только одна версия продукта, компания теряет часть дохода, потому что, возможно, нашлись бы люди, готовые потратить больше денег. Если же компания предлагает два варианта, один из которых имеет больше функций и стоит дороже другого, люди сравнят эти модели и все равно возьмут дешевле. Но если компания представляет третью модель, с увеличенным количеством функций и более дорогую, чем две другие, продажи второй модели возрастают. Почему? Компания не ожидает, что многие люди купят третью модель, но ее наличие заставляет покупателей выбирать между альтернативами. Им нравятся характеристики самой дорогой модели, но не цена. У среднего товара больше функций, чем у наименее дорогого, и он дешевле самой дорогой модели. Они покупают средний товар (хвастаясь тем, сколько денег сэкономили), не подозревая, что ими манипулируют с помощью третьего варианта.
Для продаж также важны характеристики, или функции, товара. Хитрость в том, чтобы убедить покупателей, будто они не проживут без этих функций, даже если до сих пор не имели о них ни малейшего представления. Но после покупки товара большинство людей никогда не пользуются новыми функциями. Дизайнеры знают, что добавление функций, на самом деле не нужных людям, усложняет использование продукта и повышает его стоимость. Однако маркетологи правы: функции продают.
Все эти маркетинговые уловки, основанные на понимании человеческого поведения и психологическом манипулировании людьми, должны аморальны и неэтичны, но в современном мире коммерции им аплодируют. Маркетологов всячески хвалят и продвигают по службе.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе