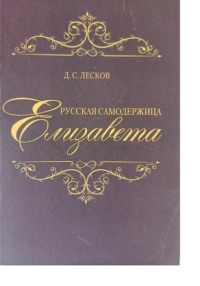Читать книгу: «Русская самодержица Елизавета», страница 4
исходило медленно, так как и государыня и весь народ находились
еще под влиянием «варварских идеалов». Он, как и другие истори-
ки, писал о чрезмерной роскоши двора всевластной правительницы
Елизаветы, о ее «непобедимой» лени.
По поводу присутствия иностранного элемента в русской жизни
4
0–50-х годов ХVIII века Валишевский утверждал, что, национализм,
согласно мнению некоторых историков, воздвигнувший самодержи-
цу Елизавету на престол, являлся мифом. Он считал, что иностран-
цы продолжали играть важную роль, особенно в офицерском кор-
пусе и если они уходили, то заменить их было сложно. Что касается
иностранного элемента в аппарате управления, то он (иностран-
ный элемент), по мнению историка, играл «главную роль», хотя те-
перь иноземцы стояли за спинами русских вельмож. Он уверял, что
в эпоху Елизаветы Петровны сочетались милосердие и жестокость,
невежество и гений М.В. Ломоносова, религиозность и разврат.
Экономика развивалась, по утверждению француза польского про-
исхождения, но страдала от монополий в торговле, хотя смертная
казнь и была отменена, но продолжались казни в провинции. К. Ва-
лишевский критиковал фаворитизм, страсть Елизаветы к роскоши
4
9
Валишевский К .Ф. Дочь Петра Великого. С. 123-124.
–
46 —

и проблемы в экономике, существовавшие в ее эпоху, особенно это
касалось монополий. Впрочем, одновременно отмечал, что опреде-
ленные успехи были достигнуты в горнорудном деле, в создании
текстильной промышленности и т.д.; к тому же правительство суб-
сидировало и частные фабрики, и перспективные отрасли.
Характеризуя ближайших соратников дочери Петра Первого,
историк называл Петра Шувалова энергичным человеком, сторон-
ником прогресса и новшеств, проводником многих реформ: отме-
ны внутренних таможен (1753г.), написания новых законов («Уло-
жения»), реформирования армии и др. Валишевский писал: «Как
законодатель, он связал свое имя с попыткой составления новаго
Уложения, неудачной, как и многия до и после него, но тем не менее
составлявшей значительный шаг вперед. Как администратор, он
упразднением внутренних таможен, последовавшим по его насто-
яниям, отвел себе почетное место в экономической истории своей
страны»50. Главными недостатками Петра Шувалова писатель назы-
вал пристрастие к женщинам и роскоши, и мотовство, испортившее
ему жизнь. Ивана Шувалова «по своим» «культурным наклонно-
стям» К. Валишевский считал инициатором сближения с Франци-
ей. Также он отмечал взяточничество соратников самодержицы,
в частности, А.П. Бестужева-Рюмина. Кроме того, у всех соратников
Елизаветы Романовой, утверждал француз польского происхожде-
ния, были общие недостатки: страсть к роскоши и мотовство. Одна-
ко, это компенсировалось «бешеной» энергией, излучаемой самой
государыней, ее окружением и их фанатичной любовью к родине;
это позволяло им решать поставленные задачи и сокрушать врагов.
Впрочем, деловые качества российской Елизаветы I Валишевский
оценивал с негативной стороны. Порой он противоречил сам себе,
сначала писал о ее патриотизме, а затем о том, что у нее было не боль-
ше патриотизма, чем у польских конфедератов, призывавших ино-
земцев. Многие оценки самодержице Елизавете, историк разделял
с Екатериной ΙΙ, например необразованность, расточительность и т.п.
Оценивая политику управления дочери Петра I, К. Валишевский
писал: «В царствование Елизаветы политика ея стремилась всеми
средствами – в мирный период внутри страны, а в последние годы
за ея пределами – к созданию престижа или иллюзии могущества
и величия России. Это величие покупалось ценою жертв, с каждым
5
0
Валишевский К .Ф. Дочь Петра Великого. С. 164.
–
47 —

годом все более мучительных и жестоких, от которых страдала мате-
риальная и духовная жизнь народа и даже его достоинство и честь:
земледелие было запущено вследствие повальнаго бегства крестьян,
не выносивших непосильнаго ига; зарождающаяся промышленность
парализовалась фискальными требованиями, останавливающими
ея развитие; умственный прогресс задерживался преобладанием
милитаризма…»51. Исторически сложилось так, что поляк по проис-
хождению, он не хотел написать о правительнице Российской Импе-
рии что-либо справедливое. Он утверждал, что правительство перво-
начально стремилось поддерживать равновесие и не вмешиваться
в конфликты, но затем стало гоняться за внешним блеском и славой,
несоизмеримой со скудными средствами народа, а благосостояние
подданных приводилось в «жертву внешней славе».
Отдельный раздел своей книги К. Валишевский посвятил внеш-
ней политике елизаветинской эпохи, он признавал успехи русских
дипломатов, впрочем, считал, что основные успехи были достигну-
ты иностранцами на русской службе. Этим историк пытался дока-
зать, что приоритет, отдаваемый русским во всем, был в значитель-
ной степени мифом. Также он превозносил успехи иностранцев и их
уровень развития, в том числе над русской культурой той эпохи.
Впрочем, последний вывод мог быть навеян автору его источника-
ми: донесениями иностранных дипломатов и их воспоминаниями,
которым он порой верил безапелляционно, ссылаясь на отсутствие
русских источников личного происхождения или их бедностью и,
якобы, необъективностью. Главным недостатком внешней поли-
тики елизаветинской эпохи Валишевский обозначил, возобладав-
шее с какого-то момента, пренебрежение внутренними интереса-
ми в пользу внешних успехов. Он утверждал: «Результатом была
та двойственная, своеобразная физиономия, которую современная
Россия еще долго, после Елизаветы, показывала миру: лицо, сияю-
щее и в тоже время полное страдания, монументальный пышный
фасад, скрывающий лачугу; армия, снаряженная и обученная на ев-
ропейский лад, победоносно шествовавшая по Германии, а дома —
люди в лохмотьях, похожие на зверей; блестящий двор, дворцы,
казармы и отсутствие школ и больниц; серебряная монета, чека-
ненная в Кенигсберге, в завоеванной стране, и фальшивая медная
5
1
Валишевский К .Ф. Дочь Петра Великого. С. 552.
–
48 —

монета, сфабрикованная в Петербурге для местного употребления;
роскошь и нищета одинаково чрезмерныя, цивилизация и варвар-
ство идущия рука об руку везде…»52.
Иными словами, в начале XX века Всероссийская самодержица
Елизавета получила от Казимира Валишевского ярлык правитель-
ницы России, которая гонялась за внешней славой и печатала сере-
бряные монеты в завоеванной стране, ради славы среди иностран-
цев, оставляя свою страну в нищете. Однако, автор данной книги
убежден, что эти обвинения не были справедливыми.
В целом, Валишевский пытался быть объективным, однако
постепенно в его оценках начинал преобладать негативный толк,
возможно, он слишком верил иностранцам современникам Елиза-
веты Петровны, возможно, писал так, чтобы принизить достижения
елизаветинской эпохи. Все же, с одной стороны, он признавал эво-
люцию нравов и культуры, также положительную роль в этом про-
цессе самой императрицы, которая стремилась привить подданным
гуманность и художественный вкус. С другой стороны, отмечал до-
ходящую до фанатизма любовь всероссийской самодержицы Елиза-
веты к своему народу, что, по его словам, с лихвой компенсировало
недостатки ее характера: леность, фаворитизм, расточительность,
а также вспыльчивость и самовлюбленность. Все это, в сочетании
с взвешенностью принятия самодержицей решений, считал иссле-
дователь елизаветинской эпохи, работавший в начале XX-го века,
позволяло России поступательно развиваться. Историк польского
происхождения писал, что российская Елизавета I делами своими
заслужила бы титул Великая, если бы не появилась женщина более
великая, чем она. Впрочем, думается, о справедливости последней
части этого утверждения можно и должно дискутировать.
Надо признать, оценки елизаветинской эпохи К. Валишевским
были весьма противоречивы, восхваление сочеталось с презрением,
воспевание – с порицанием. Однако, сам писатель считал, что лишь
через подобные противоречия можно найти истину. Еще одной
особенностью его книги было убеждение Валишевского в том, что
главным фактором развития общества являлся цивилизационный
уровень, а недостатки общества и отдельных лиц вызваны, прежде
всего, уровнем развития общества, в плену у которого находятся все
5
2
Валишевский К .Ф. Дочь Петра Великого. С. 553.
–
49 —

его (общества) представители. Впрочем, по его мнению, отдельные
личности могли видеть дальше остальных, к последним, относилась
и русская Елизавета. Таким образом, К. Валишевский являлся сто-
ронником цивилизационного подхода к изучению истории. Глав-
ным фактором развития общества, он считал уровень развития ци-
вилизации, которую некоторые деятели могли либо двигать вперед,
либо просто подчиняться цивилизационному развитию. По мнению
историка, Всероссийская самодержица Елизавета – энергичный
правитель, до «фанатизма» любившая свой народ, двигала прогресс
вперед; особенно, в части смягчения нравов, развития экономики,
и внедрения новых для Российского государства культурных вея-
ний. Фанатичная любовь дочери Петра I и ее соратников к народу
и ее «бешеная» энергия, по убеждению историка, в какой-то степе-
ни компенсировали недостатки самодержавицы Елизаветы и ее со-
ратников. Исследование Валишевского «Дочь Петра Великого», по
мнению автора данной работы, замечательно тем, что это одно из
немногих произведений начала XX столетия, которое было посвя-
щено целиком Всероссийской самодержице Елизавете и ее эпохе, а
не являлось трудом-обзором всех особ, царствовавших в Российской
Империи в первой половине XVIII века.
Подводя итоги всего изложенного в данной главе, можно с опре-
деленностью отметить: для начала XX века являлось характерным
существование различных концепций изучения исторического
периода царствования Елизаветы Романовой. Один подход пред-
ставляла позитивистская школа, сторонником концепции которой
в начале века был ученик С.М. Соловьева, государственник В.О. Клю-
чевский. Историк не внес почти ничего нового, кроме психологиче-
ских характеристик русской Елизаветы, написав, что она была сотка-
на из противоречий. Также к позитивистской школе принадлежал
труд отечественного историка С.Ф. Платонова, посвященный эпохе
царствования российской Елизаветы I, в труде впервые отмечалось
усиление крепостного права в 40–50-е гг. XVIII века. В начале ХХ века
объектом исследования историка-монархиста были не только лич-
ность правителя или деятельность государства, или жизнь людей,
но и развитие экономики, и положение сословий. Кроме того, в дан-
ной главе представлен цивилизационный подход к исследованию
рассматриваемой эпохи, которого придерживался К. Валишевский.
–
50 —
Глава 3
ИСТОРИКИ
КОНЦА ХХ СТОЛЕТИЯ
О РУССКОЙ ЕЛИЗАВЕТЕ
И ЕЕ ПРАВЛЕНИИ


Т
ретий период историографических исследо-
ваний, представленный в настоящей работе,
можно условно очертить границами, начиная
с 80–90-х годов ХХ века. В советское время до 80-х годов отсутствова-
ли труды, посвященные Всероссийской самодержице Елизавете и ее
эпохе, а единственным объектом исследования была либо классовая
борьба и развитие экономики, либо внешняя политика в 40–50-е гг.
ХVIII века. Начиная с 20-х годов ХХ века, долгое время (до 40-х годов)
елизаветинская эпоха упоминалась историками, исключая С.Ф. Пла-
тонова, в негативных тонах: как эпоха угнетения народа, классовой
борьбы и т.п. Например, М.Н. Покровский представлял российскую
историю, в том числе период правления самодержавицы Елизаветы
Первой, как борьбу угнетенного народа против эксплуататоров и,
естественно, писал о всех царствующих особах в негативном ключе.
Историк, основатель и главный редактор журнала «Историк-марк-
сист» уделял внимание в основном экономике и социальному про-
тесту. В 40-е годы ХХ века вышло несколько трудов, посвященных
участию России в Семилетней войне, например, коллективная моно-
графия «История русской армии с древнейших времен до середины
XVIII века»; в этих трудах Елизавета Романова заслужила похвалу
как борец с прусским милитаризмом. Иными словами, всплеск инте-
реса к самодержице Елизавете, произошедший в 40-е годы XX века,
был связан с историей Семилетней войны и русско-германских
отношений в 40–50-е гг. XVIII столетия, историей русской армии
и шуваловской военной реформы. Результаты этого периода под-
робно исследовал М.И. Семевский автор книг «Россия входит в Ев-
ропу русско-австрийский союз» и «Россия в Семилетнюю войну»,
переизданных во второй половине XX века. После окончания Вели-
кой Отечественной войны объектом исследования исторического
периода царствования Елизаветы снова стала экономика и классо-
вая борьба. Единственным деятелем елизаветинской эпохи, которо-
му авторы уделяли внимание в 50–70-е годы XX века, был М.В. Ло-
моносов, жизни и деятельности которого было посвящено большое
количество работ. В этих трудах несколько строк было написано
о российской Елизавете I и ее соратниках в связи с экономическими
преобразованиями той эпохи, а именно, отмене внутренних тамо-
жен. Однако, реформа, инициируемая П.И. Шуваловым, представля-
лась как реформа в интересах дворянского класса.
–
52 —
Таким образом, в советское время приоритетом исследовате-
лей была социальная история; в 40-е годы ХХ столетия она частич-
но вытеснилась интересом к внешней политике, особенно в ис-
следованиях, написанных об армии и русско-прусских отношениях
в эпоху Семилетней войны. В 50–70-е годы ХХ века елизаветинская
эпоха упоминалась в основном в трудах, посвященных биографии
М.В. Ломоносова. В большинстве работ о Ломоносове, сообщалось
об окружении российской Елизаветы I; как правило, это были баре,
мешавшие великому помору реализовывать его идеи, например,
Шуваловы. Личность самодержицы Елизаветы, как объект иссле-
дования в трудах отечественных историков того времени была под
запретом. «Советская же историография попросту игнорировала
Елизавету. Из многочисленных книг о Ломоносове следовало лишь,
что императрица в основном путалась в ногах у великого ученого-
гуманиста России.»53 – отмечает Е.В. Анисимов. Иными словами,
царствующая личность Елизавета в советской историографии поч-
ти отсутствовала. Труды, посвященные дочери Петра Первого и ее
царствованию, появились только в 80–90-е годы ХХ века.
В данной главе предлагается анализ трудов, написанных в конце
XX века, посвященных самодержавице Елизавете І и ее царствованию:
Н.И. Павленко «Елизавета Петровна» и Е.В. Анисимова «Елизавета
Петровна» и «Императорская Россия». Отличительной чертой ис-
следований этого периода стало стремление написать объективную
картину елизаветинской эпохи, поскольку советские стереотипы на-
чинали меняться. Например, Е.В. Анисимов сравнивает Елизавету
с «не привитым дичком», который под воздействием обстоятельств
«растет», «как ему вздумается». Елизавета Петровна была значитель-
но грамотнее не только своих предшественниц на троне, но даже сво-
его великого отца, «самовлюбленность», «страх ночного переворота»,
была скорее доброй, чем злой – характеристики данные самодержи-
це Е.В. Анисимовым. Н.И. Павленко писал о русской Елизавете более
сдержанно, он, в отличие от Анисимова, утверждал, что императрица
не участвовала в делах управления, а лишь развлекалась. Автор со-
ветских учебников по отечественной истории считал, что ее интере-
совали только власть и развлечения. Объединяют мнения этих исто-
риков взгляды на роль личности в истории: оба считают, что личность
в истории играет значительную роль.
5
3
Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М.: Молодая Гвардия. 1991. С. 4.
–
53 —

Николай Иванович Павленко (1916–2016 гг.) отечественный
историк, так или иначе обращавшийся к образу всероссийской само-
держицы Елизаветы в конце ХХ века, создавая свой труд, опирался
на источники и исследования, которые использовали предыдущие
авторы, писавшие об этом историческом периоде. В книге «Елизаве-
та Петровна» Павленко сообщал: «О Елизавете Петровне сложилось
впечатление, навеянное известным четверостишием А.К. Толстого,
в котором основную нагрузку несут первые две строки: «Веселая
царица была Елизавет». Не оспаривая ее ветрености, постоянной
заботы о своей внешности, страсти к нарядам и удовольствиям,
предоставляемым троном, попытаемся несколько усложнить этот
стереотип, объяснив побудительные мотивы ее поступков и допол-
нив ее портрет штрихами, на которые историки, а иногда и совре-
менники обращали мало внимания»54. Автор советских учебников
по истории России считал, что два обстоятельства больше других
влияли на поведение русской Елизаветы: необыкновенная красота
и страх. Хотя он стремился внести в «портрет» Елизаветы Петров-
ны какие-то новые штрихи, но в целом продолжал ту линию, по ко-
торой ее царствование представлялось лишь очередным незначи-
тельным этапом в перечне правителей от Петра Ι до Екатерины ΙΙ.
Советский историк вторил бывшей принцессе А́нгальт-Це́рбстской
(Екатерине II): критиковал российскую императрицу Елизавету за
нежелание учиться, за постоянную праздность, из-за которой у нее
не оставалось времени на серьезные дела; утверждал, что она была
завистливой и слишком много времени проводила в развлечениях.
По его мнению, министры гонялись за правительницей империи
Елизаветой, чтобы подписать бумаги. В доказательство праздности
самодержицы Елизаветы Павленко приводил выдержки из Камер-
фурьерских журналов за ноябрь 1744 года:
«
1 ноября – смотрели французскую комедию
4
7
1
1
1
1
ноября – куртаг
ноября – французская комедия
1 ноября – куртаг
3 ноября – маскарад
5 ноября – маскарад
9 ноября – итальянская комедия
54
Павленко Н.И. Елизавета Петровна. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель,
2
008. С. 7.
–
54 —

2
2
2
2
2
2
3
1 ноября – банкет офицеров Семеновского полка
2 ноября – маскарад
4 ноября – День тезоименитства императрицы
5 ноября – День восшествия на престол
7 ноября – французская комедия
8 ноября – маскарад
0 ноября – французская комедия и день Андрея Первозванного»55.
Н.И. Павленко считал, что она была не способна заниматься государ-
ственными делами, не обладала работоспособностью и даже не име-
ла четкого распорядка дня по приему министров, в отличие от им-
ператрицы Анны Иоанновны. Однако, в конкретном случае, хочется
возразить известному советскому историку, возможно, пункты: ра-
бота с документами и прием министров сознательно не включены
в расписание Камер-фурьерских журналов, поскольку императрица
Елизавета в 1742 году издала указ о порядке работы самодержицы
и государственных учреждений. Да, у Анны Иоанновны такие пун-
кты в журналах существовали, но где наполненная казна, где двор-
цы, которые она строила? Известен исторический факт, не подлежа-
щий сомнению: императрица Анна Иоанновна строила дворцы изо
льда. А дворцы, построенные Всероссийской самодержицей Елиза-
ветой, существуют и украшают С-Петербург и его окрестности до
сих пор.
Вернемся к историографии: академик Павленко обвинял Ели-
завету Петровну в чрезмерной расточительности, считал, что слиш-
ком много финансовых средств тратится на наряды самодержицы,
устройство балов и блеск двора. Чтобы подкрепить эту мысль, он
использовал произведения М.М. Щербатова и некоторые высказы-
вания из мемуаров И.И. Шувалова о финансовых затруднениях. Ино-
гда Н.И. Павленко не указывал источники, на которые он опирался
в своих выводах, поэтому думается, его умозаключения, по меньшей
мере, субъективны. По убеждению автора книги «Елизавета Петров-
на», лучшим знатоком характера, нравов российской самодержи-
цы Елизаветы I была Екатерин ΙΙ. Он совершенно не учитывал, что
бывшая принцесса Ангальт-Цербстская утверждалась, критикуя всех
царствующих особ правителей и правительниц, предшествовавших
ей на русском престоле, конечно, кроме Петра Первого. Как и многие
советские историки, Павленко считал царя Петра Ι великим правите-
5
5
Павленко Н.И. Елизавета Петровна. С. 146.
–
55 —

лем Российской Империи. Но, думается, с этим утверждением можно
согласиться лишь частично, [или это повод для дискуссии – Д.С.Л.].
Как и большинство отечественных историков, исследовавших
период 40–50-х гг. ХVІІІ века российской истории, Н.И. Павленко
упрекал самодержицу Елизавету в том, что в реальности она не вер-
нулась к реформам своего отца. В то же время, он отмечал ее гуман-
ность, стремление завоевать любовь подданных, религиозность
Елизаветы Романовой, ее милосердие. «Оно исходило из не только от
такой черты ее характера, как доброта, но и ее набожности, следова-
ния христианской заповеди о любви к ближнему. Из законодатель-
ства времени Елизаветы можно сделать вывод не о декларативной
заботе о подданных…, а о реальном облегчении условий жизни насе-
ления, причем не только высших слоев, но и трудового народа.»56
–
писал советский историк. Одновременно, он приводил цифры об
увеличении в елизаветинскую эпоху количества мануфактур, росте
промышленного производства и внешней торговли. Павленко сооб-
щал, что в 1760 году число предприятий черной металлургии до-
стигло 99, в то время как в 1740 году их было 59; еще больший успех
«
наблюдался» в текстильной промышленности: в 1763 г. «насчиты-
валось» 205 мануфактур, а в 1745 году их количество было 71. Также
он отмечал, что оборот внешней торговли с 1749 г. по 1760 г. вырос
с 12,6 до 16,9 миллионов рублей. Иными словами, историк призна-
вал, что во времена правления дочери Петра І Российская Империя
не находилась в состоянии кризиса или застоя.
Известный отечественный ученый, академик утверждал, что
многие значимые события в эпоху Всероссийской самодержицы
Елизаветы происходили либо совсем без ее участия, либо участие ее
было минимальным. Павленко писал: «…Освобождение страны от
засилья немцев, смягчение наказаний нарушителям законов, отмена
внутренних таможенных пошлин, учреждение банковской системы,
открытие Московского университета и Академии художеств, покро-
вительство искусству и науке, работа Уложенной комиссии – вот
перечень самых главных событий царствования, каждое из которых
оставило заметный след в истории страны. Правда, к большинству
из них Елизавета Петровна либо не имела никакого отношения, либо
самое удаленное»57. Очевидно, что Н.И. Павленко придерживался до-
5
5
6
7
Павленко Н.И. Елизавета Петровна. С. 316.
Там же. С. 428.
–
56 —

статочно традиционного для историков советского периода отно-
шения к личности самодержицы Елизаветы и эпохе ее правления.
Однако, он подчас противоречил себе, вначале сообщал, что Елиза-
вета пользовалась любовью современников, ссылаясь на высказы-
вания артиллерийского майора Михаила Васильевича Данилова:
«
По кончине ее открылась любовь к сей монархине и сожаление;
каждый дом проливал по лишении ее слезы, и те плакали неутешно,
кои ее не видали никогда, только была любима в народе своем»58.
Павленко также отмечал, что не смотря на склонность к увеселе-
ниям и балам и отсутствием качеств государственного деятеля,
самодержица Елизавета пользовалась любовью народа при жизни,
а после кончины все подданные оплакивали ее искренне и называ-
ли великой и мудрой. Затем писал, что у современников не нашлось
ни одного доброго слова в память о ней. Автор советских учебников
по истории России Павленко утверждал, что российская Елизавета
I родилась не для управления империей, а для «наслаждения уте-
хами», безгранично предоставляемыми ей занимаемым троном. По
его мнению, она была умная, но изнеженная красотой и внимани-
ем к своей красоте женщина, в то же время «капризная, ленивая»
и «беспечная сударыня», занимавшаяся своей внешностью, а не де-
лами управления страной; ее беспокойная жизнь протекала «мимо
решения» «главных задач – жизни государства».
Подводя итоги, следует отметить, что хотя Н.И. Павленко по-
рой и стремился быть объективным в оценках личности и деятель-
ности Елизаветы Петровны, однако, постепенно в его труде стали
преобладать негативные оценки самодержицы и ее царствования.
Историк отстаивал ту точку зрения, о елизаветинской эпохе и самой
Елизавете Романовой, которая, как и противоположная, сложилась
еще в ХVΙІІ веке. Он считал эпоху царствования Елизаветы лишь зве-
ном в цепи правления и эпохой власти фаворитов, а саму импера-
трицу – не способной к серьезным делам.
В 90-е годы ХХ века в нашей стране произошли перемены по-
литического характера, поэтому у некоторых отечественных исто-
риков, использовавших ранее советский подход к изучению исто-
рии, появилась возможность максимально объективно исследовать
особенности личности российской Елизаветы І и достижений ее
царствования. К ним относятся исследования автора нескольких
5
8
Цитата по Павленко Н.И. Елизавета Петровна. С. 419.
–
57 —

трудов о самодержице Елизавете, нашего современника Евгения
Викторовича Анисимова. В своих трудах о елизаветинской эпохе он
опирался на источниковедческую и фактологическую базу, создан-
ную классиком отечественной истории С.М. Соловьевым и другие
источники. Как и некоторые отечественные историки, исследовав-
шие эпоху правления самодержицы Елизаветы, он отмечает, что она
оказалась неподготовленной к «тяжелой работе» «у руля управле-
ния» такой большой страны, как Россия. По утверждению автора
книг «Елизавета Петровна» и «Императорская Россия», с самого дет-
ства царевну готовили в королевы Франции или какой-либо другой
страны, ее учили языкам, танцам, умению вести светские разгово-
ры, одеваться. Анисимов считает, что именно веселым времяпро-
вождением и занималась все свое царствование русская Елизавета.
«
Она ничего не стремилась доказать или показать: ей было так ве-
селее, удобнее, вкуснее»59. Он пишет, что современники отмечали
исключительную, необычайную страсть самодержицы Елизаветы
к нарядам и развлечениям, которую она «успешно внедряла» в выс-
шее столичное общество; что многие признавали необыкновенную
элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Ну и, конечно, не
забыл он отметить «те самые 15 тысяч платьев», оставшихся после
ее кончины. «Затмевать всех своей красотой – во многом к этому
и сводилась цель жизни императрицы–модницы. И это ей с успехом
удавалось»60, – утверждает доктор исторических наук. В отличие
от Анисимова, у автора данных строк есть основания считать пре-
красную российскую Елизавету I не просто модницей на троне, а го-
сударственным деятелем и великой личностью, не потому что цар-
ствующая, а потому что дела ее великие.
Историк, лауреат Анциферовской премии за лучшую историче-
скую книгу акцентирует, что вспыльчивая, сумбурная, она вымещала
свое раздражение на окружающих, часто не спала по ночам, и, что ни-
кто точно не знал, когда она обедает или спит. «Более того, никто на-
верняка не мог сказать, в каком покое в данный момент государыня.
Ни в одном дворце она никогда не имела постоянной спальни. Даже
в любимом ею Царскосельском дворце не было особого помещения,
где стояла бы кровать императрицы».61 Такая заполошная жизнь, по
5
6
6
9
0
1
Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия, 1999. С. 130.
Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2008. С. 210.
Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 174.
–
58 —

мнению автора книги «Елизавета Петровна», была следствием «не-
обузданности» всероссийской самодержицы, неумения управлять со-
бой и «страха ночного переворота». Дочь Петра I, подчеркивает Ани-
симов, хорошо помнила ночь, когда она вместе с гвардейцами пришла
арестовать регентшу Анну Леопольдовну, и «боялась такой судьбы».
Надо признать, считает Анисимов, что Елизавета Романова «не была
проста и наивна», и не позволяла господствовать над собой, и, несмо-
тря на свою взбалмошность, не была ни «скороспешна», ни суетлива
при решении государственных дел. «И еще. Во всем, что делала Елиза-
вета – государыня, императрица, был некий, порой скрытый от по-
стороннего взгляда главный, основополагающий принцип. Несмотря
на почти полную отстраненность от государственных дел, Елизавета
оставалась самодержицей – абсолютной монархиней и ни зачем так
ревниво она не следила, как за тем, что бы никто не посмел посягнуть
на эту власть и царствовать над ней»62 – уверяет Е.В. Анисимов.
Исследуя елизаветинскую эпоху и царствование Елизаветы Ро-
мановой, историк, естественно, отмечает людей, которые окружа-
ли ее: это и Разумовские, и Шуваловы, и другие выдающиеся, и не
очень, личности. Анисимов признает, что А.Г. Разумовский имел
большое влияние на императрицу, но был скромен и не стремился
к власти. В придворном мире интриг и коварства «он выделялся
тем», что, обладая огромными возможностями фаворита самодер-
жицы, «ни в чем не посягнул» на ее власть, не позволил хотя бы «за-
подозрить» его в интригах за спиной государыни. Благодаря своему
положению, Разумовский немало сделал для своей малой родины
Малороссии, – считает автор книги «Елизавета Петровна». Подроб-
но описывает Е.В. Анисимов влияние на эпоху самодержицы Елиза-
веты братьев Шуваловых. «В отличие от Алексея Разумовского Шу-
валов все время работал и ценил людей, умевших работать, что-то
изобретать»63. Петра Шувалова историк называет типичным «при-
быльщиком-искателем» доходов для казны; по инициативе Кон-
ференц-министра по военным делам начали «портить» монету, (из
пуда серебра стали получать не 8, а 16 рублей). Доходы казны росли,
также росли доходы П.И. Шувалова, генерала фельдцейхмейстера на-
чальника артиллерии, «управителя многих ведомств», потому что он
6
6
2
3
Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 182.
Там же. С. 279.
–
59 —

был не только прибыльщиком-искателем для казны, но не забывал
о личной выгоде. Историк утверждает, что именно «управитель мно-
гих ведомств» выступил автором многих экономических реформ,
таких как таможенная реформа 1752–1753 гг., развитие банковского
дела. Согласившись с доводами Петра Шувалова, самодержица все-
российская Елизавета подписывала указы об экономических преоб-
разованиях; это способствовало укреплению экономики и развитию
торговли в стране, а главное, пополняло государственную казну.
«Впрочем, отметим сразу: многие предложения Шувалова о повы-
шении доходов казны легко осуществлялись…, но по преимуществу
за счет кармана налогоплательщиков. Шувалов предложил и сам же
осуществил грандиозные проекты чеканки облегченной серебря-
ной и медной монеты, введение новых монополий на соль, различ-
ные промыслы, причем думал не только о государственной казне, но
и о собственном кармане. За это его не любили в народе»64 – пишет
приверженец популяризации отечественной истории. Одновремен-
но, историк отмечает неоспоримые заслуги генерала фельдцейхмей-
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе