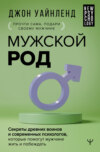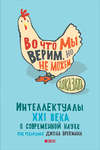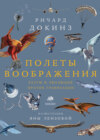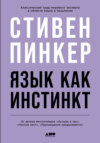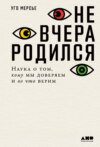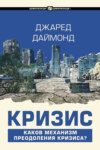Читать книгу: «И все-таки она плоская! Удивительная наука о том, как меняются убеждения, верования и мнения», страница 4
Когда я попросил Брукмана и Каллу привести пример уже существующих исследований, они посоветовали получше изучить то, что психологи называют процессом переработки информации, – состояние активного познания, в котором человек раскрывает для себя смысл новой идеи, соотнося ее с тем, что ему уже известно. Например, вы могли бы описать фильм «Чужой» как «Челюсти в космосе» (если уже видели «Челюсти»), но если вы сначала посмотрели «Чужого», то, скорее всего, опишете «Челюсти» как «Чужой в океане». Большую часть времени, живя «на автопилоте» или выполняя рутинные задачи, мы видим мир таким, каким ожидаем его увидеть, и в большинстве случаев это нормально, но мозг часто ошибается, потому что предпочитает жертвовать точностью в угоду скорости. Когда мы отказываемся идти на поводу у своего первого впечатления и пытаемся анализировать процесс своего мышления, мы можем прийти к чему-то новому, начав более глубоко понимать то, что, как нам казалось, мы уже хорошо знаем. Если коротко, то глубокая агитация, вероятно, провоцирует такой процесс переработки, предлагая людям возможность остановиться и подумать.
Дэйв Флейшер сказал, что людям нечасто выпадает возможность поразмышлять подобным образом. Ежедневные заботы отнимают у нас мыслительные ресурсы: надо выдать денег детям на обед, оценить свои действия на работе, договориться, кто отвезет машину в ремонт. Не имея возможности заняться самоанализом, мы становимся слишком самонадеянными в понимании вопросов, которые нам больше всего интересны. Эта самонадеянность превращается в уверенность, которая часто заставляет нас впадать в крайности.
Один из самых поразительных примеров тому – эксперименты с явлением, которое психологи называют иллюзией глубины объяснения. Когда ученые просили испытуемых оценить, насколько хорошо им знакомы такие вещи, как застежка-молния, туалет и кодовый замок, большинство людей отвечали, что они довольно хорошо разбираются в принципах их действия. Но когда экспериментаторы просили тех же испытуемых подробно объяснить, как все это работает, те, как правило, не могли ответить. То же самое было и с вопросами, касающимися политики. Когда их попросили высказать мнение о реформе здравоохранения, фиксированном налоге, углеродных выбросах и прочем, многие испытуемые придерживались крайних взглядов. Если экспериментаторы просили их обосновать свое мнение, они делали это с легкостью, но если им задавали вопрос, каким образом все это действует, они терялись и понимали, что знают гораздо меньше, чем думали. В результате они переставали следовать прежним крайностям в своих взглядах42.
Брукман и Калла подозревали, что глубокая агитация также способствует появлению подобного рода сомнений, что является ключевым моментом в когнитивном развитии человека43. Эта идея принадлежит психологу Жану Пиаже, который впервые заметил, что маленькие дети не способны сомневаться. Другие люди воспринимают вещи, думают и верят иначе, чем мы, но пока эта способность не развита, мы живем в мире только одного разума – нашего собственного. В одном из экспериментов исследователи показали детям коробку из-под мелков и спросили, что, по их мнению, находится внутри. Они, конечно, ответили, что там мелки. Затем ученые показали им, что в действительности внутри свечи, и спросили, что сказал бы другой ребенок, который еще не видел, что на самом деле находится в коробке. Дети младше четырех лет ответили, что другой тоже назовет свечи.
Когда мы знакомимся с моделью сознания другого человека, мы также получаем возможность представить, каково это – быть другим человеком, видеть и чувствовать вещи как он, иметь другое мнение вследствие иного опыта. Подобное принятие другой точки зрения – когнитивная способность высокого уровня, требующая больших усилий. Мы не часто пытаемся это делать, если нет к тому побуждения.
Когда я спросил об этом ныне ушедшего из жизни психолога Ли Росса, он рассказал о своем наблюдении во время работы над урегулированием конфликтов в Северной Ирландии и на переговорах между Израилем и Палестиной, где ставки были очень высоки: люди редко принимали во внимание точку зрения другой стороны, если их специально не просили это сделать. По его опыту, каждая сторона была заинтересована только в том, чтобы озвучить свою точку зрения. По его словам, ни разу за сорок лет ведения переговоров в конфликтной ситуации никто не приходил с желанием узнать, как другие видят проблему44.
Отказаться на время от своей точки зрения и примерить чужую – сложно, и мы обычно этого не делаем. Исследования принятия чужой точки зрения показывают, что люди, которые, например, выступают против льгот для малоимущих, часто считают, что у человека с низкими доходами нет силы воли или недостаточно самодисциплины, и при этом не берут в расчет широко распространенные предрассудки в отношении некоторых социальных слоев или факты дискриминации по тому или иному признаку. Но когда экспериментаторы попросили тех же самых людей посмотреть на фотографию чернокожего мужчины и написать эссе об одном дне его жизни, включив как можно больше ярких деталей и передав его мысли и чувства, испытуемые сообщили, что их отношение к льготам для обездоленных сильно изменилось. Сопереживая, пусть даже гипотетически, люди смягчали свою позицию. То, что они могли бы сделать в любой момент, им даже не пришло в голову, пока их об этом не попросили45.
Брукман и Калла говорят, что люди редко задумываются о чужой точке зрения, и именно это делает ее таким мощным инструментом убеждения в руках глубокого агитатора.
«Побудить кого-то принять чужую точку зрения – не значит надавить на него и тем самым изменить его мнение», – сказал Калла. Все уже знают, что предрассудки – это плохо. Глубокие агитаторы пробуждают заряженные эмоциями воспоминания, чтобы люди вспомнили, каково это, когда тебя отвергают, осуждают или заставляют чувствовать себя неполноценным. Это порождает у них сомнения в том, правильно ли они сами относятся к непохожим на себя. «Теперь, когда я говорю, что дискриминация – неправильно, я воспринимаю это как-то иначе, – сказал Брукман. – Теперь я могу понять: „О да! Когда тебя дискриминируют и обращаются не так, как с другими, это действительно ужасно. Я понимаю, каково быть таким человеком“. Теперь трудно оправдать то, что такого же человека, как ты, заставляют так себя чувствовать».
Я уехал из LAB и почувствовал, что прыгнул выше головы, когда погрузился в науку убеждения. Их гипотезы о том, почему глубокая агитация работает, звучали правдоподобно, но я так и не понял, что связывает все эти идеи воедино. Мне нужно было решить вопрос, который стал для меня еще более непостижимым за время, проведенное в LAB. Если факты не только не действуют на некоторых людей, но даже могут уменьшить вероятность того, что они изменят свое мнение, тогда понятно, почему труферы не изменили точку зрения, когда им представили свидетельства, – но почему эти же факты все же убедили Чарли Вейча? Мне казалось, что я упускаю что-то важное, и если я хочу разобраться во всем этом, мне нужно изучить науку, которую не изучали глубокие агитаторы и в которую собирались окунуться Брукман и Калла. Мы займемся этим в следующей главе и начнем с нейробиологов, которые изучают разногласие как таковое.
Флейшер попросил меня связаться с ним, когда я что-то узнаю. Ему тоже было интересно, благодаря чему все это работает, хоть он и заметил, что секрет, в сущности, прост – надо всего лишь открыто и честно общаться с людьми, которым очень редко выпадает шанс с кем-то поговорить именно в таком духе.
«Забавно, но по сути в этом нет ничего необычного. Не мы придумали, что один человек может разговаривать с другим человеком, – сказал он мне со смехом. – В принципе в методе нет ничего нового, и в то же время он оригинален, потому что сильно противоречит господствующей политической культуре».
Он вспомнил разговор, который произошел много лет тому назад. Один мужчина просто бросался в бой, чтобы поспорить и опровергнуть все, что ему говорят. Но Флейшер повел разговор так, что конфликт сошел на нет. Они долго разговаривали. Вероятно, для собеседника это был первый такой спокойный разговор с представителем противоположных взглядов.
«Он понял, что мы с ним можем хорошо провести время за беседой, даже если у нас разные точки зрения. Мне не нужно было, чтобы он принял мою. Я не погрозил ему пальцем и не сказал: „Теперь ты должен изменить свое мнение“, однако в ходе разговора он действительно начал его менять. Думаю, именно так происходит изменение взглядов».
3. Носки и кроксы
Я сидел в ресторане «Черный дрозд» в Нью-Йорке и только собирался намазать масло на хлеб, как мой сосед слева, солидный мужчина с бородой и спокойным выражением лица, протянул мне фотографию, на которой была изображена яичница-глазунья с неоново-зеленым желтком.
«Сначала, – объяснил он, продолжая держать передо мной фотографию, – мы придумали зеленые яйца. Представляешь, зеленые яйца с ветчиной! То есть ветчина была обычная, а яйца зеленые. Но у нас ничего не получилось. Потому что люди знают, что яйца должны быть желтыми».
Нейробиолог справа от меня только и сделал, что развел руками. Вокруг нас нарастали типичные для обеденного времени ресторанные звуки – гул голосов, звяканье столовых приборов, – и ему пришлось почти прокричать, чтобы быть услышанным: «И что же делать? Какой предмет хорошо знаком людям, но при этом не характеризуется каким-то определенным цветом?»
Я напрягся, пытаясь что-то придумать. Первое, что пришло в голову: «Грузовик?» Затем: «Полотенца, молотки, велосипеды, а еще, может, коробки с салфетками?» Но, проведя выходные с Паскалем Уоллишем, гениальным фанатиком, который решил создать, так сказать, «когнитивный эквивалент ядерной бомбы», я понял, что это был, по всей видимости, очередной риторический вопрос, предваряющий еще одну лекцию, которая опять пройдет слишком быстро, чтобы я мог сделать хоть какие-то заметки. Поэтому я ничего не сказал, а вместо этого просто откусил кусок хлеба и задумчиво его прожевал.
«Кроксы!» – закричал Паскаль, напугав официанта, который ставил перед ним салат, впоследствии оставшийся несъеденным. По его словам, когда представляешь себе кроксы, эту обувь из пеноматериала, популярную среди медсестер, садовников и пенсионеров, на ум не приходит какой-либо конкретный цвет.
«Сам попробуй, – сказал он. – Что ты видишь, когда закрываешь глаза? Они белые, серые, оранжевые, камуфляжные? Каждый видит что-то свое». Я ответил, что мои вообще без цвета, или, возможно, всех цветов сразу. Было сложно точно сказать.
«Интересно», – восторженно сказал он и повернулся, чтобы оценить реакцию своего коллеги, что сидел слева от меня, когнитивиста Майкла Карловича. Карлович отложил фотографию с зелеными яйцами, которую все это время держал в руках, поднял глаза и улыбнулся. Он объяснил, что вполне нормально, если ничего не приходит в голову. Вот почему они были так взволнованы, когда впервые подумали о кроксах. По их словам, если добавить к ним носки и найти нужное освещение, эти два предмета становятся единым «перцептивно неоднозначным цветовым объектом», который они месяцами надеялись найти, когда пытались добраться до сути нейробиологической загадки, чуть не взорвавшей Интернет несколько лет назад. Вы, возможно, даже знакомы с ней – это то самое «Платье».
* * *
Я приехал в Нью-Йорк специально, чтобы встретиться с Паскалем и Карловичем. Если я хотел понять, почему факты, изменившие мнение Чарли Вейча, не изменили мнение других труферов, мне нужно было сначала выяснить, как с точки зрения науки происходит изменение мнения. Казалось, этот вопрос неразрывно связан с другим: что на самом деле меняется, когда мы говорим, что мнение изменилось? Оба этих вопроса были частью еще большего вопроса: как вообще формируется то, что мы называем мнением? То есть как наше понимание мира запечатлевается в мозгу? Поэтому я решил отойти на шаг назад – а точнее, на несколько тысяч шагов назад – чтобы узнать, что при всем этом происходит с нейронами.
Перед поездкой в Нью-Йорк я задал эти вопросы в разных формулировках нескольким ученым. В ответ они меня предостерегли – мол, слишком рискованно ступать на такую опасную территорию, ведь этот вопрос пока еще не изучен как следует ни социальными науками, ни науками о мозге. Вопрос о том, как мы формируем мнение, а затем меняем или не меняем его, упирается в другую обширную проблему: «Какова природа самого сознания?» Возможно, на этот вопрос вообще нет ответа, по крайней мере пока. Он выходит за рамки нашего нынешнего научного понимания, и в нашем языке даже нет слов, чтобы сформулировать внятное объяснение. Как бы то ни было, но я присоединился к текущему исследованию, в котором недавно наметились успехи.
Сначала я поговорил с Дэвидом Иглманом, изучающим пластичность мозга и сознание, а затем решил найти нейробиолога, который ответил бы на вопрос, почему в современном мире большое количество людей коренным образом расходятся во мнении в отношении несомненных фактов. Паскаль с помощью Карловича волею случая стал экспертом в этой самой теме, посвятив годы изучению явления, лежащего в основе загадки «Платья» – фотографии, которая стала вирусной в 2015 году после того, как миллионы людей в Интернете разделились на два противоборствующих лагеря, споря о том, где же тут реальность, потому что они буквально не могли сойтись во взглядах.
* * *
Если вы не помните «Платье», то вот вам предыстория. Еще в 2015 году – до Брексита, до Трампа, до македонских интернет-троллей, до теорий заговора QAnon и COVID-19, до фейковых новостей и альтернативных фактов, одна из станций NPR (Национальное Общественное Радио) назвала разногласия по поводу «Платья» «спорами, которые взорвали интернет»46, а The Washington Post говорила об этом явлении как о «драме, разделившей планету»47.
«Платье» – мем, вирусная фотография, которая несколько месяцев ходила по социальным сетям. Некоторая часть людей видит на этом фото черно-синее платье, тогда как другие уверены, что оно бело-золотое. Причем, когда вы увидели один из этих вариантов, увидеть другой вам уже не удастся. Если бы не общение в социальных сетях, вы, возможно, никогда бы не узнали, что некоторые люди видят его по-другому. Но когда разные мнения разлетелись по интернету, стало ясно, что для миллионов это платье – другое. И тут началась бурная массовая реакция. Каждый считал, что тот, кто видит другое платье, совершенно точно ошибается или вообще ненормальный. Когда «Платье» начало циркулировать по интернету, осязаемое чувство страха перед тем, что реальность ускользает и теряет определенность, стало таким же вирусным, как и само изображение.
Этот конкретный эпистемологический кризис вошел в нашу жизнь, когда Сесилия Блисдейл, готовясь к свадьбе дочери Грейс, сфотографировала платье за 77 долларов в лондонском торговом центре48. Еще не зная, что сделала легендарную фотографию, она отправила ее дочери, спросив, что та думает об этом платье. Увидев фотографию, Грейс и ее будущий муж Кир настолько разошлись во мнениях, что попросили своих друзей разрешить их спор. Вопрос был очень странным: какого цвета платье? Сначала в обсуждение вовлеклись друзья, затем друзья друзей и так далее. Одни видели черное с синим, другие белое с золотым, никто не мог прийти к единому мнению, и все были в замешательстве.
А какой цвет видите вы?

Отсканируйте этот QR-код, чтобы увидеть «Платье» и другие примеры из этой главы.
Неделю спустя музыкант, знакомый с этой семьей, разместил изображение на Tumblr, чтобы проверить, сможет ли мир в целом сойтись во мнении. В итоге замешательством оказалось охвачено еще множество людей. Все более широкие массы спорили о том, что они видят. Через несколько дней «Платье» попало на Buzzfeed, а затем и в остальные социальные сети.
В обсуждение этой загадки то и дело втягивалось так много людей, что страницы социальных сетей просто не загружались. С хэштегом #TheDress выходило 11 000 постов в минуту, а полная статья о меме, опубликованная на сайте журнала Wired, за первые несколько дней набрала 32,8 миллиона уникальных просмотров49.
Актриса Минди Калинг выступила от лица команды черно-синего платья, опубликовав пост: «ПЛАТЬЕ СИНЕ-ЧЕРНОЕ! ДА ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ, ЧТО ЛИ?»50 Семья Кардашьян выступила за бело-золотую команду, политики присоединялись и к тому, и к другому лагерю, местные новости в городах разных стран мира заканчивали свои программы «Платьем», и какое-то время оно было главным событием поп-культуры. На фоне прочих привлекающих внимание тем эта была самой популярной.
Так многие люди познакомились с явлением, о котором нейробиологи уже давно знали и которое также является основной темой этой главы: та реальность, которую мы воспринимаем, вовсе не является объективным отражением окружающего нас мира. Мир, каким вы его видите и ощущаете, – это только лишь образ внутри вашего черепа, что-то вроде сна наяву. Каждый из нас живет в виртуальном мире бесконечной фантазии и самогенерируемых иллюзий. Это галлюцинация, которая на протяжении всей жизни формируется нашими чувствами и мыслями и постоянно развивается по мере того, как мы благодаря этим чувствам приобретаем новый опыт и связанные с ним новые мысли. Для одних «Платье» послужило толчком, чтобы сесть за клавиатуру и выплеснуть все, что они думают, а для других – чтобы спокойно поразмышлять, что происходит и как найти свое отношение к этому явлению.
* * *
Тема о том, как мозг создает реальность, всегда воспринималась как нечто психоделическое. Все началось еще в начале 1900-х годов, когда немецкий биолог высказал предположение, что внутренняя жизнь животных должна радикально отличаться от нашей.
Якоб Иоганн фон Икскюль восхищался медузами, ежами, пауками и жуками, и ему было интересно, какое индивидуальное восприятие рождает их нервная система. Он заметил, что органы чувств морских существ и насекомых воспринимают совсем не то, что наши. Значит, в их субъективном опыте должны отсутствовать гигантские части реальности. Но ведь то же самое, вероятно, касается и нас. То есть большинство клещей не сможет насладиться мюзиклом Эндрю Ллойда Уэббера, ведь, помимо прочих отличий, у них нет глаз. Они не увидят сцену даже с первого ряда. С другой стороны, мы, в отличие от клещей, не способны почувствовать запах масляной кислоты, который приносит ветер. И именно поэтому, по словам Икскюля, независимо от вашего места в зале, запах не является существенным или преднамеренным элементом бродвейского мюзикла «Кошки».
Икскюль понял, что субъективный опыт каждого живого существа ограничен личным сенсорным миром, который он назвал «умвельтом»51. Иные органы чувств создают иной умвельт, который отличается от восприятия другого животного в той же среде. Таким образом, каждое существо приспособлено воспринимать лишь небольшую часть общей картины. Но вряд ли какое-либо животное способно это осознать, и это уже следующая грандиозная мысль Икскюля. Поскольку ни один организм не может воспринимать объективную реальность в целом, каждое животное, вероятно, предполагает, что то, что оно воспринимает, и есть все, что возможно воспринять. Объективная реальность, какой бы она ни была, не может быть полностью воспринята каким-либо существом. Каждый умвельт – это частная вселенная, иной субъективный опыт, соответствующий своему месту. Это внутренний мир, ограниченный возможностями восприятия. Умвельты всех земных существ – как миражи в пустыне, которые проходят мимо друг друга, и каждый не знает, что он не единственная реальность, и ни один из них не знает, что он чего-то не знает52.
Идеи Икскюля не были абсолютно новыми. Философы задавались вопросом о различиях между субъективной и объективной реальностями начиная с пещеры Платона, и до сих пор им задаются. Философ Томас Нагель, произнеся свою знаменитую фразу «Каково быть летучей мышью?», предположил, что на этот вопрос не может быть ответа, потому что мы не способны поставить себя на место летучей мыши53. Сонар этих животных не похож ни на что, чем обладаем мы, «и нет оснований предполагать, что он субъективно похож на что-то, что мы можем испытать или себе вообразить».
Продолжая эту мысль, можно сделать вывод: если разные животные живут в разных реальностях, то, возможно, и разные люди живут в разных реальностях. Это центральный элемент в трудах многих мыслителей и психологов, от Тимоти Лири с его «тоннелями реальности» и «экологического подхода к зрительному восприятию» Дж. Дж. Гибсона до психолога Чарльза Тарта и его «консенсусных трансов», от «Матрицы» Вачовски до «ноумена» Канта, от «сознательных роботов» Дэниела Деннета до каждого эпизода сериала «Черное зеркало» и каждого романа Филипа Дика. Мы очень долго задавались этими вопросами. Я подозреваю, что вы тоже сталкивались с подобными проблемами, в какой-то момент спросив что-то вроде: «Как вы думаете, мы все видим одни и те же цвета?» Ответ, как показывает «Платье», – нет.
Так что мысль о том, что субъективная и объективная реальности – это не одно и то же; что происходящее внутри нашего разума – только образ внешнего мира, его модель, а не точная копия, уже давно не нова для людей, размышляющих о мышлении. Вклад Икскюля в том, что он взглянул на проблему с точки зрения биологии. При этом он положил начало новому направлению академических исследований в области нейробиологии и природы сознания, которые продолжаются до сих пор. Одно из этих исследований, о котором я хочу рассказать, может вызвать не самые приятные эмоции, но я очень прошу вас потерпеть, ведь благодаря этому мы с вами можем узнать кое-что важное.
В 1970 году физиологи Колин Блейкмор и Грэм Купер разместили новорожденных котят в среде без каких-либо горизонтальных линий. Для этого в своей лаборатории в Кембриджском университете исследователи выкрасили внутреннюю сторону больших стеклянных цилиндров в белый цвет, а затем добавили вертикальные черные полосы. Основания цилиндров, образовывали изгибы и закругления. Весь дизайн был создан таким образом, чтобы кошки не видели горизонтальных краев, а для верности на котят надели маленькие воротники, немного похожие на те, что ветеринары надевают на животных для предотвращения вылизывания места операции. Котята, родившиеся в полной темноте, в возрасте двух недель начали проводить по пять часов в день в мире вертикальных полос. Они сидели внутри цилиндров и вели себя так, как и все нормальные котята. А затем, пять месяцев спустя, Блейкмор и Купер вывели этих подросших кошек из цилиндра и оставили их на время в комнате со столом и стульями, чтобы посмотреть на их реакцию54.
Они сразу же отметили, что у кошек были проблемы с рефлексом, который физиологи называют реакцией визуального размещения. Когда кошку сажали на стол или другую плоскую поверхность, она ничего не могла понять. Кошка, выросшая в нормальных условиях, вытягивает лапы, приближаясь к плоской поверхности. Кошки Блейкмора и Купера не могли этого делать. Они натыкались на горизонтальные предметы, как будто те были прозрачными. Дойдя до края стола, они терялись, так как не понимали, что такое горизонтальный край. Когда кошкам показывали горизонтальный предмет, они его словно не видели. Когда перед ними держали палку вертикально и двигали ею вверх-вниз, кошки следили за движениями палки, синхронно двигая головами вслед за ней. Но стоило повернуть палку горизонтально, как животные моментально теряли интерес и расходились. Вертикальная палка захватывала внимание, а горизонтальная – нет, потому что в их общей внутренней реальности горизонтальной не существовало.
Блейкмор и Купер повторили все это с другой группой кошек, выросших в цилиндрах с горизонтальными кольцами, и обнаружили аналогичный эффект: в этой группе кошки не воспринимали вертикали. И если ученые играли с этими двумя группами одновременно, то кошки из первой группы бегали за горизонтальной палкой и ловили ее лапами, пока ту не поворачивали вертикально, и тогда кошки прекращали погоню, как будто она исчезала. Кошки из другой группы как раз в этот момент вступали в погоню, как если бы палка появилась из ниоткуда.
Однако эти особенности, как оказалось, не были постоянными. Примерно через десять часов игр в комнате с горизонтальными объектами мозг кошек начал включать их в свою реальность. Нейроны, никогда ранее не имевшие дело с этим аспектом внешнего мира, начали активизироваться и посылать соответствующие сигналы. Вскоре кошки могли с легкостью забираться на горизонтальные поверхности. Они начали, как и положено им, вытягиваться, когда их опускали на горизонтальную плоскость, а когда к ним приближали вертикальную плоскость – пятились. Их внутренний мир стал сложнее, включив в себя ранее неизведанный элемент внешнего мира.
Хирурги, работающие в некоммерческих организациях в Индии и оперирующие слепых от рождения людей, обнаружили у своих пациентов аналогичные эффекты. Пациент, которому только что сняли повязку, видит только расплывчатые формы и цвета, как это характерно для младенцев. Уже через несколько недель он способен различать объекты, но пока еще затрудняется определить, близко они или далеко. Требуются годы, чтобы научиться воспринимать трехмерный мир и хорошо ориентироваться в нем. Нейронам таких пациентов нужно время, как и нейронам младенцев, чтобы научиться понимать новую сенсорную информацию.
Так же и глухие от рождения люди сначала слышат только шум, когда им вживляют имплантаты, позволяющие обрести слух. В молодом возрасте мозг легче справляется с обработкой этого шума и преобразованием его в понятные звуковые сигналы. Но пожилым людям «бомбардировка» новыми сенсорными ощущениями может показаться неприятной. Они уже так привыкли к миру без звука, что иногда просят убрать имплантаты, чтобы вернуться в тихую, но контролируемую и знакомую реальность55.
Надо сказать, что любые сигналы от внешнего мира наш мозг изначально воспринимает именно как шум – то есть хаотичный набор раздражителей. И только по мере своего развития он начинает различать определенные закономерности в этом шуме, распознавать в нем разные модели, а затем поднимается на уровень выше – замечает закономерности в том, как эти модели взаимодействуют. Следующий уровень состоит в том, чтобы начать замечать целые наборы и последовательности разных моделей и то, как они взаимодействуют с другими наборами, и так далее. Такое распознавание моделей и закономерностей реальности от простого к сложному позволяет нам в общих чертах понимать, чего можно ждать от окружающего мира и каковы причинно-следственные связи между разными явлениями. Округлость мяча, твердый край стола, мягкая лапа плюшевого медвежонка – каждый предмет активирует вполне конкретные нервные пути, и каждый новый опыт укрепляет связи между нейронами до тех пор, пока мозг не поймет, чего ожидать от этих элементов мира и как начать лучше отличать их от других. Подобным же образом, когда мы замечаем, что какое-то действие регулярно приводит к одним и тем же последствиям, наш врожденный механизм распознавания закономерностей принимает это к сведению и формирует ожидания: мама придет, если я ночью буду плакать; картофельное пюре поднимет мне настроение; пчелы причиняют боль, когда жалят. Мы начинаем свою жизнь в непредсказуемом хаосе, но непрерывное восприятие закономерностей реальности формирует ожидания, которые мы используем, чтобы превратить этот хаос в предсказуемый порядок.
Но когда через органы чувств к нам поступает новая информация и мы сталкиваемся с чем-то необычным или неоднозначным, наш мозг не сразу может добавить это к своей субъективной реальности. Подобная информация превращается в помехи, если не соответствует какой-либо модели в нашей многоуровневой системе ожиданий. Мозгу необходим повторный опыт взаимодействия с этой информацией, так же как в случае с горизонтальными линиями у кошек или с формами и цветами у пациентов из Индии. А поскольку вся реальность субъективна, и умвельт ограничен чувствами, доступными данному существу, то закономерности, которые остаются вне зоны восприятия, так никогда и не становятся частью нашего внутреннего мира. Если вы не видите ультрафиолетового излучения, то можете прожить всю свою жизнь, не подозревая о его существовании. В свою очередь личная вселенная рака-богомола окрашена в цвета, которые люди никогда не увидят и не смогут себе представить.
Подобные исследования только напоминают нам о том, что наш мозг находится в темной черепной коробке и не имеет возможности лично столкнуться с тем, что происходит снаружи. Благодаря пластичности мозга повторение одного и того же опыта и регулярно встречающиеся одинаковые стимулы от внешнего мира позволяют нейронам быстро образовывать новые пути и создавать наработанные модели поведения. Так возникает уникальная программа действий для каждого организма, своего рода привычный порядок, когда нейронные сети активируются одинаковым образом в сходных обстоятельствах.
Вместе они образуют внутренний образ окружающей реальности, своего рода искусственную модель, основанную на предположениях о том, как выглядит внешний мир. Эти предположения строятся на основе регулярной и повторяющейся информации, которая поступает от органов чувств. Вот как сказал об этом Бертран Рассел: «Наблюдатель, когда ему кажется, что он смотрит на камень, на самом деле, если верить физике, наблюдает эффекты воздействия камня на него»56.
Нейробиолог В. С. Рамачандран рассказал мне, что ему нравится приводить аналогию с генералом, который сидит в бункере и руководит сражением, используя большой стол, заставленный миниатюрами танков и солдат. Наш мозг похож на этого генерала, который зависит от разведчиков, отправляющих ему отчеты с поля боя. Именно на их основе он обновляет модель. Генерал не видит того, что происходит снаружи, перед ним только упрощенная модель на столе в бункере. В ожидании новых отчетов он может пользоваться только тем, что видит перед собой на столе, чтобы понять текущую ситуацию снаружи. Как бы ни выглядела эта модель на данный момент, он использует именно ее для планирования, вынесения суждений, определения целей и принятия решений о дальнейших действиях. Если разведчики не могут вовремя принести новую информацию, модель остается неизменной и теперь может сильно отличаться от того, что происходит на самом деле. А если разведчики вообще не доставят новых данных, то модель не будет иметь ничего общего с внешним миром.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе