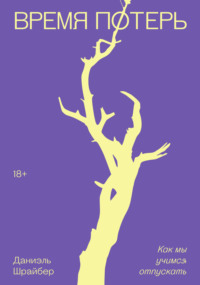Читать книгу: «Время потерь. Как мы учимся отпускать», страница 3
Мы живем в мире, в котором не осталось места для скорбящих. Вместе с черной траурной одеждой наша культура отбросила и многие другие ритуалы, привычные для предыдущих поколений. Тогда смерть приходила раньше и, возможно, поэтому легче воспринималась как часть реальности. В случае с отцом я еще инстинктивно понимал, как выглядит это другое отношение к горю и смерти, когда они занимали больше места в жизни человека, сильнее ее определяли. Моя мать – как и он, родившаяся вскоре после Второй мировой войны, – тоже иначе относится к тому прошлому миру, зная его изнутри через своих родителей и бабушек-дедушек, а не как я – по одним только рассказам.
Всеми возможными способами вытеснять смерть из реальности нашей жизни стало в истории культуры общим местом. Это не обязательно плохо само по себе. Но в известной мере мы утратили и значительную часть способности скорбеть. Разучились справляться с собственным горем и с горем других людей. По словам психотерапевта Джулии Самюэль, наш век проникнут верой в возможность все обратить вспять, улучшить или хотя бы использовать как отправную точку, чтобы начать все заново. Общество осуждает скорбящих, которые обособляются от мира, тем самым демонстрируя свою ранимость, и поощряет тех, кто проявляет силу, быстро смиряется с горем и живет дальше. Однако именно такое поведение должно нас беспокоить, поскольку в конечном итоге оно свидетельствует лишь о том, что человек становится невосприимчивым к своему горю – зачастую с катастрофическими последствиями11.
За последние месяцы самыми приятными для меня оказались люди, которые совершенно искренне говорили мне сущие банальности, давно ставшие ритуалом в общении со скорбящими. Меня радовали открытки с соболезнованиями, даже если я убирал их нераспечатанными в ящик, чтобы прочитать позже. Сам жест трогал меня своей простотой. Меня радовало, когда кто-то говорил, что сожалеет о случившемся, и предлагал свое общество, если я почувствую в этом потребность, – тем самым искренне и деликатно признавая, что пока не может мне помочь, но хочет. Так легко сказать скорбящему человеку верные слова – как раз потому, что нельзя сказать ничего верного.
Однако в последнее время я все больше подозреваю, что в этом коммуникативном прагматизме легко и удобно прятаться. Что выдержкой и дисциплиной я избегаю собственных чувств. И еще кое-что в этой моей выдержке напоминает мне о другом размышлении Барта: «Мне невыносимо, если кто-то уменьшает, обобщает мое горе… его у меня словно крадут». Я чувствую то же самое. Не говоря о своей скорби, утаивая ее от других, я ограждаю ее, не отпускаю. Я не даю отнять у меня то, чему сам не могу подобрать слова.
Я оборачиваюсь и желаю Анне доброго утра в ответ. Из всех нынешних стипендиатов она – моя любимица. Анна исследует самопрезентацию и самовосприятие итальянских женщин конца XVI века. Накануне вечером – уже давно стемнело – мы вместе сидели в библиотеке и работали в тишине. Мы купили поесть в местном супермаркете, а потом договорились продолжить так работать: нам обоим еще многое нужно было сделать, а в одиночку сложно себя мотивировать. Это было на удивление приятное время.
Пока Анна готовит завтрак, мы обсуждаем планы на ближайшие дни. Я радуюсь, что познакомился с ней, пью эспрессо и жду, когда кофеин понесется по телу и зарядит меня энергией. Затем я смотрю на часы и понимаю, что уже немного опаздываю. Прощаюсь, беру свои вещи и иду на йогу.
Путь до salotto – зала, где мы занимаемся йогой, – ведет вверх по лестнице через piano nobile12, бывший представительский центр палаццо, где принимали светских гостей и устраивали грандиозные балы. Сам зал – своего рода фойе большой террасы. Оконный фасад обращен к жилым домам на противоположном берегу Рио-ди-Сан-Поло. Сегодня они погружены в удивительно густой туман. Он приглушает свет в палаццо и подчеркивает красоту стен, на которых оставили след соленый морской воздух и течение времени. Серый цвет тумана так эстетично оттеняет упадок зданий, что я автоматически думаю о культе декаданса, который издавна окружает город и, возможно, наиболее парадигматично и емко зашифрован в названии самой известной новеллы Томаса Манна: «Смерть в Венеции». Никогда не знал, как подступиться к этому культу. Смерть, упадок и гибель можно эстетизировать, только если любуешься ими через защитное стекло, находясь в тепле и сухости, а твои благополучие и надежность держат объект эстетизации на безопасном расстоянии.
Когда мы теряем любимого человека или лишаемся социальных гарантий, уверенности и убеждений, когда вдруг исчезает что-то для нас очень важное, какой-то частью себя мы всегда осознаем: кто-то или что-то оставляет после себя пустоту. Мы знаем, что никогда больше не испытаем того, что испытывали с этим человеком или в тот период жизни. Что человек и время неповторимы, в истинном смысле этого слова. И даже если жизнь продолжается, то, что приходит на смену большим потерям, не заменяет утраченного. Скорбь – это всегда переживание окончательности. Возможно, наряду с болью есть в этом и особая форма утешения: со смертью и бренностью не договориться.
В ноябре 1915-го – четыре года, как вышла в свет «Смерть в Венеции» Томаса Манна, и почти полтора, как началась Первая мировая война, – Зигмунд Фрейд написал эссе «Бренность». Он задался, с его точки зрения, большим открытым вопросом психоанализа и изложил свое понимание скорби, горя и печали, перевернувшее наш взгляд на феномен утраты. Способность к любви – или либидо – обращается на любимые нами «объекты» и цепляется за них, даже если теряет. Умри они, исчезни – мы не можем их отпустить. «Но почему такое отделение либидо от своих объектов должно быть столь мучительным процессом – этого мы не понимаем и в настоящее время не можем объяснить никакими предположениями» – пишет Фрейд, резюмируя: «Это и есть скорбь»13.
В завершенной годом позже статье «Скорбь и меланхолия» Фрейд углубил свое понимание скорби. Указывая на процессуальный характер горя, он разделяет его на фазы между отрицанием и принятием. Более поздние психологи классифицируют их еще точнее, Фрейд же вводит термин «работа скорби», которым мы пользуемся до сих пор, поскольку он позволяет описать то, что мы знаем из своей жизни, но затрудняемся выразить словами. Да, боль от пережитых потерь со временем утихает, – но только если открыться реальности этих утрат, если их проработать.
Фрейд исходит из того, что в скорби «критерий реальности» заставляет нас постепенно отвлекать свое либидо от связей с утраченным объектом: «Нормой является ситуация, когда принцип реальности одерживает победу. Но все же он не может сразу выполнить свою задачу». Нужно наполнить новым содержанием каждое воспоминание, каждое ожидание, связанное с любимым объектом, и завершить отделение от своей любви. Подобное решается только «с большими затратами времени и накопленной энергии; при этом в психике продолжает существовать утраченный объект»14.
Влияние Фрейда на сегодняшнее понимание скорби невозможно переоценить. Даже мыслители и психологи, «опровергающие» Фрейда, опираются на его идеи. Отчасти благодаря его теориям ясно, что скорбь – наряду с радостью, страхом и гневом – относится к тем немногим, как выразилась психоаналитик Петра Штрассер, первичным человеческим аффектам, к тем «базовым чувствам», которые, независимо от культурной специфики, «подтверждены психологией эмоций, нейробиологией и эволюцией»15. Никого из нас не минует боль скорби. Это одно из базовых условий человеческого бытия, часть становления нашего Я, нашей человечности.
В зале прохладно – даже слишком, чтобы находиться здесь в легкой одежде. Я вдруг снова вспоминаю черный шарф, потерянный полтора года назад. Хотел бы я сейчас в него закутаться.
Идеи Фрейда занимают мои мысли с конца 1990-х, когда я еще студентом начал читать его работы. Тогда же я впервые обратился к психотерапевту. Незадолго до этого умер мой старший брат – утрата была выше моих сил, и я не мог ее проработать.
У скорби странные отношения со временем. Сейчас тот этап жизни мне ближе всего. Никто не может точно сказать, когда скорбь начинается и когда заканчивается. В последние годы обрела популярность догадка, что она не прекращается никогда и понимать ее следует скорее как состояние, которое в конечном итоге продолжает существовать в разных оттенках, «в личном и общественном восприятии»16. Она сохраняется, даже если работа скорби в какой-то мере удалась, мы говорим себе, что фаза траура закончилась, и постепенно учимся принимать новую реальность жизни, находя путь в настоящем. Можно с успехом распознавать модели мышления, чувств и поведения, характерные для эрратического господства скорби, и избегать их, лишая власти над собой. Но сами шаблоны от этого никуда не денутся. Любимые люди, идеи и социальные реальности сооружают в нас собственное психическое присутствие. В той или иной форме они оставляют след на заднем плане нашего сознания. Психолог Полин Босс называет полное завершение работы скорби «мифом»: такого завершения не бывает – его, возможно, и не должно быть17.
Бархатистые обои цвета охры на стенах пронизаны гирляндами цветов, стилизованных под нарциссы, тюльпаны и хризантемы. В одной из сторон комнаты доминируют мутные зеркала в стиле рококо. Серебристое покрытие настолько растрескалось, что их уже трудно назвать зеркалами. Надо всем парит огромная люстра из белого хрусталя – на аукционе за нее вполне можно выручить небольшое состояние. Пока я отодвигаю кресла и сворачиваю ковер, чтобы всем хватило места, мне в голову приходят мысли о сне, о котором я давно не думал и который связан с одним из моих первых детских воспоминаний.
Мне было года четыре, и я часто видел во сне кошмары, которые еще не умел отличать от реальности. Однажды мне приснилось, что отец умер, и я в ужасе проснулся. Брат – старше меня на пять лет – делил со мной комнату. Я разбудил его и сказал, что мне показалось, будто отец умер. Брат заверил меня, что это лишь дурной сон, но я не мог избавиться от тревоги и просил его пойти проверить. Он взял фонарик, очень важный для него в том возрасте, и вместе мы прокрались в спальню родителей. Детский шепот и свет фонарика разбудили их. С облегчением я понял, что отец жив. Они с матерью уложили нас обратно в постель. Теперь, сорок лет спустя, и брата, и отца больше нет.
Не успеваю я углубиться в мысли, как в комнату заходят Люси и Фрауке, тоже в спортивной одежде и с ковриками для йоги под мышкой. Я рад их видеть. Люси – писательница, Фрауке – художница; они живут в квартире для стипендиатов в соседнем подъезде. В вечер моего приезда Люси читала нам фрагмент своего последнего романа. Мы были немного знакомы по Берлину, и, когда все после чтения пошли перекусить, я рассказал им о планах заниматься здесь по утрам йогой.
За последние полтора года я фактически отказался от любой формы заботы о себе. Долгое время мне даже не удавалось регулярно питаться – приходилось договариваться с друзьями, чтобы нормально поесть. Когда этот этап остался позади, я начал почти намеренно глушить свои чувства едой. В свободные вечера я готовил замысловатые блюда, после долгих поездок на поезде поглощал дешевую вокзальную еду, а отправляясь после выступлений на ужин с организаторами, брал тяжелые блюда, которые ел только в состоянии большого стресса. Казалось, решение о том, что съесть, никак не зависело от моей силы воли. Я словно набивал себя до предела, бессознательно пытаясь от чего-то защитить, – и перестал этому сопротивляться. Поначалу я не замечал, как набираю вес, игнорируя тот факт, что постоянно приходилось покупать новую одежду для выступлений: в рубашках и брюках, которые я носил еще несколько недель назад, уже становилось тесно.
Только какое-то время спустя я осознал, что больше не чувствую своего тела. Как и в другие тяжелые периоды жизни, я оказался, скажем так, в теле травмы, которое отгородилось от стольких ощущений, что само ощущалось почти безжизненным. Эти колебания в восприятии тела сопровождали меня с подросткового возраста, но на этот раз стрелка отклонилась так далеко, что пора было что-то с этим делать. Мне хотелось снова ощущать свое тело. Выйти из охватившей меня онемелости. Снова что-то почувствовать. Вместе с другом я начал бегать, медленно и с большими перерывами. Начал заниматься дома на велотренажере под мотивирующие крики тренеров на экране и громкую электронную музыку, напоминавшую мне о более дикой молодости. В Венеции было невозможно бегать – слишком узкие и извилистые исторические переулки часто труднопроходимы. Поиски тренажерных залов также не увенчались успехом, поэтому я решил каждый день заниматься йогой и, недолго думая, спросил Люси и Фрауке, не хотят ли они присоединиться.
Мы перебрасываемся парой слов, прежде чем расстелить коврики. Затем ставим iPad с онлайн-курсом йоги на один из маленьких столиков из оргстекла. В комнате чувствуется некоторая нервозность, но я не уверен, чувствует ли это кто-то, кроме меня. Наши совместные занятия все еще кажутся мне какой-то авантюрой: мы не так хорошо знакомы, чтобы показываться друг другу в столь интимной обстановке.
В последние недели я то и дело возвращался к занятиям, но они не вызывали во мне прежних особых чувств. Магия асан, так часто помогавшая мне в жизни, не проявилась. Даже сегодня мой разум не может успокоиться, пока мы следуем инструкциям наставницы на экране. Я смотрю на Люси и Фрауке: будучи опытными в йоге и аюрведе, они легко справляются с упражнениями. В их присутствии мне легче прилагать больше усилий и выполнять более сложные асаны, которые раньше заставляли меня безвольно ложиться на коврик и прекращать занятие. Я благодарен им. Мы хихикаем, если наставница совсем ударяется в эзотерику или просит нас скрутиться особенно сложным образом.
Мне вспоминается умершая несколько лет назад Эстер, тетя моего бывшего, которая мне очень нравилась. Она была психотерапевтом и жила со вторым мужем в Санта-Монике, недалеко от побережья Тихого океана. Однажды она рассказала мне, что пережила смерть первого мужа только благодаря регулярным занятиям йогой. Переходя от второй позы Воина к Треугольнику, а от него к Полумесяцу, я хочу испытать тот же эффект. Я пытаюсь вернуться к тем тропкам внутри себя, которые показала мне предыдущая практика йоги, но не могу их отыскать. Асаны подбираются слишком близко к моей скорби, угрожая сделать ее ощутимой физически, высвободить нечто, что лучше держать под замком. Психика им противится. Физические упражнения не удаются из-за внутреннего сопротивления, упираясь в стену моей самозащиты от скорби.
Мне кажется, защита от скорби превратилась у меня в своего рода инстинкт, в modus operandi определенных этапов жизни. Иногда я словно не способен проститься и лишь мучительно пробираюсь сквозь череду прощаний – незавершенных, неоплаканных. Вместо того чтобы выполнять известные задачи скорби, сформулированные Фрейдом, – признать реальность утраты, выразить возникшие чувства, примириться с новой реальностью жизни и пересобрать себя, – я будто принимаю решение: вот, что-то завершилось. Я убеждаю себя: не стоит оглядываться назад, отныне главное – двигаться дальше. Я могу возвращаться к этой защите, которую практиковал десятилетиями, почти как лунатик. Регулярно принимаю решение не заглядывать в прошлое и беру на себя бремя того, что подавлял. Цепляясь за мнимое отсутствие горя, платишь за это непреходящей онемелостью. Должно быть, эту стратегию я бессознательно принял еще в юном возрасте – стратегию выживания. То и дело видишь скорбящих, не способных отмежеваться от своего горя и прошлого. Я никогда не стремился быть таким, всегда хотел открыться будущему – тому, что еще впереди, что меня еще ждет. Лишь несколько лет назад я задался вопросом, каким, собственно, должно быть это будущее и есть ли оно вообще. И позволил себе заподозрить, что это будущее не наступит, если не преодолеть прошлое.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе