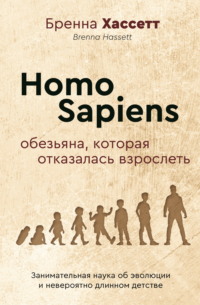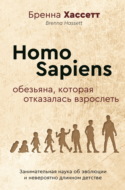Читать книгу: «Homo Sapiens. Обезьяна, которая отказалась взрослеть. Занимательная наука об эволюции и невероятно длинном детстве», страница 4
Пожалуй, одна из самых смелых гипотез – это что эволюцией социальной моногамии двигало в основном детоубийство или, скорее, угроза детоубийства. Недавно Кит Опи и его коллеги провели впечатляющее исследование сотен видов животных, которое продемонстрировало, что детоубийство и правда является одним из важнейших факторов, подталкивающих к моногамии. В основе лежит мысль, что самцы-детоубийцы истребляют чужих детенышей, чтобы на их место пришли их собственные потомки. Чтобы точно установить отцовство детеныша, самка примата старается создать устойчивую пару. Все остальные факторы – объем инвестиций обоих родителей в детеныша и потребность заручиться доступом к самкам, которые иначе могут просто уйти, – играют третьестепенную роль. Поэтому поговорим о детоубийстве.
В середине семидесятых годов прошлого века, когда выдающийся приматолог Сара Хрди была еще аспиранткой, она отправилась на склоны горы Абу в Раджастане, чтобы понаблюдать за обезьянами гульманами в рамках работы над диссертацией. Она отметила, что самцы-гульманы часто устраивают набеги на соседние группы и, захватив их, убивают новорожденных детенышей. Однако, по мнению Хрди, бессмысленная жестокость была на самом деле очень даже адаптивной жестокостью. Очистив группу от детенышей неустановленного происхождения, новые самцы-разбойники прокладывают дорогу для собственного потомства. Дело не только в том, что уже родившиеся детеныши могут конкурировать с еще не рожденными за ресурсы, а в том, что этих детенышей не надо будет вскармливать материнским молоком, а следовательно, самки из группы быстро станут снова фертильными.
Идея об эволюционном значении детоубийства основывается на довольно забавной предпосылке, которую недавно раскритиковали антропологи Холли Дансворт и Энн Бьюканан в своей заметке в онлайн-журнале Aeon, а именно что животные, начиная с карликовых лемуров, у которых мозг размером с горошину, понимают, что такое отцовство. Авторы рассуждают примерно так: учитывая, какая сложная мыслительная задача – связать спаривание с рождением детенышей, какие сложные понятия и огромные временные рамки приходится для этого осмыслить, не будет ли несколько экономичнее утверждать, что детоубийство не целенаправленная эволюционная стратегия, а явление скорее случайное? Может быть, самцы вообще склонны убивать детенышей, просто не убивают отпрысков тех самок, с которыми как-то связаны, но при этом не рассуждают о том, «чей» это детеныш. А если добавить к этому, что до самого недавнего времени в большинстве человеческих сообществ представления о зачатии были в лучшем случае смутными45, становится затруднительно понять, как работает механизм избирательного детоубийства.
В одном недавнем обзоре качества данных одержимость антропологов моногамией и ее причинами сравнивается с рассуждениями вымышленного спецагента ФБР по имени Фокс Малдер: «Если велик риск похищения инопланетянами детей, значит, инопланетяне моногамны». – «Они моногамны». – «Следовательно, риск похищения инопланетянами детей велик»46.
Верно подмечено. Под моногамией мы понимаем все что угодно – от брачных законов в авраамических религиях и рассуждений о наследственности до двух тамаринов, которые повышают себе окситоцин, занимаясь взаимным грумингом (надо сказать, у тамаринов среди приматов едва ли не самая красивая шерсть). Иногда пара создается на всю жизнь, иногда на сезон, иногда заменяют самца, иногда самку. Причем, как бы мы ни определяли моногамию, мы требуем, чтобы у этого специфического способа искать брачных партнеров была какая-то «причина» – детоубийство, забота о потомстве, манера самки далеко забредать. А ведь нередко это может быть просто стечением внешних и внутренних обстоятельств, которое мы не можем истолковать, поскольку вообще неважно разбираемся в том, какие факторы влияют на эволюцию любого животного, тем более ведущего сложную социальную жизнь. Эволюция – это сложно, и мы постоянно открываем новые факторы (например, значение женщин), которые вынуждают нас заново рассчитать модели, которыми мы всего несколько лет назад так гордились.
Оказывается, выявить адаптивную суть человеческого поведения невероятно трудно, поскольку нам нужно крайне осторожно формулировать вопросы о том, что такое адаптивность и что мы приучились делать в результате эволюции. Так как история есть история, а люди (как правило) есть люди, потребовались некоторые усилия, чтобы вывести наши представления об эволюционном прошлом за рамки сравнений с гаремами у горилл и с сугубо субъективными представлениями о человеческом обществе с оттенком несбыточных мечтаний. Такая упрощенческая картина социальной эволюции приматов (мужчины хотят секса, женщины хотят мужчину и/или электробытовую технику)47 была ослепительно ясной – чудо, что мы вообще в ней усомнились. Однако и в науке случаются чудеса48, и в семидесятые годы прошлого века они происходили в антропологии особенно часто. Так мы подошли к более тонкому пониманию своей эволюционной истории, которого придерживаемся и сегодня.
Судя по всему, люди довольно плохо понимают, как живут другие люди. С годами коллективное воображение восполняло бреши в наших культурных познаниях соблазнительными фантазиями. Трудно побороть искушение заподозрить, что за увлечением полигамными культурами вроде реалити-шоу «Сестры-жены» стоит тот же инстинкт, который привел к отвратительной фетишизации якобы «первобытного» состояния человеческой сексуальности. Человеческие брачные системы на самом деле очень рационально устроены. Даже в тех социальных системах, где допустимо многоженство и многомужество (такие тоже существуют), репродуктивные отношения развиваются преимущественно в устойчивых парах, просто эти пары не всегда создаются на всю жизнь и не всегда означают то, что вы под ними подразумеваете.
Интересное исследование живущего в Намибии народа химба наглядно демонстрирует, что количество детей, рожденных женщинами не от постоянных партнеров, особенно высоко там, где у женщины меньше всего прав в браке, а это значит, что, несмотря на эволюцию очень строго регламентированной и кодифицированной брачной системы, в большинстве человеческих сообществ остается еще множество путей для полового отбора.
Генетические исследования едва ли не самых моногамных приматов – лемуров, парочками странствующих по Мадагаскару, – выявили такое, что, пожалуй, эти полуобезьяны заслуживают своего реалити-шоу: оказалось, что более сорока процентов детенышей якобы моногамных родителей являются чужими. В человеческой популяции частотность отцовства вне пары, как считается, составляет от одного до десяти процентов – установить точнее затруднительно, поскольку подобные вопросы со стороны ученых вызывают бурю эмоций. Оценки, согласно которым едва ли не тридцать процентов детей оказываются «подсунутыми» небиологическим отцам, которые по неведению растят их как своих, я бы сказала, страдают от «эффекта Джерри Спрингера» – в честь телеведущего, на скандальном шоу которого вскрывались супружеские измены. Это разве что те случаи, когда отцовство вызывает сомнения и его стоит проверить, поскольку на роль отца есть несколько кандидатов. И хотя феномен отцовства вне пары, безусловно, существует, на самом деле у нас его частотность реже, чем у многих других животных.
На первый взгляд моногамия не самая гениальная идея. Это черная дыра, в которую уходят ресурсы. Если самец и правда занимается детьми, детеныш на шее – кошмарная трата сил; более того, таскать за собой младенца – это, пожалуй, самое худшее, что ты можешь сделать, если хочешь найти подругу получше. Папаша тратит на ношение отпрыска драгоценные калории, которые мог бы пустить на то, чтобы отточить свои навыки драки на клыках и завоевать особенно привлекательную самку. А для мамаши буквально что угодно лучше, чем поддерживать социальные связи с таким папашей: вместо этого она могла бы общаться с родными и близкими, находить больше пищи, обсуждать драки на клыках49. Однако ни тот, ни другой партнер в паре не может выкроить время на участие в агрессивных развлечениях, цель которых – найти кого-то другого, ведь у них есть детеныш, который сам не выживет. Он в них нуждается. Их дальнейшие репродуктивные изыскания отложены на неопределенный срок, а чудовищное количество энергии, которое высасывает из них детеныш, тратится исключительно на него одного.
Отсюда мы, пожалуй, можем вывести занятный возможный ответ на вопрос: «Почему моногамия?» – потому что у пары рождается отпрыск, требующий ухода. Беспомощный новорожденный, который растет целую вечность, больше и дольше рискует стать жертвой самцов-детоубийц, и неважно, отдают ли они себе отчет в своих действиях. Кроме того, возможно, беспомощный детеныш обеспечивает самцу занятость и не оставляет времени на разбойные нападения, и поэтому мы сегодня практически не наблюдаем детоубийств у приматов, живущих в устойчивых парах, и вынуждены вносить этот фактор в вычислительные модели как нечто присущее нашим предкам.
Что возникло раньше – парные узы или беспомощный детеныш, полностью зависимый от родителей, – вопрос, явно относящийся к семантической области птицеводческих метафор. А наверняка мы можем утверждать лишь то, что наши дети – существа дорогостоящие, странные и абсолютно ни к чему не пригодные. Чудо, что они у нас вообще бывают.
Глава пятая
Джорджик Коржик. Зачатие, плодовитость и жир
Джорджик Коржик – трус и хам!
Перецеловал всех дам,
А как дамы за порог,
удирает со всех ног.
Что бы вам ни говорили в школе на уроках секспросвета, у людей беременность после полового акта наступает лишь в тридцати процентах случаев, даже если речь идет об удачно выбранном моменте и оба партнера абсолютно фертильны. И только в молодости: с возрастом фертильность у женщин прямо-таки обрушивается с нормального для приматов плато. Мужчинам в этом смысле легче – или труднее, в зависимости от того, нравится ли тебе растить маленьких детей, когда сам ты уже в летах50. Хотя многие мужчины способны вырабатывать жизнеспособные сперматозоиды, даже когда сами уже не очень жизнеспособны, у некоторых с возрастом падает качество потомства.
Однако плодовитость примата – довольно резкое слово, обозначающее способность родить детеныша, – зависит от нескольких факторов. Для этого, естественно, нужны яйцеклетки и сперматозоиды, а также брачная система, благодаря которой родители сходятся друг с другом, и все это мы обсуждали в предыдущих главах. Однако для зачатия нужно стечение самых разных обстоятельств, чтобы все это впоследствии обрело форму новорожденного. И эти обстоятельства показывают, что мы, люди, ни на кого не похожи в том, когда мы размножаемся, насколько часто и что от нас для этого требуется.
Вообще-то удивительно, что люди вообще умудряются размножаться, если учесть, насколько плохо мы умеем беременеть: около пятидесяти процентов менструальных циклов – пустышки, но даже если подгадать верно, шансы все равно лишь около тридцати процентов. У большинства других приматов здоровые особи, спаривающиеся в нужное время, обеспечивают себе беременность в девяноста – девяноста пяти процентах случаев. Каково?! Менструальный цикл у большинства приматов, как и у людей, длится около тридцати дней. Однако не у всех видов циклы продолжаются круглый год, поэтому показатели успеха применимы лишь к очень ограниченному окну возможностей.
Сезонные дети – идея разумная с эволюционной точки зрения, если рассчитываешь на один рекордный урожай, чтобы протянуть на нем весь год. В частности, сезонное размножение практикуют мадагаскарские лемуры, поскольку на Мадагаскаре наблюдаются очень резкие сезонные колебания: пищи или вдоволь, или совсем нет. Сезонное размножение распространено у животных, и многие виды приматов подгадывают так, чтобы размножаться всем одновременно. Тогда детеныши рождаются как раз в то время, когда доступно больше всего пищи, – как раз когда нужно особенно хорошо питаться и маме на последних сроках беременности и в период вскармливания, и детенышам, когда они переходят с молока на другую пищу.
Сезонность накладывает жесткие ограничения на доступное для размножения время, однако есть и другие факторы – скажем, хищники. Очаровательные и очень даже съедобные детеныши саймири в пределах каждой группы рождаются с разницей не больше недели – примерно в феврале-марте. И неслучайно именно тогда над головой кружит особенно много голодных птиц, мечтающих закусить вкусной новорожденной обезьянкой.
Механизм, обеспечивающий дни рождения на одной и той же неделе, называется «синхронизация эструса», то есть циклов фертильности. Возможно, вы слышали, что так поступают и человеческие женщины, но эволюционные причины этого все никак не удается определить. С этой идеей, на первый взгляд логичной с точки зрения эволюции, только одна загвоздка: это неправда.
Реалии современной жизни обеспечили нам обширную базу новых восхитительных данных – расписание менструальных циклов в мобильном приложении Clue. Несмотря на якобы неопровержимую городскую легенду, что у женщин, которые проводят вместе много времени, синхронизируются репродуктивные циклы, данные о нескольких тысячах пользовательниц приложения подтвердили то, что уже предполагало множество менее масштабных исследований. Менструальные циклы у женщин не синхронизируются – наверное, потому, что каждый февраль у нас над головой не кружат хищные птицы, которые норовят нас сожрать. Однако женщины, вероятно, синхронизировали человеческую склонность к когнитивным искажениям и ложным воспоминаниям, и это привело их к убеждению, что и циклы у них синхронны.
Однако сезонность размножения наблюдается и у людей. Если вам в начальной школе приходилось смотреть на одноклассников и ненавидеть всех, с кем у вас общий день рождения, тут дело не только в иронии судьбы, заставляющей делиться тортиком. У других животных вроде наших друзей лемуров и вкусненьких саймири сезонность размножения вызвана давлением факторов среды (сезонными колебаниями доступности пищи, присутствием хищников). А как узнать, что наступил нужный сезон? Точно так же, как мы узнаем, что время года сменилось: по подсказкам вроде яркости солнечного света.
В тех климатических поясах, где яркость солнечного света меняется в течение года, у рождаемости есть выраженные пики и провалы. Сезонность рождения гораздо ярче выражена в северных широтах, где недостаток солнечного света действительно является проблемой, а в уютных экваториальных регионах она сведена к минимуму.
Если сопоставить дни рождения детей на дальнем-дальнем Севере, на 70,7° северной широты, на острове Улукхаток в Арктической Канаде, с теми, кто живет в несколько более умеренном климате Папуа – Новой Гвинеи на 4° южной широты, мы заметим очевидную разницу в сезонности рождения. И дело не только в погоде за окном (а если и в ней, то еще и в том, чем людям нравится заниматься при такой погоде). Дети на Улукхатоке рождаются в самом конце зимы и ранней весной, а значит, зачинают их весной и летом, что гораздо больше говорит о том, что предпочитают делать люди в хорошую погоду, чем о требованиях эволюции. Зачать человеческого детеныша можно когда угодно, а не только в «подходящее время». Распределение дней рождения в исследованиях Папуа – Новой Гвинеи не имело ничего общего с картиной, которую наблюдали на Улукхатоке, однако оно говорило об обществе, занимавшемся зачатием, ровно столько же.
В одном сообществе, где выращивают и, откровенно говоря, фетишизируют ямс, принят такой строгий запрет на секс в месяцы жизненно важного сбора урожая ямса, что об этом не разрешается даже шутить. Неудивительно, что у них мощный пик рождаемости в октябре – через девять месяцев после того, как в январе запрет снимается.
В городских сообществах северного полушария рождаемость имеет отчетливо выраженный сезонный характер с пиком преимущественно с июля по сентябрь. Октябрь в северных широтах – самое подходящее время для зачатия, после чего и рождаются июльские дети. Чем ближе к югу, тем сильнее сдвигается этот период: в тропиках люди чаще рождаются с сентября по декабрь, а в южном полушарии – с января до начала лета.
Однако мы, люди, никто без диктата культуры, поэтому в мире повсеместно так много Львов и Дев – а все из-за рождественских (новогодних, зимних) праздников (рис. 5.1). Сезонность рождения колеблется в наших больших городских сообществах даже в зависимости от классовой принадлежности и уровня образования: есть данные, что родители, которые могут себе позволить выбирать, подгадывают время рождения ребенка так, чтобы, например, обеспечить ему оптимальное начало обучения в школе. Как этим дальновидным родителям удаются подобные фокусы, другой вопрос, поскольку у человеческой беременности есть еще одна удивительная особенность: мы просто отвратительно умеем зачинать детей.

Рис. 5.1. Сезонность рождаемости в разных широтах. Данные по странам в зависимости от местоположения столицы. UNdata, United Nations Statistical Division (данные на 2022 год; звездочкой отмечены маленькие выборки). Обратите внимание, что для 0–10° южной широты данные отсутствуют
Даже если нам удается забеременеть, шансов родить у нас все равно гораздо меньше, чем у наших родственников-приматов. Примерно двадцать-тридцать процентов оплодотворенных яйцеклеток живет меньше пяти недель – это настолько мало, что многие женщины даже не успевают узнать, что у них наступила так называемая «биохимическая беременность». Еще тридцать процентов беременностей заканчиваются выкидышами. Между тем бабуины, которые не в состоянии даже управиться с тестом на беременность, получат веселого крошку-бабуина в восьмидесяти пяти процентах случаев имплантации эмбриона.
У людей необычайно высока доля неудачных беременностей, то есть выкидышей, и мы один из крайне немногочисленных видов51, у которых бывают специфические осложнения беременности вроде преэклампсии, когда артериальное давление выходит из-под контроля и за этим следуют судороги, а иногда даже смерть как довольно-таки жесткий сценарный ход, если дело происходит в костюмированной драме, время действия которой – двадцатые годы прошлого века52.
Так почему у нас так плохо получаются дети? Существуют два взаимосвязанных фактора, и один из них более или менее компенсирует другой: нам редко удается забеременеть в тот или иной конкретный менструальный цикл, зато у нас много менструальных циклов и, соответственно, много попыток. Циклы круглый год – хороший способ компенсировать наши паршивые показатели успеха.
С нашей стороны и правда круто устраивать себе месячные круглый год: с одной стороны, это говорит о том, что по сравнению с нашими родичами-приматами люди очень устойчивы к стрессогенной среде. С точки зрения доступности пищи у шимпанзе меньше возможностей, чем у нас: голодные месяцы у них и правда голодные настолько, что просто невозможно зачать детеныша, поскольку материнский организм включает режим аменореи: самка отключает репродуктивную функцию и перестает вырабатывать яйцеклетки. Между тем наши женщины, если они здоровы и нормально питаются, могут ожидать, что на протяжении жизни у них будет около четырехсот пятидесяти менструальных циклов, то есть месячных. Это и в самом деле гораздо больше, чем мы могли бы ожидать, если бы несколько напористее исследовали границы своих репродуктивных возможностей. Если бы мы жили в одном из множества сообществ, чей образ жизни не базируется на наличии супермаркета, мы бы кормили детей грудью не несколько месяцев, а несколько лет, у нас было бы больше детей, чем нынешние один-два на семью в среднем, и у нас уходило бы больше времени на беременность и/или лактацию и, соответственно, меньше на нормальные месячные53.
Живущие на Бали догоны, земледельцы, чей образ жизни не базируется на наличии супермаркета, придерживаются, как говорят демографы, режима «природной фертильности» – это означает, что они просто не прибегают к тем средствам контрацепции, за которые надо платить54. У них за весь период детородного возраста бывает около ста менструальных циклов. Надо учесть, что перенасыщенность организма гормонами яичников, которые повышаются у нас каждый раз во время менструации, повышает риск болезней, зависимых от гормонального фона, в том числе и рака груди. Еще в XVII веке врачи отмечали, что у женщин, ставших монахинями (предположительно целомудренных и бездетных), повышается риск рака груди.
Однако есть у нас менструальный цикл или нет, сам факт, что мы способны обеспечивать его ежемесячно, по-прежнему изумляет. Таких менструаций, как у современных женщин, нет больше ни у одного животного, более того, у большинства видов в принципе нет никаких менструаций. Мы и наши двоюродные сестры-обезьяны Старого Света, бесхвостые и человекообразные, и еще прыгунчики и два вида летучих мышей – вот, собственно, и все животные на свете, которые решили, что для регулировки размножения стоит выделять некоторые расходные материалы с кровью, и это механизм адаптации.
Прежде всего, разумеется, надо понять, почему у женщин вообще есть циклы, что совершенно не обязательно, согласно очень интересному подкасту PERIOD, ведущая которого, Кейт Клэнси, сама по себе очень интересный антрополог. Затем придется преодолеть некоторые серьезные культурные сложности – и нет, речь идет не о табу вроде «менструальных хижин», о которых первые антропологи оставили столько заметок, но о том, что происходит прямо здесь и сейчас, в развитых странах.
Мысль о том, что женщины во время некоторых фаз менструального цикла становятся «нечистыми», многие годы довольно настойчиво подкреплялась «научными фактами». Высказывались довольно занятные предположения, что будто бы женщины во время менструации выделяют некий «менотоксин» – ядовитое вещество, которое губит посевы, а у младенцев вызывает астму и колики55. Это удалось опровергнуть в результате крайне смелого экспериментального исследования, в ходе которого женщин во время месячных и в период их отсутствия просили трогать цветы, а потом смотрели, что произойдет с этими цветами56. Не то чтобы передовые научные методы, но все же шаг вперед по сравнению с работами исследователей (мужчин), которые пытались выявить эволюционную роль менструации, подсчитывая, сколько чаевых получают стриптизерши в разные дни месяца57.
Как ни смехотворно это звучит, подобные токсичные во всех смыслах идеи применялись и при изучении эволюции человеческого размножения. Менструация, которая служит для уничтожения некачественных сперматозоидов, защищает от некоторых болезней, являясь частью цикла иммунитета или «отбирает» жизнеспособные эмбрионы – это, пожалуй, все-таки полезнее с эволюционной точки зрения, чем способность раз в месяц нанести незначительные повреждения цветочной композиции в центре банкетного стола.
Некоторые ученые ХХ века (и некоторые охотники на ведьм XVII века) очень удивились бы, узнав, что женщины вовсе не выделяют никаких ядов во время менструации и что для сперматозоидов и сопровождающих их патогенов мы не более губительны, чем для цветов. А вот идея «разборчивой матки» довольно интересна. Она предполагает, что у женщин есть какой-то встроенный механизм, который определяет, сколько энергии мы собираемся инвестировать в ту или иную беременность. Кроме того, она предполагает, что у нас есть причины для такой разборчивости, поскольку не все комбинации яйцеклетки и сперматозоида являются высококачественными. Это, вероятно, объяснило бы наши никуда не годные показатели успеха при беременности: мы просто не вырабатываем столько хороших эмбрионов, сколько другие виды.
Мы, подобно обезьянам старого света, прыгунчикам и упомянутым летучим мышам, занимаемся сексом, как вы помните, когда заблагорассудится. Это означает, что к тому времени, когда мы будем готовы к оплодотворению своих яйцеклеток, они уже успеют созреть и немного залежаться – и будут несколько более склонны к генетическим сбоям. Если мы допустим, чтобы такие нежизнеспособные эмбрионы пили нашу кровь (чем и занимаются эмбрионы человека, приматов, прыгунчиков и упомянутых летучих мышей), это, откровенно говоря, будет пустой тратой крови. Лучше просто выбросить все и начать заново.
А может быть, вся затея с менструацией – это просто превентивный удар, который наносит мать в борьбе за свою матку, поскольку наши эмбрионы по природе своей оккупанты и кровопийцы. У животных, у которых нет месячных, подготовку к беременности запускает собственно наличие эмбриона. У животных вроде нас (а также обезьян, прыгунчиков и летучих мышей) мать располагает встроенным механизмом контроля качества, который очищает матку от тканей, сохраняющих беременность, если что-то не заладилось. Так что, по-видимому, ежемесячные кровотечения и связанные с ними неудобства – это просто досадный побочный эффект наших высоких стандартов качества. (Поздравляю! Если вы это читаете, значит, вы высококачественный эмбрион.)
Есть и еще одно, последнее препятствие58 к тому, чтобы забеременеть, и оно состоит в том, что для этого необходима взрослая самка. Помните наш парадокс с крупными самцами и маленькими самками? Так вот, хотя может сложиться впечатление, будто взрослые самки кругом кишмя кишат, однако им, чтобы вырасти и стать взрослыми самками, нужны существенные инвестиции. Это подводит нас ко второму важнейшему аспекту истории жизни: к необходимости выбирать, когда перестать растить самих себя и начать растить следующее поколение. История жизни может быть не только быстрой и медленной: момент, когда вы делаете зачатие возможным, – понятие растяжимое, и это в основном и определяет, как живут все животные на нашей планете, в том числе и мы. Разница между созданием самого себя и созданием кого-то другого и есть та грань, которая отделяет ребенка от взрослого59. Сколько времени мы проведем в левой части уравнения – это и есть продолжительность нашего детства.
Из главы 2 мы знаем, что есть некоторые (фрагментарные) правила, определяющие, насколько быстро или медленно живет животное. Неудивительно, что похожие рассуждения натолкнули нас на мысль о двух стратегиях истории жизни применительно к детству. На одном конце спектра у нас животные, которые быстро растут и медленно размножаются. На другом – те, которые растут медленно, а размножаются быстро (относительно). Например, кошки ловко размножаются, если им позволить, и многие лапочки-пушистики изумляли своих владельцев тем, что умудрялись забеременеть в нежном возрасте шести месяцев. Кошка готова размножаться, прожив на этом свете всего три процента отведенного ей времени60. А гренландские полярные акулы дожидаются более почтенного возраста, лет ста пятидесяти, то есть живут в идиллическом детском мирке добрых тридцать семь процентов своего неспешного века (как предполагают, он длится лет четыреста).
А как же мы и наши родичи-приматы? Мы достигаем зрелости годам к пятнадцати, а доживаем, скажем, до восьмидесяти, так что тратим на детство восемнадцать-двадцать процентов жизни и новых людей в это время не делаем. Орангутаны, не особенно славящиеся динамичностью, достигают репродуктивного возраста где-то между шестью и одиннадцатью годами. Гориллы, шимпанзе и бонобо включаются в процесс примерно в семь лет, но лишь в неволе. В дикой природе шимпанзе и бонобо начинают репродуктивную жизнь лишь на несколько лет позднее, ближе к девяти-десяти годам.
Вот тут-то и начинается самое интересное. Продолжительность детства – насколько быстро мы достигаем репродуктивного статуса – не незыблема. Она может меняться, адаптироваться. А раз она может адаптироваться, можете поставить последний грош на то, что мы ее адаптировали, а вместе с ней и всю нашу стратегию истории жизни. Вот о чем мы говорим в этой книге: как мы, люди, распорядились картами, которые нам сдали, и как мы и сегодня продолжаем настраивать свои основные рабочие параметры. А если так, на какие рычаги мы давим, чтобы изменить этот фундаментальный аспект своей стратегии истории жизни?
Ну что ж. Прежде всего, чтобы особь примата, оборудованная женскими половыми органами, размножилась после спаривания, нужно, чтобы она удовлетворяла двум условиям: была половозрелой и способной выносить детеныша. И то и другое требует энергии и гораздо сильнее, чем вы, возможно, думаете, зависит от среды. Например, достижение половой зрелости у самок приматов зависит не только от возраста или генетики, но очень сильно связана также с питанием и накоплением жира.
Молодые самки макак-резусов61, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров, достигали половой зрелости на несколько месяцев раньше своих нормально питавшихся товарок. Они не становились ни жирнее, ни крупнее, просто раньше достигали репродуктивного статуса, поскольку эволюция все-таки хочет, чтобы вы быстрее начинали делать детей, а не толстели. Верно и противоположное: у двух самок орангутанов, страдавших расстройством пищевого поведения, первый менструальный цикл начался гораздо позднее, чем у тучной самки.
В неволе животные обычно достигают репродуктивного возраста гораздо раньше, чем их дикие сородичи. Это принято объяснять влиянием спокойной размеренной жизни, которую ведут купающиеся в роскоши человекообразные обезьяны в неволе, в противоположность спокойной размеренной жизни, перемежающейся эпизодами жуткого насилия, социального секса, нападений охотников, которую ведут такие же обезьяны в дикой природе. Интересно, что это не относится к гориллам, которые к семи годам готовы производить новых горилл независимо от того, где они живут, в зоопарке или на воле. Это говорит о том, что, несмотря на постоянные угрозы нападения хищников и на статус исчезающего вида, в дикой природе гориллы все-таки достигают идеального энергетического баланса. Конечно, трудно переесть, если ешь исключительно листья.
Похоже, без определенного количества жира невозможно обеспечить гормональные изменения, которые, в свою очередь, запускают процесс полового созревания – изменений, без которых детеныш не превратится в потенциального производителя. Так обстоит дело у приматов, по крайней мере у самок. Это связывают с тем, что жировая клетчатка – один из немногих источников гормона эстрогена в организме, помимо собственно половых органов, и чем больше жировые запасы, тем выше может быть уровень эстрогена. У девочек, у которых выше процент жира в организме, первые месячные, как правило, наступают раньше. И мы тешим себя мыслью, что в этом есть эволюционный смысл, как и в сезонном размножении: ни к чему приниматься за изготовление детей, если у тебя нет энергетических запасов, которые обеспечат успех в этом нелегком деле.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе