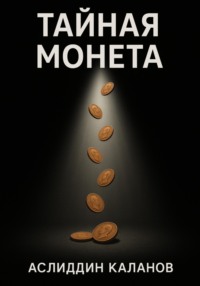Читать книгу: «Тайная монета»
Глава 1. «Дорога в Африку»
Конец 1970-х годов. Москва провожала их долгими, промозглыми дождями и туманом, от которого мутнела не только улица, но и мысли. Алексей, Борис и Виталий стояли в аэропорту, напряжённо переглядываясь сквозь ряды чемоданов и футляров с приборами.
Для троих друзей эта командировка в Африку была одновременно и шансом, и испытанием: им предстояло выяснить природу загадочного заболевания, которое за считанные месяцы превращало молодых и крепких людей в тени самих себя.
Алексей, высокий и худощавый, с коротко подстриженными тёмными волосами, сжимал в руке блокнот с заметками. Его пытливый ум искал логические связи даже в неуловимых деталях болезни.
Борис, коренастый и широкоплечий, всегда был человеком действия, но даже он не мог скрыть тревогу в глазах. Виталий, невысокий и слегка сутулый, с внимательным взглядом и привычкой щуриться, был душой компании и мог подбодрить товарищей даже в самые тяжёлые минуты.
– Слушай, Лёш, – пробормотал Борис, – а ведь мы едем туда, где никто ничего не знает. Ни лекарства, ни понимания, откуда оно взялось.
– Зато это и интересно, – ответил Алексей, невольно улыбнувшись. – Мы должны узнать. Кто, если не мы?
– А если узнаем, а лекарства так и не найдём? – мрачно добавил Виталий. – Что тогда?
Алексей поднял глаза, как будто пытаясь поймать взглядом что‑то далёкое, и тихо сказал:
– Тогда мы хотя бы будем знать, как с этим бороться. Даже если победа будет не сразу.
Их разговор прервал голос диспетчера, объявляющий посадку. Они сдали багаж, проверили документы и направились к трапу.
Через несколько часов за иллюминаторами показались сначала облака, а потом и бескрайние просторы африканского континента.
Самолёт приземлился в Кампале – столице Уганды, где располагался первый пункт их работы. Воздух ударил влажным, густым жаром, смешанным с ароматами пряностей, дыма и земли.
Местные улицы казались хаотичными: то и дело сновали люди с корзинами, дети играли в пыльных переулках, а вдоль дороги шли навьюченные ослы и старые грузовики.
У друзей была короткая передышка, чтобы разместиться в съёмном доме недалеко от клиники. Деревянный домик с крышей из ржавой жести выглядел хрупко, но в нём было всё необходимое: столы под микроскопы, холодильник для образцов и генератор, который работал только днём.
Вечером они сидели на крыльце, наблюдая, как за горизонтом медленно гаснет солнце, окрашивая небо в багряно‑фиолетовые цвета.
– Красиво, – сказал Виталий, потягивая горячий чай из жестяной кружки. – И страшно одновременно.
– Чего боишься? – спросил Борис.
– Того, чего не видно, – ответил Виталий. – Болезнь невидима. А значит, её труднее всего остановить.
Алексей молчал. В его голове вертелись цифры, симптомы, сведения о пациентах. Всё указывало на вирусную природу болезни, но детали оставались неясными.
На следующее утро они отправились в клинику, где местные врачи согласились помочь. В узких коридорах пахло хлоркой и лекарствами, а в палатах лежали измождённые мужчины и женщины с поразительно одинаковыми симптомами: стремительная потеря веса, постоянные инфекции, язвы во рту и на коже.
Алексей делал заметки, Борис собирал образцы крови, а Виталий разговаривал с пациентами, пытаясь понять, как всё началось.
Через переводчика они слышали истории: кто‑то говорил о лихорадке, кто‑то – о ранах, которые не заживают, а кто‑то вспоминал умерших родственников.
– Нам нужна лаборатория получше, – сказал Борис вечером. – Здесь мы ничего толком не увидим.
– Согласен, – отозвался Алексей. – Попробуем выйти на коллег в Найроби. Там есть институт тропических болезней.
Виталий смотрел в окно на уличный костёр, вокруг которого плясали дети. В его глазах мелькнула тревога:
– А если мы не успеем? Болезнь уже распространяется.
– Поэтому и надо спешить, – твёрдо сказал Алексей.
Дни сливались в недели. Они переезжали из города в город, из деревни в деревню. С каждым днём становилось очевиднее: болезнь передаётся не только половым путём, но и через кровь.
Особенно страдали медицинские работники, колющие много уколов, и женщины, рожавшие детей.
В Найроби им наконец удалось оборудовать небольшую лабораторию. Старый советский микроскоп, холодильники с запасом реагентов, центрифуга. Ночи проходили за пробирками и слайдами.
Ночь в Найроби выдалась душной и шумной. Где‑то за окнами лаяли собаки, проезжали машины с включёнными фарами, и издалека доносился гул ночного рынка. В лаборатории горела одинокая лампа. Алексей, опершись локтями на стол, всматривался в таблицы с результатами. Ему казалось, что за цифрами мерещится нечто большее – как будто сама болезнь наблюдает за ними в ответ.
Он потянулся за блокнотом и написал: «Вирус – как живое существо. Хитрый, меняющийся. Нужно понять, чего он боится».
В соседнем помещении Борис ковырялся с центрифугой, отчаянно стараясь заставить старую машину работать тише. Рядом Виталий аккуратно раскладывал пробирки, всё время перепроверяя надписи. Виталий любил порядок и боялся, что из‑за случайной ошибки может погибнуть целая гипотеза.
– Слушай, Лёш, – сказал он, не поднимая головы, – а ты не думаешь, что мы копаем слишком глубоко? Что если мы выпустим наружу что‑то ещё более опасное?
Алексей устало усмехнулся:
– А если не копать – мы просто будем смотреть, как люди умирают. Выбора ведь нет.
Борис глухо буркнул:
– Пока мы тут рассуждаем, вон там, за стеной, умирает парень лет двадцати. Мы с ним вчера говорили. Сегодня он не дожил до обеда.
Молчание сгустилось, как полночный воздух. У каждого из них были свои страхи, но они редко делились ими. Каждый понимал: нужно держаться, иначе всё рухнет.
Через пару дней они поехали в одну из деревень на границе Кении и Уганды, где, по слухам, вспышка болезни была особенно сильной. Дорога туда напоминала испытание: старенький джип грохотал по разбитому гравию, периодически срываясь в колеи, откуда их вытаскивали местные мальчишки за горсть мелких монет.
Виталий, сидевший сзади, то и дело подпрыгивал на ухабах, прижимая к груди сумку с образцами.
– Вечно нас трясёт, как картошку, – проворчал он.
– Зато бодрит, – хмыкнул Борис, крутя руль.
Алексей, глядя в окно, отмечал про себя: деревни здесь были бедными до ужаса – крыши из пальмовых листьев, стены из глины, дети босиком. И всё равно в глазах этих людей жила удивительная сила, как будто они знали что‑то важное о жизни, что не мог понять человек с дипломом.
В деревне их встретил староста – сухопарый мужчина лет пятидесяти, с морщинами, прорезавшими лицо, как старые дороги на карте. Он провёл их в хижину, где лежали двое больных.
Они были худы, словно тени. На телах – язвы и сыпь. Глаза ввалившиеся, но живые, следящие за каждым движением учёных.
– Он сказал, что болезнь началась с жара и кашля, – перевёл староста слова женщины. – А потом сын стал слабеть, не мог ходить.
Алексей склонился над пациентом, измерил температуру, осторожно ощупал лимфоузлы. Его мысли бегали быстрее слов: «Иммунитет рушится. Почему? Что именно запускает этот процесс?»
Борис брал кровь, Виталий расспрашивал о быте: как живут, что едят, пьют ли кипячёную воду, бывают ли чужие приезжие.
– Мы должны найти точку, с которой всё началось, – повторял он, словно заклинание.
Вечером, сидя у костра на краю деревни, они молча смотрели, как багровое солнце тонет за горизонтом. Костёр трещал, искры взмывали в небо.
– Никогда не думал, что окажусь здесь, – пробормотал Борис. – В Африке, среди малярийных болот, за тысячи километров от дома.
– Ты думал, что будешь тихо преподавать в МГУ? – усмехнулся Виталий.
– А ты не думал? – спросил Борис.
Виталий пожал плечами:
– Думал. Но теперь понимаю: если бы мы остались в Москве, мы бы никогда не увидели настоящую цену науки.
Алексей слушал их, но мысленно был где‑то там, в мире микроскопических частиц, где шла невидимая война.
Наутро их разбудил шум за окнами. У одного из больных начался приступ тяжёлой лихорадки. Температура подскочила до сорока двух. Борис и Виталий кинулись за водой и льдом, Алексей готовил раствор жаропонижающего.
Несколько часов они боролись за жизнь человека, которого видели впервые. И всё же не спасли.
После смерти наступила тишина, давящая и вязкая. Они стояли, не глядя друг на друга.
– Мы опоздали, – сказал Виталий.
– Нет, – тихо ответил Алексей. – Мы только начали.
По дороге назад Алексей думал, что вид смерти притупляется, но ошибся. Каждый раз сердце сжималось так, будто это был кто‑то близкий.
Борис, как всегда, ворчал:
– Эти дороги сводят меня с ума. И генератор опять накрылся.
Виталий устало усмехнулся:
– Зато теперь у нас есть образцы и новые данные.
Алексей поднял взгляд на тропическое небо, где клубились тяжёлые облака:
– И вопросы. Всё больше вопросов.
В лаборатории они сравнивали данные из разных районов. Постепенно проступала зловещая закономерность: там, где были переливания крови, болезнь распространялась быстрее. Там, где не было – медленнее.
Виталий, разглядывая карту, тихо произнёс:
– Если мы правы, это значит, что тысячи людей заражаются в больницах.
Алексей кивнул:
– И это объясняет случаи у младенцев и женщин, которые не имели других факторов риска.
Борис мрачно сказал:
– Только попробуй рассказать об этом чиновникам. Нас объявят сумасшедшими.
В их домике снова отключилось электричество. Генератор кашлянул и замолчал. Пришлось работать при свете керосиновой лампы.
В жаркой, пропахшей хлоркой комнате Алексей писал в дневнике:
«Мы близки к разгадке, но чем ближе подходим – тем страшнее картина. Болезнь не просто убивает – она стирает грань между больным и здоровым, между жизнью и смертью. Кажется, я начинаю понимать, почему люди боятся даже слова „вирус“.»
На следующее утро их ждал ещё один сюрприз: местный чиновник приехал с проверкой. Он был упитанным, важным и с недоверием смотрел на пробирки.
– Вы уверены, что ваши исследования нужны? – спросил он с тенью усмешки. – Говорят, это проклятие предков, а не болезнь.
Алексей, едва сдерживая раздражение, ответил:
– Наука не верит в проклятия. Мы видим вирус. Мы можем доказать его существование.
Чиновник равнодушно пожал плечами:
– Людям всё равно, кто их убивает – духи или микробы. А вам советую быть осторожнее. Здесь не любят чужаков.
Когда он уехал, Борис зло стиснул кулаки:
– Ему плевать на этих людей.
– Он боится потерять власть, – сказал Алексей. – И боится неизвестности.
Тем временем они продолжали собирать материал, анализировать сыворотки, проверять гипотезы. Иногда, когда усталость сваливала, Борис шутил:
– Лёш, ты хоть понимаешь, что мы добровольно живём без света, нормальной еды и горячей воды?
Алексей улыбался:
– Понимаю. И всё равно это лучше, чем жить с мыслью, что мы ничего не сделали.
Дни шли. Друзья всё больше напоминали один слаженный организм: кто‑то занимался полевыми выездами, кто‑то вёл дневники, кто‑то следил за образцами. Они спорили, ругались, мирились. Иногда, глядя друг на друга, понимали без слов.
Виталий однажды сказал:
– Странно. Раньше мы были просто коллегами. А теперь… как будто одна семья.
Борис хмыкнул:
– Семья из сумасшедших учёных.
Алексей тихо добавил:
– И это даёт нам силу.
Иногда по вечерам они выходили на окраину лагеря и смотрели на звёздное небо Африки. Там, вдали от Москвы, от привычной жизни, звёзды казались ближе и ярче.
– Как ты думаешь, Лёш, – спросил Борис, – будет ли от этого толк?
Алексей не сразу ответил:
– Не знаю. Но если даже один ребёнок выживет – уже будет.
Виталий посмотрел на них и сказал:
– Тогда давайте не сдаваться.
Их ждало ещё много дорог, ошибок, бессонных ночей и открытий. Но в ту ночь, под африканским небом, трое друзей знали: назад пути нет. И даже если мир ещё не готов принять их правду, они уже сделали первый шаг к спасению.
– Смотри, – шёпотом сказал однажды Борис, вглядываясь в тёмное пятно на стекле. – Здесь есть нечто общее с ретровирусами.
Алексей наклонился, взгляд его стал напряжённым. Виталий, стоявший за их спинами, почувствовал, как по спине пробежал холодок:
– Ты хочешь сказать… что это может быть новый ретровирус?
– Возможно, – сказал Алексей. – Если так, это объясняет медленное развитие болезни и то, как она разрушает иммунитет.
Со временем их работа стала походить на опасное приключение. Они ездили по отдалённым деревням, где дороги превращались в колеи, пересекали реки по шатким мостам и ночевали в палатках, отбиваясь от москитов.
Иногда попадали в районы, где шли военные столкновения.
Однажды их задержал вооружённый патруль. Солдаты подозревали их в шпионаже.
Пришлось показывать документы, объяснять, зачем у них пробирки и странные приборы. Лишь спустя несколько часов их отпустили.
– Чёртова политика, – ругнулся Борис, когда они снова сели в машину. – Болезнь не ждёт, а мы теряем время.
Алексей посмотрел на него устало:
– Если мы не поймём, как она передаётся, погибнут тысячи. А может, и миллионы.
Виталий смотрел в окно на джунгли, в которых скрывалась неведомая угроза, и думал: а что, если болезнь уже вырвалась за пределы Африки?
Прошли годы. Их исследования начали складываться в общую картину: болезнь разрушает лимфоциты, лишая организм защиты.
Ужас медленно проступал из цифр и графиков: болезнь убивает не напрямую, а открывает двери другим инфекциям.
Они назвали вирус предварительно HTLV‑III, позже его переименуют в ВИЧ.
И вот наконец, после долгих экспериментов и ошибок, команда нашла формулу вакцины, которая показывала эффективность в 99,8 %. Этот результат казался почти чудом.
Но радость была сдержанной. Алексей сказал в тот вечер:
– Если это действительно сработает, мир уже никогда не будет прежним.
– А если не сработает? – спросил Виталий.
– Тогда нам придётся начать всё сначала, – тихо ответил Алексей.
В глазах Бориса блеснуло упрямство:
– Но мы не отступим. Никогда.
Они ещё не знали, что впереди их ждут споры с западными коллегами, политики, которые захотят использовать открытие в своих целях, и долгий путь, прежде чем вакцина станет доступна.
Но в тот вечер, глядя на колбы и колонки цифр, трое друзей впервые почувствовали: они нашли ключ.
Осталось только открыть дверь.
А за дверью, как им казалось, их ждала надежда для миллионов.
Глава 2. «Пепел империи»
Распад Советского Союза пришёл не сразу, но чувствовался задолго до официальных дат. Алексей, Борис и Виталий – три друга, столько лет боровшиеся с невидимым врагом в Африке, вернулись в страну, которая медленно и неотвратимо катилась в бездну перемен.
В конце 80‑х казалось, что перемены будут добрыми: телевидение пестрило репортажами о гласности, люди впервые за десятилетия могли говорить вслух о том, что раньше шептали на кухне.
В университетах появлялись новые курсы, конференции становились чуть более открытыми, а в научных журналах можно было прочитать то, что ещё вчера считалось секретным.
Но к началу 90‑х вместе с ветром свободы в страну пришло другое – куда более холодное и разрушительное.
Денег в бюджете становилось всё меньше, рубль падал, заводы закрывались один за другим, и те, кто посвятил жизнь науке, внезапно оказались ненужными.
Лаборатория, где Алексей, Борис и Виталий хранили свою вакцину и материалы, располагалась в старом здании института микробиологии.
Коридоры с облупившейся штукатуркой, ржавые батареи, запах пыли и формалина – для постороннего глаза это могло показаться унылым местом, но для них здесь была целая жизнь.
В начале 90‑х финансирование сократилось настолько, что им приходилось приносить из дома даже реактивы, перчатки и чистые баночки.
Борис смеялся, что институт выживает только за счёт энтузиазма персонала и советского запаса в кладовке.
Алексей с каждым днём становился всё мрачнее. Он понимал: чтобы довести вакцину до промышленного производства, нужны деньги, которых у государства не будет ещё долгие годы – если будут вообще.
– Мы держим в руках то, что может спасти миллионы, – говорил он друзьям, устало опустив голову. – А вокруг никому нет дела.
Виталий кивал, но не соглашался сдаваться:
– Мы должны хотя бы сохранить формулу. Дальше – будет видно.
В один из мартовских вечеров в институт приехали иностранцы – двое мужчин и женщина, с характерными дипломатическими папками и деловым видом.
Их провёл заведующий лабораторией, худой человек в поношенном костюме.
– Коллеги из Швейцарии, – сказал он, не глядя в глаза друзьям. – Говорят, хотят ознакомиться с вашими наработками.
Алексей почувствовал, как у него сжалось внутри. Ему не нравились эти визиты: слишком уж часто в последние месяцы появлялись «заинтересованные коллеги» из разных стран.
– Зачем им наша вакцина? – шёпотом спросил Борис, когда иностранцы отошли поговорить с заведующим.
– Как зачем? – горько усмехнулся Виталий. – У нас рубль обесценивается каждую неделю, а для них это почти бесплатно.
Мы для них – склад сокровищ, из которого можно брать.
Инженеры и лаборанты видели это каждый день: новые лица, расспросы, предложения «помочь с публикацией», а за ними – контракты и условия, при которых права на разработку переходят «в обмен на небольшую поддержку лаборатории».
Алексей хотел отказать, но понимал: если не они, то кто‑то другой отдаст всё за бесценок. И тогда всё, ради чего они рисковали в Африке, пропадёт.
В стране тем временем рушилось всё.
В магазине рядом с институтом пустели полки. Люди стояли в очередях за хлебом и маслом, а на улицах появлялись новые лица: предприимчивые торговцы, криминальные «братки», валютчики.
В столице один за другим закрывались научные центры. Друзья узнавали новости с тревогой: в Новосибирске расформировали отдел вирусологии, в Ленинграде (теперь снова Санкт‑Петербурге) уволили больше половины сотрудников НИИ.
– Тысячи людей остались без работы, – говорил Борис, скрипя зубами. – И это всё, чего мы добились за столько лет?
Алексей не отвечал. Он смотрел на двери своей лаборатории, которые ещё недавно казались вечными, а теперь скрипели от старости.
– Главное – не дать им забрать формулу, – сказал Виталий. – Пусть хотя бы она останется.
Иностранцы возвращались снова и снова.
Теперь приезжали не только из Швейцарии, но и из США, Германии, Японии. Говорили почти одно и то же: «Мы слышали, у вас есть уникальные разработки. Давайте сотрудничать. Мы поможем с оборудованием, а вы поделитесь данными».
Один из гостей прямо сказал:
– Ваше государство не сможет профинансировать проект. У нас есть средства. Разве не лучше, если вакцина всё же дойдёт до пациентов? Какая разница, под каким флагом?
Борис вспыхнул:
– Разница есть. Мы работали для своих людей.
– А вы уверены, что у вас будет такая возможность? – мягко спросил гость.
Алексей сжал кулаки под столом, чтобы не сорваться. Он знал: соблазн велик, ведь зарплаты в институте хватало только на хлеб и проезд.
А там, на Западе, учёным предлагали гонорары, поездки, гранты.
– Они знают, что мы на грани, – шёпотом сказал Виталий позже. – И давят именно туда.
Внутри лаборатории тоже начались трещины.
Некоторые коллеги не выдерживали и соглашались сотрудничать за доллары или марки. Кто‑то уезжал за границу, кто‑то передавал материалы, надеясь «помочь науке в целом».
Однажды Алексей застал лаборанта, который копировал журналы с их результатами на портативный сканер. Тот оправдывался:
– Мне предложили всего пару сотен долларов. У меня дома дети голодают.
Алексей выгнал его, но понимал, что это не решение. Если человек поставлен перед выбором – наука или выживание – выбор очевиден.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе