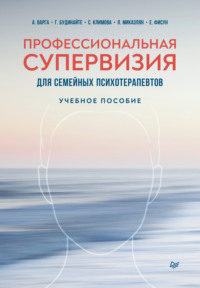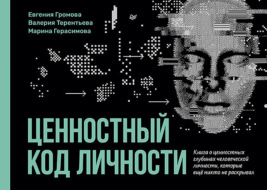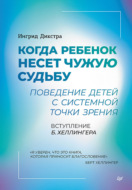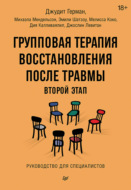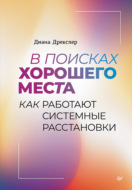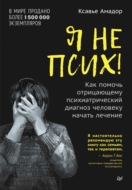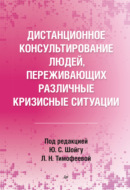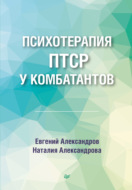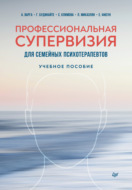Книгу нельзя скачать файлом, но можно читать в нашем приложении или онлайн на сайте.
Читать книгу: «Профессиональная супервизия для семейных психотерапевтов», страница 2
Есть и другой аспект этого принципа подобия. Техники супервизии, как правило, подобны техникам терапевтического подхода, который супервизант использует в собственной терапевтической работе.
Однако наряду с этим в классической системной логике сохраняется ситуация, когда описание взаимодействия в клиентской системе принципиально отличается от подхода и понимания терапевтической или супервизионной системы.
В клиентской системе, с точки зрения системного подхода, действуют равно вовлеченные субъекты3, чьи действия подчиняются не причинно-следственным, а круговым (взаимообусловленным) зависимостям, которые тем самым вовлечены в целостную взаимосвязанную систему отношений. В такой системе изменение одной ее части не может не привести к изменению в другой. Однако очевидно, что это не так для системы «терапевт(-ы) – клиенты».
Дело в том, что функциональной (нормативной) позицией терапевта продолжает выступать (как и в исходной медицинской модели) невовлеченность во взаимодействие с семейной системой. Ведь в ситуации вовлеченности будет невозможен правильный «диагноз» (гипотеза) – необходимое для преодоления симптома терапевтическое воздействие.
Именно эта позиция позволяет говорить о подобии «воздействия на болезнь» в медицинской логике и логики воздействия на симптом – в классической семейной терапии, поскольку сохраняется рациональная схема контролируемого, прозрачного для терапевта и имеющего понятные последствия терапевтического воздействия на клиентов.
Тогда задачей супервизии терапевтической системы, в свою очередь, становится обеспечение точного воздействия терапевта, на деле взаимодействующего с взаимодействующими между собой в своих семейных отношениях клиентами.
Тем самым в классической системной теории супервизии терапевтический процесс, с одной стороны, обнаруживает свою «плотность» (или небесплотность) в смысле признания реального, практически осуществляющегося взаимодействия терапевта с клиентами (как, кстати, и супервизора с терапевтом-супервизантом). С другой – в ней сохраняется рационалистский и по-своему безусловно стройный логически идеал «бесплотного», свободного от реального эмпирического процесса взаимодействия (и взаимовлияния) и полностью контролируемого терапевтом воздействия на живую клиентскую систему (рис. 2).
Феноменология взаимодействия между терапевтом и клиентами (и между терапевтом и супервизором), с одной стороны, выделяется и описывается. С другой – это описание с последующей систематизацией направлено прежде всего на то, чтобы в процессе супервизии эти эффекты взаимодействия были скорректированы или вообще нивелированы. Решается нормативная задача обеспечения нейтральности системного ви́дения терапевта и, тем самым, снятия разнообразных, порождаемых реальными эмпирическими эффектами взаимодействия с клиентами «блоков» на пути выбора им адекватных методов и техник воздействия, а также их продуктивной реализации.

Рис. 2. Классическое представление о супервизионном процессе, где: 1. К – семейная система; 2. Т – терапевт(-ы) – супервизант(-ы); 3. С – супервизор(-ы)
Это понимание профессиональной супервизии, как имеющей дело с «плотностью» процессов взаимодействия, которые должны учитываться и быть скорректированы в ней, представлено, например, в известной «шестифокусной» модели Э. Уильямса, появившейся на рубеже XX–XXI веков и, в свою очередь, опирающейся на модель Ховкинса и Шохета (Уильямс, 2001).
Согласно этой модели супервизор вынужден иметь дело со сложностями, которые возникают в каждой из трех систем. Он может фокусироваться на анализе самой клиентской системы; на способах действия терапевта с ней и на том, как можно описать систему взаимодействия «терапевт – клиенты»; наконец, на состоянии и субъективно переживаемых трудностях супервизанта или на собственных впечатлениях. Имея тот или иной «фокус», он может далее осуществлять воздействие из четырех основных ролей супервизора.
Так, супервизор-учитель сосредоточен скорее на инструктаже супервизанта как терапевта. Он буквально помогает своему супервизанту выбирать инструментарий и правильно реализовывать технические приемы, дает ему прямые предписания, как бы стоя у него за спиной и усиливая, достраивая видение самого терапевта своим дополнительным и нейтральным видением.
Супервизор в роли консультанта, по классификации Уильямса, осуществляет не прямой инструктаж, а стратегическое воздействие. Например, он исходит из того, что «застопорившаяся» терапия – результат таких действий терапевта, которые неосознанно поддерживают дисфункциональную систему клиентов вместо ее направленной трансформации. Предполагается, что в данной ситуации нужны не прямо инструктирующие, а «проблематизирующие» обсуждения, которые должны «включить» вероятность новых относительно уже использовавшихся креативных действий терапевта с клиентами. Именно здесь может быть адекватным использование терапевтических техник в работе с самим супервизируемым (например, Selman, Dimmock and Barber, 2018).
Как правило, такой процесс в меньшей степени может быть четко структурирован и предполагает «нелинейное движение» за супервизантом. Уильямс прибегает тут к хорошо известному в классической системной терапии различению изменений первого и второго порядка. Если обучающую супервизию можно видеть как адаптацию уже имеющих теоретических знаний супервизанта к реальности конкретного взаимодействия с семьей, то трудности, с которыми супервизор имеет дело в этом случае, предполагают обеспечение им изменений второго порядка и такое преобразование возможностей су-первизанта, которые смогут обеспечить необходимую эффективность и функциональность действий с клиентами супервизируемого-терапевта.
Наконец, задачей супервизора-фасилитатора может являться поддержка в более привычном значении этого слова. Он имеет дело с зонами личностной психологической «уязвимости» супервизанта и обеспечивает в первую очередь то, что принято называть эмоциональной поддержкой. Например, создает безопасное пространство для доверительного обсуждения тех состояний супервизанта, которые могут быть связаны с его возможной идентификацией с самим клиентом и жизненной ситуацией клиента; переживаний, связанных с отношениями «терапевт – супервизор», и т. п. В связи с этой ролью и задачами традиционно ставится вопрос о границах между фасилитацией в супервизии и личной терапией, вероятно, необходимой терапевту-супервизируемому или даже его семье.
В классификации, предложенной Уильямсом, есть еще одна роль – супервизора-эксперта. Это, как видно из названия, самая отстраненная, нейтральная форма взаимодействия супервизора с супервизируемым, которая должна обеспечить объективную оценку его работы для внешнего заказчика или максимально объективную обратную связь самому супервизанту (например, оценку в итоге обучения). Очевидно, что в фокус эксперта могут попадать все из перечисленных систем взаимоотношений – при том что характер взаимодействия с супервизантом должен стремиться к максимально отстраненному варианту в смысле взаимодействия с ним.
Казалось бы, выделенные роли легко ложатся на разные виды формально выделяемых задач супервизии, перечисленных выше. Однако понятно, что при их реализации на практике легко столкнуться с необходимостью более гибкого подхода. Так, в обучающей супервизии может требоваться роль не только и даже не столько учителя, сколько консультанта. А подготовка экспертного заключения – столкнуться с запросом на фасилитацию. Отдельный вопрос – как эти роли могут реализовываться в групповой супервизии.
Приведенная выше и, в общем, стройная классическая схема оказалась нарушенной в супервизии, когдабыл поставлен вопрос, с одной стороны, о реалистичности, с другой – об этичности границы между терапевтом и клиентской системой, которая восстанавливалась и поддерживалась классической системной супервизией (см. об этом: Будинайте, 2001; 2005; 2006; Варга, Будинайте, 2005). Это стало началом очередного этапа трансформации методологии системной терапии и супервизии.
Новый этап нашел свое выражение во множестве работ и инноваций. Их ключевые идеи сводятся к следующим:
• представлению системного подхода о внутрисемейном взаимодействии как целостном, нон-суммарном, подчиненном круговой (не линейной) зависимости, и, соответственно, с равным вкладом участников в разворачивающееся между ними взаимодействие противоречит классическое видение самой терапевтической системы «клиенты – терапевт(-ы)». В терапевтической системе взаимодействие терапевта с семьей осуществляется из экспертной позиции (идея нейтральности) и устремлено к линейному и контролируемому воздействию на клиентскую систему. Тем самым само терапевтическое взаимодействие мыслится в причинно-следственных или «физических» терминах (именно как воздействие), а не как подчиняющееся законам системы взаимодействие (Hoffman, 1988; 2001).
При этом обусловленный экспертной позицией характер супервизионной процедуры анализа и обсуждения процессов, протекающих в семье, – в терминах «семейных коалиций», «застревания в состоянии статус-кво», «патологических игр» и т. п. – носит «объективирующий» клиентов (семью) характер и реализуется зачастую в критическом ключе. Что породило этические возражения, которые, в свою очередь, вызвали к жизни процесс поиска новых форм супервизии, порой далеко отстоящих от классических. Например, открывающих профессиональное обсуждение случая для клиентов или включающих в него людей, которые не являются профессиональными психотерапевтами. Очевидно, что это меняло характер самого супервизионного процесса, его норм и правил (Andersen, 1987; 1991);
• указанию на то, что семья, выступающая в классической логике как объект воздействия, должна рассматриваться скорее как система активно взаимодействующих с терапевтом(-ами) активных субъектов. Она проявляет в процессе терапии «встречную» активность, интерпретирует происходящее, может обучаться и, тем самым, меняться как объект в самом процессе «воздействия» (De Shazer, 1994);
• идее о том, что терапевтическая система должна описываться как экологическая система, состоящая из двух живых подсистем – клиентской системы и системы терапевтов, между которыми протекают сложные циркулярные процессы коммуникационного взаимодействия. Последние должны описываться не в физических терминах («воздействия на» и трансформации), а как процесс информационного обмена между ними (Бейтсон, 2000; De Shazer, 1994);
• тому, что развитие в живой (клиентской) системе стало пониматься как обеспечиваемое не целенаправленной системой последовательных воздействий на нее терапевта, трансформирующих неэффективный способ ее функционирования, а внесением в эту живую систему информационного «различия, способного породить новые различия» (Бейтсон, 2000) и тем самым запускающее – или не запускающее – изменения, поскольку данный процесс носит вероятностный, а не детерминистический характер;
• тому, что классическое представление о двух равнонаправленных тенденциях в живой системе – к поддержанию равновесия (статус-кво) и развитию – стало пониматься как скорее теоретическое, в то время как методологически указывалось на противоречие исходного понимания семьи как «стагнирующей» с одновременным стремлением терапевта обеспечить изменения ее функционирования. В этом смысле видение живой системы как постоянно изменяющейся и саморазвивающейся (соответствующее идеям кибернетики не первого, а второго порядка (например, Матурана, 1996; Матурана, Варела, 2019) оказывается методологически более непротиворечивым (De Shazer, 1985; 1994). Закрепилась идея конструирующего характера самого терапевтического взаимодействия, направляемого терапевтом, однако вклад в который вносят все включенные в него субъекты;
• тому, что становление конструктивистских идей привело к тому, что заявляемая семьей проблема (как некий проблемный текст, включающий в себя и проблемные «факты», и соответствующие проблемные «описания», «конструкты») стала видеться как результат разнообразных социальных взаимодействий семьи (человека) с другими социальными системами. А достигаемые в терапии изменения – как результат направляемого терапевтом варианта социального конструирования более устраивающего клиентов «текста жизни» (включающего взаимозависимые «факты» и их «описания»). Процессы терапии, а значит и супервизии, тем самым, потеряли статус «надмирных», которые описывают протекающие «в реальности» жизненные процессы, и стали пониматься как существующие в общем ряде всех других процессов социального конструирования, в которые включены люди в ходе своей жизни (White, 1999) (см. рис. 3);
• тому, что развитие постмодернистских идей привело к отказу от идеи единственно верного описания взаимодействия клиентов, необходимых изменений в системе и прочего. Это, с одной стороны, трансформировало экспертную позицию терапевта, а значит и супервизора, в сотрудничающую и опирающуюся на экспертизу самих клиентов, а с другой – утверждало возможность разных способов построения терапии и супервизионного взаимодействия (De Shazer, 1994; White, 1999);
• исчезновению четкой границы между клиентской и терапевтической системами, которая поддерживалась и сохранялась классической системной терапией, и иному видению природы терапевтического взаимодействия, а также его задач, что привело к новому соотношению ответственности между участниками взаимодействия. Оказалось, что необходимо заново определять соотношение профессиональной ответственности и вклада терапевта и ответственности, видения ситуации и «экспертизы» самого клиента(-ов). Тот же вопрос возник и для супервизии – во взаимодействии «супервизор – супервизант».

Рис. 3. Постклассическое представление о процессе супервизии
Представленные выше идеи приводят к тому, что задачей терапевта/супервизора в этом, ином понимании становится создание взаимодействия определенного, нового типа – и в терапии, и в супервизии.
Данное взаимодействие исходит из:
• опоры на уже имеющиеся у клиента/супервизируемого ресурсы в решении необходимых ему задач;
• необходимости совместного с клиентами/супервизантом конструирования «решения» или «предпочитаемой истории».
Допускается, что часть необходимых действий, умений и прочего уже имеется и реализуется клиентами/супервизируемым, хотя, возможно, и не осознается или не явно для них самих – это позиция «ненулевого старта» в процессе как клиентов, так и супервизанта (Будинайте, 2006).
Тут открывается пространство для прямого или модифицированного использования в супервизии широкого спектра техник конструктивистских подходов – от поиска исключений из «проблемы» до экстернализации сложностей супервизируемого, от шкалирования степени продвижения к необходимому «решению» терапевтической задачи до построения предпочитаемой для супервизанта истории «быть терапевтом» и т. д. (Wetchler, 1990; White, 1999; Fox, Tench, 2002).
Все это приводит потому, что роль фасилитатора – в широком понимании – становится методологически обоснованной ролью терапевта. Но понимается она иначе, чем в приведенной выше классификации Э. Уильямса. Любопытно, что традиционное представление о тревоге и неуверенности супервизанта в процессе супервизии, как требующих преодоления, может сменяться представлением о полезной и продуктивной функции этих проявлений. Они рассматриваются в качестве необходимых индикаторов ограничений имеющихся знаний и направления фасилитации, а также развития (Mahoney, 1991). Сама задача фасилитации, оказавшись ведущей в супервизии, вызывает ряд метафор, описывающих позицию супервизора, таких как «компаньон по путешествию», «якорь для клиентско-терапевтических отношений супервизанта» (Guiffrida, 2015) и т. п.
Начислим
+27
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе