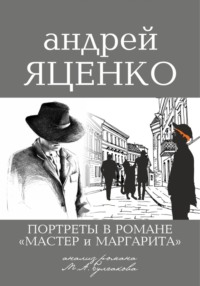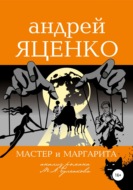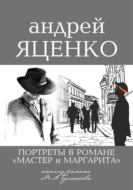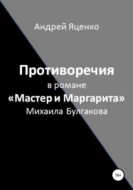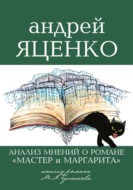Читать книгу: «Портреты в романе «Мастер и Маргарита». Анализ романа М.А. Булгакова», страница 11
Иешуа и милосердие
Вопрос – ответ
«Иешуа исцелил Пилата. Разве, это не милосердие?» (Занудкин)
В романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова есть три эпизода, в которых Иешуа Га-Ноцри проявил себя. Рассмотрим их и выясним, показал ли бродячий философ в них милосердие.
Милосердие (лат. misericordia) – это готовность бескорыстно помочь или простить из чувств сострадания и человеколюбия. Оно противоположно жестокосердию.
В христианской этике милосердная любовь приобретает особое значение как одна из трех богословских добродетелей. В милосердии человек посвящает себя Богу и тем самым открывается добру. С этической точки зрения милосердие составляет долг человека: в нем человек призван осуществить нравственный идеал, на что указывает заповедь любви. Причем в каждом человеке следует видеть «образ Божий» независимо от его недостатков. Так любовь к ближнему («Возлюби ближнего твоего как самого себя») – неразрывно связана с заповедью любви к Богу. Милосердие достигает нравственной полноты, когда воплощается в действиях. В нормативном плане милосердие напрямую связано с требованиями прощения обид, непротивления злу насилием и любви к врагам. Смысл милосердного прощения не в том, чтобы предать забвению причиненное зло, а в отказе от мщения75.
На допросе у прокуратора
В главе 2-й («Понтий Пилат») во время допроса прокуратор так сильно страдал от невыносимой головной боли, что даже малодушно думал о смерти.
„Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой. <…>
Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой. <…>
И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. <…>
И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»“
Арестованный Иешуа заметил это, огорчился и снял головную боль у Понтия Пилата.
«– Истина, прежде всего, в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет. <…>
– Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад».
Если бы на этом все завершилось, но несомненно можно было бы утверждать, что Иешуа проявил милосердие, т.к. его действия были бескорыстными и вызваны состраданием к прокуратору. Однако, далее по тексту Га-Ноцри предложил Понтию Пилату прогуляться вдвоем в окрестностях и Иешуа смог бы побеседовать с умным человеком.
«Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется, – арестант повернулся, прищурился на солнце, – позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека».
Таким образом, лечение прокуратора бродячим философом нельзя назвать бескорыстным, хоть и из заявленного сострадания. Иешуа проявил корысть – он хотел поделиться своими мыслями с умным собеседником, получить духовное удовольствие, и поэтому его врачевание нельзя оценить как милосердие.
А вот сам Иешуа попросил Понтия Пилата о помощи, т.е. о милосердии. Но оказать ее было не во власти прокуратора.
«– А ты бы меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу, что меня хотят убить.
Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:
– Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю!»
Почему прокуратор не мог отпустить Иешуа Га-Ноцри, подробно рассматривается в разделах «Требуется правосудие!» и «И обладал ли Понтий Пилат самым страшным пороком?» в статье «Понтий Пилат».
Во дворце у прокуратора
В главе 25-й («Как прокуратор пытался спасти Иуду») начальник тайной службы Афраний доложил, в том числе, как прошла казнь осужденных.
«– А скажите… напиток им давали перед повешением на столбы?
– Да. Но он, – тут гость закрыл глаза, – отказался его выпить.
– <…> В каких выражениях он отказался?
– Он сказал, – опять закрывая глаза, ответил гость, – что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.
– Кого? – глухо спросил Пилат.
– Этого он, игемон, не сказал».
Из разговора видно, что Иешуа никого не винил за свою гибель. А чтобы было проявление милосердия со стороны бродячего философа, тот должен был простить виновных в своей казни. Но Га-Ноцри поступил иначе.
На каменной террасе здания
В главе 29-й («Судьба мастера и Маргариты определена») Иешуа через своего ученика Левия Матвея обратился с просьбой к Воланду, о даровании покоя любовникам.
«– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. <…>
– Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, – в первый раз моляще обратился Левий к Воланду».
Эту просьбу можно было бы принять за милосердие, если бы это было правдой. Подробно покой в вечном приюте рассмотрен в разделе «Что такое «покой» от Воланда?» в статье «мастер».
Здесь же мы укажем на последствие «покоя» для мастера. Оно показано в Эпилоге романа. Если в вечном приюте все хорошо, как ему обещали Воланд и Маргарита, то чего же боится мастер?
«Тогда в (лунном – А.Я.) потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это – номер сто восемнадцатый, его ночной гость».
А ведь перед «покоем» в вечным приюте мастер выглядел совершенно иным. Это видно из главы 30-й («Пора! Пора!»).
«– Я ничего и не боюсь, Марго, – вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видел, но о чем наверно знал, что оно было. – И не боюсь потому, что я все уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут».
Однако, как показано в Эпилоге, мастер ошибался – нашлось что-то, что будет пугать его вечно.
Во сне профессора Понырева
В Эпилоге романа сообщается, что каждый год во время весеннего праздничного полнолуния Иван Николаевич после долгих страданий всегда видит один и тот же сон, в котором Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри идут по широкой лунной дороге и прокуратор спрашивает спутника об одном и том же.
«От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться.
– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?
– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось.
– И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще.
– Клянусь, – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются.
– Больше мне ничего не нужно! – сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес».
В этом эпизоде видно, что Понтий Пилат не покаялся, не признал свой грех, а пытается убедить себя и Иешуа, что никакой казни не было. И Га-Ноцри снова не проявил милосердие – не простил прокуратора за утверждение смертного приговора.
Таким образом, в романе Иешуа ни разу не проявил милосердие, но единожды обратился за помощью, т.е. за ней, к прокуратору. Но выполнить просьбу арестанта Понтий Пилат не мог. И еще раз просил, но не за себя, а за мастера и Маргариту. Хотя как показывает анализ романа, лучше бы Иешуа за них не просил.
Антипод в романе
Антипод (др.-греч. ἀντίπους, мн. число ἀντίποδες – противоположные, противостоящие, букв. «противостоящие»; от ἀντι- – против + πούς – нога) – человек, противоположный кому-нибудь по убеждениям, свойствам, вкусам; антиподы – парная альтернатива, пара противоположных, противолежащих объектов.
Нам представляется, что антиподами Иешуа Га-Ноцри будут: в милосердии – Праскофья Федоровна, в правде – Никанор Босой и в мужественности – Иван Варенуха и Иосиф Каифа.
Милосердие
Если Иешуа Га-Ноцри лишь заявляет, что все люди добрые, а сам при этом лжет, проявляет трусость и ложно обвиняет спутника, то Прасковья Федоровна делами доказывает милосердие и правдивость. Милосердие – это чувство готовности оказать бескорыстную помощь, прощение, а также сама такая помощь, прощение, например, благотворительность. Милосердие – одна из христианских добродетелей.
Прасковья Федоровна представлена повествователем как полная или толстая симпатичная женщина в белом чистом халате. У нее благодушное выражение лица, в ее голосе и действиях присутствует ласка. Ласка – это проявление нежности, любви, доброе, приветливое, нежное отношение. Прасковья Федоровна благоговейно глядит на профессора Стравинского. Мастер характеризует ее как милейшего, но рассеянного человека. Повествователь называл ее добродушной и добросердечной, а Иванушка – правдивой и доброй. Она тревожится, когда ее пациентам плохо.
В романе при описании Прасковьи Федоровны видна ясная отсылка: «Одеяся светом яко ризою» (Псалтирь 103 стих 2) Риза – это верхнее (особое) облачение священника при богослужении.
«– Э, Прасковья Федоровна! Вы такой человек правдивый… Вы думаете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите. Я ведь через стену все чувствую.
– Скончался сосед ваш сейчас, – прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии». (Глава 30 «Пора! Пора!»)
А вот с Иешуа Га-Ноцри произошло совершенно иное. Он ведь утверждал, что все люди добрые. Значит, и он в том числе должен быть добрым. Тем не менее, «двенадцать тысяч лун» или «около двух тысяч лет» длилось наказание Понтия Пилата за вынесение законного судебного решения. Не указывается, что за все это время Иешуа Га-Ноцри хоть раз обращался к богу о милосердии и снисхождении к прокуратору. Нет, по произвольному приговору то ли бога, то ли Иешуа, Понтий Пилат не справедливо страдал около двух тысяч лет, получается за самооговор.
Видимо поэтому Иешуа Га-Ноцри предстает, не в ризе, а в загоревшейся пыли.
«Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль». (Глава 2 «Понтий Пилат»)
Таким образом, Прасковья Федоровна сравнивается со священником во время богослужения, а Иешуа Га-Ноцри с пылью.
Правда
Если Иешуа Га-Ноцри лишь заяляет, что правду говорить легко и приятно, а на деле лжет, то Прасковья Федоровна и Никанор Босой говорят правду.
«– Правду говорить легко и приятно, – заметил арестант». (Глава 2 «Понтий Пилат») Тем не менее, Иушуа Га-Ноцри дважды солгал.
В первый раз, когда сообщил Понтию Пилату, что пришел в Ершалаим вместе с Левием Матвеем. Однако, тот оставался за городом, т.к. сначала Иешуа покинул его, а затем из-за внезапной и сильной болезни Левий Матвей не мог догнать бродячего философа в пути.
Во второй раз, когда дважды подтвердил Понтию Пилату, что казни не было: сначала во сне прокуратора, а затем во сне профессора Понырева.
«Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны». (Глава 26 «Погребение»)
«– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?
– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось.
– И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще.
– Клянусь, – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются». (Эпилог)
Фельдшерица Прасковья Федоровна честно призналась Ивану Бездомному, что его сосед, пациент из соседней 118 палаты, скончался.
«– Э, Прасковья Федоровна! Вы такой человек правдивый… Вы думаете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите. Я ведь через стену все чувствую.
– Скончался сосед ваш сейчас, – прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии». (Глава 30 «Пора! Пора!»)
Так Никанор Босой и при задержании, и на следствии, и в клинике говорил только правду: взятку брал советскими рублями, а валюту в глаза не видел.
«– <…> брал! Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал!» (Глава 15 «Сон Никанора Ивановича»)
– Вот контракт… переводчик-гад подбросил… Коровьев… в пенсне! <…>
– Товариши! – неистово закричал председатель, – держите их! У нас в доме нечистая сила! (Глава 9 «Коровьевские штуки»)
«– Ведь это что же, – горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол, – нету у меня и нету! Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету!
– Нету, нету, – успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна, – а на нет и суда нет». (Глава 15 «Сон Никанора Ивановича»)
Мужество
Если Иешуа Га-Ноцри труслив, то администратор и первосвященник проявляют отвагу.
«Крысобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. <…> Марк одною левою рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:
– Римского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?
Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:
– Я понял тебя. Не бей меня». (Глава 2 «Понтий Пилат»)
И в дальнейшем Иешуа Га-Ноцри проявлял понятливость и испытывал страх, когда все же оговаривался.
«– Я, доб… – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон…» (Глава 2 «Понтий Пилат»)
Решительный и прямой первосвященник будет противоположностью трусливому Иешуа Га-Ноцри.
«Каифа прямо в глаза посмотрел Пилату и сказал тихим, но твердым голосом… <…>
– Знаю, знаю! – бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. <…>
Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели». (Глава 2 «Понтий Пилат»)
Администратор театра Варьете Иван Варенуха не испугался угроз Азазелло.
«– Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте.
– Кто это говорит? – взревел Варенуха, – прекратите, гражданин, эти штучки! Вас сейчас же обнаружат! Ваш номер?
– Варенуха, – отозвался все тот же гадкий голос, – ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы.
– А, так вы не унимаетесь? – закричал администратор в ярости, – ну смотрите же! Поплатитесь вы за это, – он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает. <…>
Администратор был возбужден и полон энергии. После наглого звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев душила администратора…» (Глава 10 «Вести из Ялты»)
Общие черты
Иешуа Га-Ноцри лгал, проявлял трусость и валил вину на спутника.
Во лжи замечены многие в романе: Воланд, Фагот, Бегемот и Азазелло, Латунский, Жорж Бенгальский, Иван Варенуха, Аркадий Семплеяров, Сергей Дунчиль, Николай Иванович, Парческий, Андрей Соков, Аннушка.
Трусость
Это качество кроме Иешуа Га-Ноцри проявили Григорий Римский, Максимилиан Поплавский и Арчибальд Арчибальдович.
«Тихий, в то же время вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубку:
– Не звони, Римский, никуда, худо будет. <…>
Никакого разговора о том, чтобы звонить, больше и быть не могло, и теперь финдиректор думал только об одном – как бы ему поскорее уйти из театра». (Глава 12 «Черная магия и ее разоблачение»)
Понятливость проявил и киевский дядя Михаила Берлиоза Максимилиан Поплавский.
«– Поплавский, – тихо прогнусил вошедший, – надеюсь, уже все понятно?
Поплавский кивнул головой.
– Возвращайся немедленно в Киев, – продолжал Азазелло, – сиди там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно? <…>
Возникает вопрос, уж не в милицию ли спешил Максимилиан Андреевич жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае, это можно сказать уверенно. <…>
Проверка квартиры была произведена; не думая больше ни о покойном племяннике, ни о квартире, содрогаясь при мысли о той опасности, которой он подвергался, Максимилиан Андреевич, шепча только два слова: «Все понятно! Все понятно!» – выбежал во двор». (Глава 18 «Неудачливые визитеры»)
Ложное обвинение знакомого
На допросе под выражением Понтия Пилата «за тобою записано» Иешуа Га-Ноцри ошибочно предположил, что речь идет о записях его спутника Левия Матвея и постарался поскорее открестится от них.
«– <…> произнес Пилат мягко и монотонно, – за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.
– Нет, нет, игемон, – весь напрягаясь в желании убедить, заговорил арестованный, – ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал. <…>
– Левий Матвей, – охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей…» (Глава 2 «Понтий Пилат»)
Однако, во-первых, Иешуа Га-Ноцри солгал что пергамент «козлиный». Таких никогда не было. Во-вторых, на пергаменте Левия Матвея не было записано ничего такого, что не говорил бы Иешуа Га-Ноцри. Если конечно бродячий философ действительно в него заглядывал, а не ляпнул, лишь бы отвести подозрение от себя.
„– <…> покажи хартию, которую ты носишь с собой и где записаны слова Иешуа. <…>
Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул <…> записанное представляет собой несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел: «Смерти нет… Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты…»
<…> «Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл…»
<…> В последних строчках пергамента он разобрал слова: «…большего порока… трусость»“. (Глава 26 «Погребение»)
Тем не менее, если бы к этому оговору Иешуа Га-Ноцри, что в пергамента содержался призыв разрушить храм, прокуратор прислушался, то Левию Матвею грозила бы смертная казнь через повещение.
После прочтения статьи Латунского «Воинствующий старообрядец» о романе мастера, Алоизий Могарыч решил воспользоваться случаем и написал жалобу с ложным сообщением о том, что мастер хранит у себя нелегальную литературу. В половине октября мастера задержали, но спустя три месяца, в виду отсутствия улик, освободили. Тем не менее, этого времени Алоизию Могарычу оказалось достаточно, чтобы занять квартирку мастера. «…впереди меня и внизу – слабенько освещенные, закрытые шторами мои оконца, я припал к первому из них и прислушался – в комнатах моих играл патефон». (Глава 13 «Явление героя»)
Итак, Иешуа Га-Ноцри оговорил Левия Матвея, а Алоизий Могарыч оговорил мастера. В обоих случаях следствие не поверило в оговор и отказалось от ложного обвинения. Однако, степень оговора журналиста все-таки была меньше, чем бродячего философа. За хранение нелегальной литературы мастер мог бы получить срок, а вот Левия Матвея могли бы повесить.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе