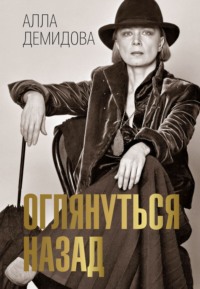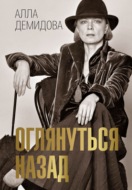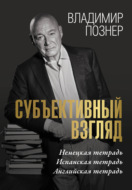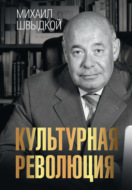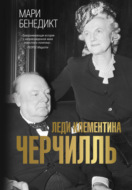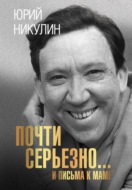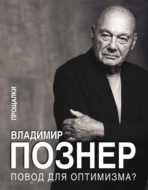Читать книгу: «Оглянуться назад», страница 9
Но наиболее трудное время – когда в театре ничего не репетируется. А ведь и в самые сложные периоды на доске расписаний всегда были объявления репетиций. Это закон театра: с десяти до трех должны быть репетиции. Пусть даже не нового спектакля, а ввод, скажем, четвертого состава на пятнадцатую роль, установка света, монтировка, все что угодно.
Мы много ездили, однако возили в основном «Бориса Годунова», а в нем занято не так уж много актеров. В труппе – 80 человек. Думаю, что бесконечные простои многим актерам грозят душевным сломом, душевной болезнью. Актерская профессия вообще на грани каких-то психологических бездн. Если не удержаться на этой грани, можно очень легко потерять профессию.
– Какой выход?
– Начать все заново. Или – набраться терпения и ждать, когда кто-то прорвет ленту нового языка выразительных средств, как это случилось в середине шестидесятых. Тогда все ринутся в эту узкую щель. Она уже определилась, вернее, понятно, куда идти.
– Куда же?
– Это было понятно еще в семидесятые годы, когда мы стали отделять себя от стада, стадного сознания и когда человек подсознательно стал ощущать себя не то что индивидуальностью, но как бы ответственным за свою судьбу, собственные поступки. Это раньше была надежда на коллектив – хороший или плохой, а тут человек столкнулся один на один с жизнью, он должен все решать сам, прислушиваться к собственной судьбе, к собственному внутреннему голосу, быть ответственным за собственные поступки не перед обществом, а в первую очередь перед собой.
Это отделение индивидуального сознания от коллективного и ставит, на мой взгляд, задачу перед нынешним театром.
Людям обязательно нужны подпорки, потому что очень страшно оказаться один на один с Космосом, Богом. Многие сами стали искать эти подпорки – кто в ортодоксальной религии, кто в философии начала прошлого века, кто предпочел эмиграцию, успокаивая себя иллюзией, что на Западе можно начать жизнь заново…
Нам всю жизнь внушали, что самое главное в мире – человек, а если и есть Бог, то он человекоподобный. На самом же деле человек маленькая песчинка. Если предположить, что наша Земля – живое существо, то мы на ней – как микроэлементы на нашей коже, которые и глазом-то не видны. И вдруг эти элементы вообразили, что они самые главные?! Да, у них есть своя структура, своя жизнь, схема этой жизни. Они живут по своим орбитам и как бы ничего не должны изменять, а кто изменяет, тот гибнет. И человек – точно в такой же сетке. Он живет в маленькой ячейке огромного мироздания, огромной иерархии. Каждому дана своя ячейка, и конечно же, надо почувствовать себя в ней…
Я очень люблю кошек, собак, всех зверей. Они у меня всю жизнь, и я за ними наблюдаю. У них такие же судьбы, как и у нас. Они так же страдают, как и мы, болеют, радуются, продолжают род, выполняют свое предназначение в этой жизни. Но не все люди это понимают. Вы замечали, сколько раздавленных трупиков лежит сейчас на подмосковных дорогах? Множество. Такого раньше не было – а я уже сорок лет за рулем. Уверена, что даже самые бессердечные люди поостереглись бы, если бы увидели перед собой на дороге маленького ребенка. А на кошку или собаку многие, не задумываясь, наезжают, давят, калечат и, не останавливаясь, уезжают. Это удивительное невключение в общее мироздание. Закостенелое представление, что ты – человек и ты, мол, царь, бог, поэтому тебе все дозволено. Я уж не говорю об элементарной жестокости, которая убивает душу.
Все можно свести к примитивной логике. Скажем, Достоевский говорил, что нельзя убивать старуху-процентщицу, если она даже никому не нужна. – А почему, собственно, нельзя? Кто это сказал мне, что нельзя? – Да Бог сказал! – А Бога-то нет.
Всё. Разговор кончен. Где правда? Если Бога нет, то попробуйте кому-либо доказать, что он не прав. И что нельзя убивать и давить наших маленьких братьев – кошек, собак, ежей, зайцев и т. д., потому что они тоже творение Бога, как и человек.
Вот почему мне кажется, что всем нам надо возвращаться к первоосновам человеческого бытия, иначе жить станет невозможно. Наступит каменный век. Правда, думаю, и в каменном веке люди соблюдали определенные правила общежития, иначе бы не выжили.
– Вы так остро чувствуете неблагополучие в театре, а пытаетесь ли сами что-то изменить в нем?
– Изменить ничего нельзя. И вот что меня еще крайне огорчает. Мы играли «Трех сестер» много лет. В первые годы нас приходила смотреть публика элитарная, что тут скрывать. Я старалась играть так, чтобы зрители поняли новое решение – задачу, которую я ставила перед собой в этой роли. Потом в театр стали приходить просто неразумные дети. Они воспринимают только то, что слышат. Действие спектакля полифонично, происходит одновременно и в центре сцены, и по бокам. А я вижу, что зал смотрит только на того, кто говорит. И даже в финале, когда открывается полстены и видно Садовое кольцо, зрители даже не смотрят туда, они не понимают, для чего все это, а следят за актерами, как мы раскланиваемся, какие цветы кому приносят. Это абсолютно детское восприятие театра. Чувствую по реакции зала, что публика не знает, чем все это закончится, ей сюжет подавай – интересно, покинет ли Вершинин Машу или нет…
Вы спрашиваете, как я чувствую свою миссию? Для меня она, видимо, в том, чтобы не изменить своей профессии, собственному взгляду на нее. Она со мной живет. Она мудрее меня, ведет меня, заставляет мучиться. Вот говорят, что я занимаюсь самоанализом. Это профессия заставляет меня заниматься им. Необходимость анализировать свои ощущения, поступки приучает к концентрации психологических мотивов того или иного характера.
В поисках утраченного времени…
Я боюсь праздников. Это странно, потому что мало кто не любит праздников и приятных людей у себя в гостях. Но я боюсь даже не потому, что это связано с хлопотами, естественными для хозяйки, а на них часто нет ни времени, ни сил, – скорее потому, что неизбежно бывает момент, когда уходит последний человек и наступает тишина, становится пусто…
Наверное, мы все-таки не умеем по-настоящему веселиться. Собираясь даже на праздники, люди приносят с собой груз повседневных забот, разговоры, которыми мы живем в будни, те же будничные мысли. Даже приходим мы друг к другу в будничных одеждах. Какой же это праздник? И естественно, остаются на душе всякие «осадки».
Когда кому-то из нас исполнялось тридцать семь лет, мы задумали «вечер 37-го года» (этот человек родился в 37-м году). Должны были быть те же одежды, что в 37-м (как мы это знаем по рассказам и кино), та же еда, те же танцы… Такой театр для самих себя. Мы все много про это говорили, со знанием дела обсуждали, а «вечер 37-го года» так и не состоялся. Куражу не хватило…
Илья Авербах даже фантазировал фильм на эту тему, прорабатывал детали праздника, продумал меню, музыку и распределил, кто кого должен изображать. «А в конце вечера, – говорил он, – стук в дверь – и входит человек в энкавэдэшной фуражке». Я помню, что никто не хотел быть этим человеком.
Достали патефон, старые пластинки. Миша Коршунов, присутствовавший при этих разговорах, вспомнил, как они жили в Доме на набережной и как до войны собирались в компаниях танцевать под патефон. Еда была в складчину. Однажды кто-то принес заморские консервы. Все с вожделением уставились на эту банку. Когда ее стали открывать, оттуда послышалось шипение, а как только открыли полностью – из нее выкатились два теннисных мяча. То-то было разочарование… Никто тогда не знал, что теннисные мячи для соревнований консервируют.
Ощущение дома… Оно меняется со временем. Сначала мы жили в маленькой комнате на улице Осипенко. Потом – у бабушки, но это – в гостях. Я все время стеснялась; стеснялась есть, всегда была голодная. Из-за отчима довольно рано я ушла из дома и стала скитаться по углам, снимать комнаты.
Однажды мы с приятельницей пошли в Третьяковку на выставку Анатолия Зверева, потом сидели в уютном открытом кафе под цветущей яблоней (это в центре-то Москвы!), пили чай с домашним пирогом, и я вспомнила, как жила на углу нынешней Третьяковки в двухэтажном доме с печным отоплением, – там я сняла свою первую комнату. И каждый раз я вставала, умывалась холодной водой, глядела на бывший особняк Демидовых (теперь библиотека Ушинского) и бежала в университет. Так я скиталась.
За «углы» просили очень мало. Когда мы с Володей стали мужем и женой, я была уже студенткой Щукинского училища, а Володя был исключен из ВГИКа за «антисоветскую пропаганду» (они с друзьями сделали шарж на «ленинские» фильмы), но мы на мою щукинскую стипендию ухитрялись снимать даже не комнаты, а квартиры. А как-то мы переехали в Каретный ряд в дом Большого театра – в огромную четырехкомнатную квартиру без мебели.
В четырех комнатах можно было открыть все двери и ходить по кругу. И мы на велосипеде катались по этим комнатам.
У одних знакомых я выменяла два низких чешских кресла на свои туфли. Володя и наш друг Юра Зерчанинов несли эти кресла на голове. Устали и где-то на Садовом кольце, не доходя Каретного ряда, сели в них, стали разговаривать. Я пошла их встречать и вижу: они сидят в креслах посреди тротуара, курят и беседуют. И все их обходят. Тут Зерчанинов рассказал, как они с приятелем переносили диван с одной стороны улицы Горького на другую. А в это время по улице шла первомайская демонстрация и перейти было нельзя. Приятель ушел, а Зерчанинов остался сторожить диван. Он постоял-постоял и сел. Затем он лег, а демонстрация продолжалась. К нему подошел милиционер и спросил: «Что вы тут делаете, на диване?» И Юра ему объяснил. Милиционер все хорошо понял и отстал. Вот такие были времена…
Потом, опять-таки с Зерчаниновым, мы на Преображенском рынке купили огромный буфет, трехэтажный. Как мы его приволокли – не понимаю. Буфет занял полкомнаты, и в нем можно было жить – он сам был однокомнатной квартирой. Он нам заменял всё, иногда в нем на нижней полке кто-то спал. Но когда, после многолетних скитаний, мы наконец купили кооперативную квартиру на улице Чехова, то смогли взять только верх Карлуши (так мы прозвали буфет), потому что все остальное не входило в самый большой грузовой лифт. Верх Карлуши до сих пор живет у меня на Икше.
В кооперативе на улице Чехова, который таксисты называли «Актерская тишина» – дом стоял на самом шумном перекрестке, – нам досталась квартира на шестнадцатом этаже. Вид открывался потрясающий. На всю Москву, на крыши. А на противоположном доме было написано: «Вперед, к победе коммунизма!» Как-то моя французская приятельница Николь Занд, корреспондент «Le Monde», спросила: «Как вы можете жить с таким видом из окна?!» (Окно было во всю стену.) Я говорю: «Вид прекрасный – небо, крыши, отрываешься от всего земного». Она: «Да, но эта надпись…»
А я, оказывается, ее просто не замечала. Мы вообще многого тогда не видели.
Не видели – подсознательно охраняя свою жизнь от всего случайного, наносного. Именно подсознательно… Я помню, как мы, школьницы – я и моя подруга, – идем в баню с тазами и чистым бельем под мышкой, а вся Москва гудит и плачет – хоронят Сталина…
Или, помню, с той же Николь Занд едем по набережной на другом берегу Москвы-реки. Едем в сторону «Ударника». Закат. Красное небо. Белые церкви Кремля. Сверкает вода реки. Красота немыслимая! Говорить в такие минуты – кощунство. И вдруг моя Николь: «Ха-ха-ха, это набережная Мориса Тореза, ха-ха-ха…»
Я, прожив все детство рядом с этой набережной, не замечала (вернее – не хотела знать), что Кадашёвскую набережную во что-то переименовали. Она для меня всегда оставалась Кадашёвской. Но… я Николь «простила» – она жила в другой стране; хотя ездить долгое время по этой набережной мне было почему-то неприятно…
В Москве в конце семидесятых были отзвуки румынского землетрясения, мы жили тогда уже на улице Чехова. Пили чай на кухне и, когда люстра закачалась, поняли, что начинается землетрясение. Взяли кота, спустились вниз и стали обсуждать с лифтершей и с такими же высыпавшими из квартир испуганными людьми, что дом может рухнуть. Но нам не приходило в голову, что дом может рухнуть на нас. Это была безумная беспечность молодости. Одно время у нас был очень открытый дом. Просто незапертые двери. Помню такую ночь: пришел пьяный Миша Козаков, потом еще кто-то незнакомый, потом целая компания из Дома кино. А на маленьком диванчике спал Боря Хмельницкий. Утром зашла к нам мама и увидела спящего Хмельницкого. Ее это так поразило, что она стала более отстраненно относиться к нашей жизни. А Боря встал и застонал – он спал мертвым сном, согнувшись в три погибели. Мы пришли на Таганку, и он начал всем на это жаловаться. Тогда Высоцкий – в ответ – рассказал, как однажды ему не к кому было пойти ночевать и он вспомнил, что одна его знакомая живет в Переделкине. Приехал туда уже ночью. Увидел низенький заборчик, но щеколда была с другой стороны. Он перекинулся, чтобы ее отпереть, и… заснул. Проснулся – было уже светло. «И, – рассказывал Володя, – я вишу на этом заборчике, а разогнуться не могу – все затекло. И я кричу! Меня сняли…»
В то время у нас часто бывали такие игры. Например, кто придумает самую противную позу. Тогда выиграл Высоцкий. В другой раз, помнится, мы поспорили: какой самый противный звук? Выиграла Наташа Рязанцева. Она сказала: «Самый противный звук – это когда вчерашние макароны кладешь на сковородку и они, слипшиеся, говорят: “Хлюп, хлюп, хлюп”».
И вот я обустраивала эту нашу двухкомнатную квартиру. Все друзья ее очень любили. В маленькой прихожей одна стена была зеркальная – она увеличивала пространство. А на тринадцатом этаже, в трехкомнатной квартире, жил Визбор с женой, Женей Ураловой, и дочкой. Потом, когда они разошлись, Женя переехала в нашу квартиру, Визбор – к новой жене, а мы – к Визбору. Его квартира была обычная, обустраивать ее было не так интересно.
Жила в Ленинграде ни улице Рубинштейна Раиса Моисеевна Беньяш, очень известный в свое время критик. Писала книги по истории театра – о Мочалове, о Стрепетовой. Из современников много писала о Товстоногове, дружила с ним.
В Москве она почему-то отметила меня и написала очень неплохую статью о «Деревянных конях». Я такими исследованиями не избалована, на меня было много комплиментарных рецензий, а подробный разбор роли – только у Гаевского, когда он написал о Гертруде, увидев то, что было в каких-то моих подсознательных наметках – белую ночную птицу со сломанными крыльями на фоне темного занавеса. И когда я прочитала его статью, я просто усилила этот рисунок. Также и Беньяш, написав о «Деревянных конях», сакцентировала какие-то вещи, которые были у меня в подсознании, и помогла мне их выявить. У нас завязалась переписка. Каждый раз, когда она приезжала в Москву или я – в Ленинград, мы с ней встречались. Она как-то сказала, что завещает мне все свое имущество, я от этого отказалась – была совершенно не приспособлена, чтобы что-то перевозить из Ленинграда в Москву. Тем не менее после смерти Раисы Моисеевны ее душеприказчик передал мне лампу а-ля пушкинский шандал и уникальный барельеф Ахматовой – его сама Анна Андреевна подарила Беньяш после Ташкента, где они вместе были в эвакуации.
Мне передали и мои письма к Раисе Моисеевне, в которых я увидела некоторое мое подыгрывание ее властности. Соблюдались роли: «критик» и «актриса». Хотя все равно я делала все по-своему. Например, она приехала на репетицию «Вишневого сада». Моего легкого, развевающегося костюма еще не существовало, а мне было удобнее репетировать в брюках. Для нее это был шок: Раневская в брюках! Она мне об этом сказала, я покивала, соглашаясь, но даже не стала объяснять, что это потом уйдет, главное – чтобы осталась современная пластика.
Из моих писем к Раисе Моисеевне Беньяш
Дорогая Раиса Моисеевна!
Спасибо за письмо. Как всегда, к сожалению, отвечаю с опозданием, но уж больно много переездов было в последнее время в моей, обычно бедной впечатлениями, жизни. Хотя, наверное, только так – в переездах – и можно понять относительность времени, когда оно вдруг растягивается безмерно или, наоборот, проскакивает незаметно. Помню, мы снимали «Чайку», а в соседнем павильоне – «Дядю Ваню». Мы бегали друг к другу смотреть, чтобы не повторяться: если у них светлые, просторные декорации, у нас – маленький домик, набитый мебелью и людьми; если у нас – более-менее костюмы того времени, у них – сплошная фантазия и условность и т. д. (В данном случае мы сильно проиграли, но не об этом речь.) Каждый раз, проходя мимо их павильона, я видела Смоктуновского, сидящего в одной и той же позе в кресле и бесконечно ждущего начала съемок (так я его в работе и не видела).
– Ну как, Иннокентий Михайлович, дела?
– Да всё ужасно, Алла, меня плохо подстригли, воротничок у рубашки отвратительный, режиссер ничего не понимает…
Я уехала на неделю в Италию. Прожила по впечатлениям и встречам за эту неделю год. Приехала. Продолжаем съемки. Прохожу мимо павильона «Дяди Вани» – в том же кресле и в той же позе сидит Смоктуновский.
– Ну как дела, Иннокентий Михайлович?
– Да всё ужасно, Алла, меня плохо подстригли, воротничок у рубашки отвратительный, режиссер ничего не понимает…
Этот фокус мы хотели показать в фильме «Ты и я» Шпаликова – Шепитько, когда я – жена Катя – остаюсь в Москве и проходит день. А за этот день у моего сбежавшего мужа, которого играл Леня Дьячков, на стройке в Сибири – полжизни (отбивали натурой – зима/лето). Зрители так ничего и не поняли: почему это я продолжаю звонить домой и удивляюсь, что мужа нет (сбежал он тайно). Вот и сейчас мне кажется, что за эти полмесяца прошло много лет («Какие новости, Володя?» – «Никаких». – «Не может быть!»). Мне странно писать письмо, потому что надо рассказывать много.
Была в Югославии. И так как поехала против воли, было хорошо. Сначала фестиваль кино, куда я и была приглашена. Это было приятно своею бездельностью, но тем же и утомительно. Затем поездка по стране, сказочный Дубровник, художники, а потом в Белграде – международный театральный фестиваль «БИТЕФ». Открывал его австрийский театр. Очень красивый, а потому немного скучный спектакль. В белых декорациях, в белых костюмах четверо прекрасных актеров на изысканном и немного утрированном немецком языке играли два часа без перевода. В чистом виде – рациональный театр формы. На следующий день – нигерийский театр. Наивный, фольклорный спектакль, за которым, как за играми детей, с интересом подглядывала, иногда раскрыв рот от удивления. Но они и вовлекли в свои игры. Я, как и все, что-то кричала, хлопала, топала и т. д. Выплеск эмоций. Но вот странно: прошло время – нигерийцев я забыла, а в глазах стоит со всеми подробностями спектакль австрийцев: до того это, видимо, было прекрасно. От нашей страны без спектакля были Комиссаржевский и Завадский. Последний мне рассказал, что Эфрос будет ставить у них в театре по договору пьесу Радзинского и так, постепенно он (Завадский) подготовит после себя смену.
Я бы с удовольствием осталась до конца фестиваля, где, по слухам, на американском спектакле «Медицинское шоу» актеры бьют зрителей дубинками, выражая этим вековую ненависть к публике, и с удовольствием даже приняла бы эти дубинки, потому что была бы в данном случае на стороне актеров, – но надо ехать на гастроли, и я, с самолета в самолет, очутилась вместо Сербии в Туркестане. Климат сего края жуток. Жар снедает, а пища груба, отчего живот мой пришел в плачевное состояние. Вот петрушка! – и сербияне едят остро, однако ж – ничего; воистину дым Отечества не всегда сладок бывает и приятен, а именно – когда это дым перегорелых шашлыков ташкентской выделки.
Даем мы здесь по два спектакля на день, да еще несть числа благотворительным концертам.
Землетрясение пошло на пользу Ташкенту – появились красивые дома.
Раиса Моисеевна! Простите за этот пижонский листок, который случайно оказался в чемодане, а в здешних магазинах и бумаги-то никакой нет, правда, может быть, не знаю, где искать.
Самарканд меня опечалил: как же рядом с такой красотой сегодняшние дома строят? Контраст ведь не только в архитектуре. И мы у себя в театре всё новые Америки открываем. И гордимся этим! Воистину, знаменитая фраза Канариса о Гитлере – «Помешан на самом себе» – никого бы сейчас не удивила, потому что ко всем относится.
Сейчас пишу Вам и думаю: что это меня на какой-то не свойственный мне стиль письма тянет, а потом разобралась – это я Вашему XIX веку подсознательно подыгрываю («я даже ямбом подсюсюкну…»).
Засим у нас последует гастроль в Алма-Ате. И что согревает меня в трудные минуты и дает охладу разгоряченному уму и телу моему – так это першпектива махнуть после Алма-Аты в Ялту, ибо имею на то две недели вакаций. Ах, Ялта! Не было бы там дождей и штормов, а любовь моя к сему прекрасному уголку Тавриды пересилила бы и дорожные невзгоды, и неясность в смысле жилья, кою, впрочем, думаю решить, попросившись на постой в Литфонд.
Ах, кабы могла спросить Вас о предмете нового труда Вашего… Нет сомнения, что оный куда человечеству пользительней, нежели экзерсисы о недостойной моей особе!
Нет, серьезно, Раиса Моисеевна, о чем бы Вы теперь ни писали, в моем лице Вы найдете самого пристрастного читателя (хотите Вы этого или нет); и простите меня за баловство, ничего всерьез написать не могу, жара и усталость разморили. Вот ужо, вернувшись в Москву, ежели позволите… А может, дай бог, и свидимся.
Засим Вам преданная и Вас уважающая остаюсь – Алла Демидова.
P.S. Письмо посылаю уже из Алма-Аты. Здесь всё то же, только в отличие от Ташкента – холодно. Из моего окна, когда ясная погода, видны снежные горы. С утра от них очень светлое душевное состояние (по-моему, в Салернском кодексе здоровья XIV века написано, что если хочешь душевное равновесие сохранить – утром смотри на горы, а вечером на воды).
Как Вы думаете, Раиса Моисеевна, можно быть добрым пессимистом? Это я, тесно с моим коллективом пообщавшись, Вас спрашиваю.
Еще раз – всего Вам доброго.
05.10.1973.
Раиса Моисеевна!
Я знала, что Вы хворали, но все думала, что буду в Ленинграде и навещу Вас, да и звонила из Москвы несколько раз, но все как-то неудачно. А теперь сижу в Будапеште в кафе на какой-то площади (в Будапеште я уже десятый день, но не научилась выговаривать названия этих площадей), накрапывает дождь, воскресенье, венгры, как сытые голуби, воркуют на непонятном мне языке. Немного грустно и, как всегда, одиноко. Каждый вечер хожу в театры. Их тут 25. Последний так и называется «Театр-25». Очень похож на «Таганку» – такие же молодые и не очень талантливые ребята, но с поисками и претензиями. Театры в основном все одинаковые. Главное – везде замедленные ритмы, а я от этого физически страдаю. В одном театре весь вечер не высиживаю – бегу в другой. Так за вечер успеваю посмотреть два-три спектакля. Но ужасные сонные ритмы сравнивают различия в этих постановках. Я тут по приглашению местного театрального общества, так что могу позволить себе это баловство. Ехать мне не хотелось, но поехала, чтобы не играть первые спектакли «Обмена», чтобы меня не видела хотя бы критика. А так как играю я плохо, да и театр наш вроде бы едет в сентябре в Венгрию, то Любимов меня отпустил (охотно или нет – не знаю) как бы лазутчиком – проверить театральные настроения в Будапеште. Мы тут, видимо, пройдем (хотя языковой барьер ужасающий), потому что совсем нет режиссуры, кстати, может быть, поэтому есть много хороших актеров. Любимова собираются пригласить в Вигсинхаз («Веселый театр» – местный МХАТ) на постановку «10 дней…». По-моему, он об этом еще не знает. Я везу для него письмо-приглашение.
Ах, Раиса Моисеевна, какой мне сейчас кофе подали! Такой я пила разве что в Дамаске, где даже стены домов пахнут кофе. Все-таки, видите, есть и у меня радости.
В начале мая я буду, видимо, в Ленинграде у Шустера4 – расскажу Вам об «Обмене». Любимов доволен, многие хвалят и даже в восторге… Но там нет ни одной актерской работы, а без этого, на мой взгляд, современного театра не может быть. Это вчерашний день, когда театр играл только в режиссуру. Хотя в спектакле есть прелестная третья картина – ностальгия по хорошим, воспитанным, культурным людям (что-то от Чехова). Мне очень приятно, что у Любимова это есть, жаль, что так мало. А впрочем, это для устного разговора, в письме все выглядит у меня очень уж примитивно.
Решила я Вам написать, как только вошла в номер и увидела прелестные конверты и бумагу в бюро, но тут же вспомнила, что не взяла Вашего адреса… Так что не удивляйтесь, если мое будапештское письмо Вы получите уже из Москвы.
Надеюсь, что к этому времени Вы уже будете здоровы. Вера Шитова мне сказала, что вроде бы Вы собирались в Ялту? Это хорошо и для Ваших легких необходимо. Вам бы вообще надо жить в Ялте весной и осенью. Там бы и работалось лучше – не было бы отвлекающих звонков и общений.
Мне пора. Бегу на «Записки сумасшедшего» с Дарвашем в главной роли. Сейчас мне остается написать: «25 числа, месяца не было и дня тоже», и смутная ассоциация, возникшая у меня в голове, окажется законченной.
Всего доброго.
Ваша Алла Демидова.
29.04.1976.
Раиса Моисеевна!
Пишу, как Вы понимаете, на гостиничной бумаге, из Лиона, в который мы вчера приехали. В Париже несколько раз порывалась Вам написать – не собралась. Париж закрутил. Лион после него кажется Рязанью. Захотелось домой.
Пресса была разная, я за ней не очень следила. Писали много, но всё, по-моему, несерьезно. «10 дней…» не приняли. Опять-таки, на мой взгляд, по поверхностным причинам. Интерес публики нарастал постепенно, и к концу можно было бы продолжить играть дальше, но мы переехали в Лион, потом – в Марсель. Посмотрела несколько хороших спектаклей. «Дэвид Копперфильд» в театре Мнушкиной, но поставленный ее ассистентом, – очень чистый по стилю. И как всегда бывает в спектаклях, где прием задан вначале, – немного скучный. «Король Лир» Стрелера (его театр в это время гастролировал в Париже) – очень красивый спектакль, но немного «воговский» (не знаю, как пишется по-русски название журнала), вторичный. В коже, как у Питера Брука, но там это выглядело первичным. Очень милый спектакль «Печальное сердце английской кошки» – в прелестных масках. По пластике получилось: кошки, собаки, птицы переоделись в человеческие платья и разыгрывают старый английский роман с тетями, дядями, любовью, дуэлью, смертью и разочарованием. Посмотрела арбузовскую пьесу «Пароход из Лиепаи» (забыла, как А.Н. ее назвал по-русски. Пьеса на двоих. Два пожилых актера) в бульварном театре «Comédie des Champs-Élysées». Мелодрама. Играют в старой манере традиционного театра. Но публика, правда буржуазная, принимает очень хорошо. Вообще я заметила, что зрители устали от условного театра и «психоложества» и все наивное, простое, немного детское принимают очень хорошо.
Ходила по улицам, сидела в кафе, встречалась с людьми совершенно разными, которые ничем между собой не смешиваются. Но интеллигенты во всех странах мира одинаковые, и их дома тоже. Один вечер провела с Ниной Тихоновой5. Несколько раз – с Вашими родственниками. Нора подарила мне кучу вещей. В кино была мало – не хотелось, но видела три-четыре приличных фильма. Хороший кинематограф сейчас, мне кажется, несколько топчется на месте и в тупике – нужны другие выразительные средства. Сейчас всё на уровне «хуже – лучше».
Раиса Моисеевна, что-то не пишется. Простите. Когда в хорошем настроении – бегаю, общаюсь, смотрю; когда в плохом – не до письма. Ехать мне не хотелось, Вы знаете. Во многом оказалась права…
Алла Демидова
30.11.1977.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+22
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе