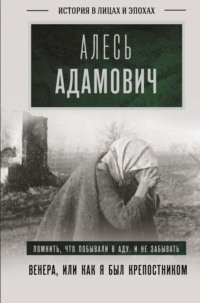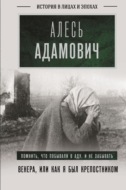Читать книгу: «Венера, или Как я был крепостником», страница 3
– Смотрите, хлопцы, колёса какие у него! Хром!
Знать бы Зубрицкому, что через какой-то месяц будет лежать в этих «колёсах» и в своём этом сером плаще среди поля с пулевой дыркой над переносицей – комиссар выстрелил в него, прямо с лошади. Зубрицкий сбежал с поста у речки, испугавшись, что немцы уже переправились ниже или выше. Откровенно струсил. И сразу, как это у нас бывало, вспомнили: полицай бывший, что его жалеть, что тут разговаривать!..
А пока на земле опрокинуто лежал не Зубрицкий, а «жених» с задранной по-лягушечьи ногой, с неё Зубрицкий старательно стаскивал сапог. «Жених» не отдаёт, поджал пальцы, не отпускает. Вертится на спине и смотрит, смотрит на нас: не мольба о помощи (мы для него одна стая), а только страх передержать сапог и боязнь, что в него внезапно выстрелят.
Долго, отвратительно долго это продолжалось, пока кто-то не схватился за вторую ногу: тогда только отпустил. Зубрицкий быстренько сдёрнул свои сапоги и швырнул «жениху»: танцуй.
Не помню уже, кому «колёса» и достались, когда застрелили Зубрицкого. Хорошую обувь у мёртвых отнимали, как и оружие.
…Я не выдержал, пошёл вроде к ведру, водички попить. Выглянул в сени: дядька, как подвешенный, высоко держась за стояк-палку, яростно что-то мелет в жерновах. Но ничего не сыплется из лотка, да и засыпал ли он чего, – похоже, что не зерно, не жёелуди перетирает, а меня и тех паричских полицаев, что забрали у него костюм.
Эх, дядька, на тебя бы Зубрицкого!
Выскочил на улицу, проклиная маменькиных сынков, всех, какие только есть, бывают. И кто в партизаны таких берёт, кто им винтовки даёт?
… – Ох, и видок у вас был, когда через шлях бежали!
– На вас что, собак спустили?
– Нет, кто молодец, так это Новичок, смотрите!
Новичок действительно исхитрился – в тазике припёр сметану. Аж ботинки, штаны заляпал, как маляр. А ещё в придачу – топор за поясом. И пилу бросил на землю, аж запела. Вот тебе и новичок. А ты? Хорошо, что никто на меня не обратил внимания. А ещё эти торчащие из ботинок пальцы. Ничего, до зимы далеко. Ещё дожить надо. Как у нас любят говорить.
Зимой это и случилось. Но не о сапогах речь. Однако всё по порядку. Кто в лесу не зло́дей9 – в доме не хозяин! Известная мудрость, крестьянская. Ну, а где дом партизана? В лесу. Так что он меньше нуждается в оправданиях, чем даже мужик, который такую поговорку придумал.
Было это, когда фронт приблизился к самой Березине. По ту сторону реки наша армия, по эту – мы, партизаны, а немцы справа и слева: в Бобруйске, в Паричах. Диспозиция – как и тогда, во время нашего комсомольского похода. Только уже зима и армия рядышком, а полицаи разбежались, разогнаны; ездим за реку, гоняем туда коров, отнятых у немцев, полицаев (а они отняли у населения), привозим боеприпасы, трофейные пулемёты немецкие, американские консервы. Такая жизнь началась. Партизанская жизнь движется явно к завершению, а у меня по-прежнему – ни автомата, ни смушковой кубанки! На ногах, правда, сапоги: мама упросила отрядного сапожника пошить – из коровьей сыромятины.
Разместился отряд наш в бывшем полицейском гарнизоне. Полицаев – кого убили, кто убежал, а семьи их остались в деревне. В их хатах мы и поселились. Картошка хозяйкина, ещё полицай заготовил, мясо, консервы – наши. Так и живём в окружении детишек, отцов которых мы перебили, разогнали. А они наше оружие рассматривают с нормальным детским восторгом.
По соседству с нашей деревней, за леском, деревня с таким же названием – Ковчицы, но только, Вторые. Или: Еврейские. До самой войны евреи жили, 36 семей из 150-ти, хотя многие уже перебрались в Паричи, в Бобруйск. В колхозе работать остались в основном те, кто переженился с белорусами. Их перебили немцы и полицаи в августе 1941-го. Наш отрядный сапожник как раз из этой деревни, так он рассказывал: его мальчик нёс коньки в кузницу, увидел сосед, подозвал:
– Знаешь, отдай моему Кольке коньки, тебя всё равно убьют.
Заплакал мальчик, убежал. А тот чмур вступил-таки в полицию, бегал потом и отлавливал соседей-евреев. У дядьки, сидящего перед своим домом, спрашивает, мол, не видел нашего соседа Рубина, куда своих увёл? Видел, а как же (а семья Берки Рубина у того дядьки на чердаке пряталась), в лес убежали, куда ж ещё.
– Теперь ты будешь бегать.
Как в воду глядел. Мы перебили полицаев (и в белорусских, и в еврейских Ковчицах).
А потом фронтовые немцы и власовцы перебили и сожгли семьи полицейских. Уже не разбирались. Но это потом, когда выперли нас, и ворвались в Ковчицы.
Это случилось через три дня после того, как меня должны были расстрелять – за то, что стащил комиссарову смушку. Кто в лесу не злодей, того не расстреливают.
А случилось вот что. Всё с тем же Короткевичем мы патрулировали со стороны близко подступающего к Ковчицам Белорусским леса. Бредёшь, как зимний волк, по глубокому снегу, останавливаешься, прислушиваешься, представляя, как кто-то там возле леса тоже слушает твои шаги и шуршание снега, кашель деда. Да нет, не волк ты, а как раз дворовая собака – первая добыча волка.
Замёрзнем, надоест бродить во тьме – заворачиваем в ближайший двор, где свет коптилки или лучины мерцает, обогреться, а Короткевич – покурить чужого самосада.
В одной избе задержались подольше. Ещё бы не задержаться: перед хозяином соблазнительная горка табака, крошит и смешивает разные сорта на широкой доске – это зрелище для Короткевича. А мой взгляд заарканен тем, что́ висит на жёрдочке рядом с тёплой печкой. Шкурка с недавно освежёванного барашка. Серенькая, в мелкое колечко – лучше и не надо для партизанской кубанки! Дядьке она зачем?
Косящим взглядом, чтобы не выдать, как забилось сердце, как пересохло во рту, разглядываю свою будущую папаху. «Ягнёнка видит он, на до́бычу стремится» – или как там, в школе заучивал? Кубанка будет не хуже, чем у адъютанта, у комиссара, у всех у них.
Вот так сидели мы в уютном тепле при потрескивающей на загнетке лучине, и каждый был поглощён своим интересом. Но если интересы хозяина избы и Короткевича совпадали – приятно, если твой мультанчик кому-то понравился, и вон как хвалят-расхваливают (а это наш Короткевич умеет), – то наши с собственником овечьей шкурки отношения складывались явно антагонистически. То, к чему устремилась моя душа, все мои помыслы, не разделишь по-братски. Или – или. А как нагло, с каким вызовом развесил такое богатство прямо посреди избы! И что ты из этой шкурки сделаешь, дядька? Шапку – долго ты ею попользуешься! Зря только стараться будешь. Ты что: адъютант или командир? Или хотя бы партизан? Постой, постой, а ты как остался, уцелел? Ни одного мужика в деревне, а ты кто такой? Небось, тоже полицай! Ишь, пригрелся возле печки!
Ни дядька, ни Короткевич, любовно токующие над табачком, не замечают мук, страданий начинающего вора. (Если не считать коллективного, всем классом, налёта перед войной на чужой сад, после которого я хорошенько узнал, каким грозным и недобрым может быть мой отец.) Снова и снова (в мыслях) протягиваю руку к мягкой, волглой шкурке и сую, сую за пазуху (уже приготовил, расстегнул пальто). Повторяю это много раз, вконец обессилевший. Главное, потом спокойно дойти до двери, не бежать.
Глаза, увидевшие вора, – огромные детские глаза в полутьме за печной трубой я заметил, когда уже засунул шкурку под пальто. Смотрим друг на друга с одинаковым ужасом – я и шести-, семилетний ребёнок. Будто и там, на печи, – я. Обречённо прижал отворот пальто и на вялых ногах направился к выходу: дядька, конечно, тоже заметил, все увидели, весь мир видит. Почему меня не останавливают? Вывалился на мороз следом за Короткевичем, оставив в избе своё умоляющее: «Спасибо! До свидания!»
Дальше всё происходило, как в отравленном тумане. Точно забыл смысл случившегося и настолько, что даже не перепрятал уворованное. Так и ходил всё утро, чувствуя на груди тёплое, мягкое, как бы живое. Если чего и боялся, так это – хотя бы на минуту расстаться с партизанской мечтой, засунутой под школьное мое пальто.
И вдруг наш караульный взвод гонят из избы на улицу, строиться. Ничего такого я не подумал, стал в строй, как все. Обеспокоен только Романович, потому что и он не понимает зачем. Но ему и положено волноваться: совсем недавно из отделенного командира стал взводным. Быстро подошёл к нам комиссар, сопровождаемый адъютантом. Я лишь отметил, на этот раз без прежней зависти, что у обоих – кубанки – смушковые. У комиссара – чёрная. Прикинул, что моя будет даже лучше. Если такой же верх сделать, тёмный. Стали перед строем, комиссар чего-то ждёт, молчит. Адъютант у него за спиной. И тут я понял, кого ждут. Наконец я понял, что лучше бы мне на свет не родиться. Ведут нашего дядьку аж двое партизан, как под конвоем. Вид у него испуганно-виноватый, ноги в лаптях и как бы путы на них, кожушок внакидку, вот-вот потеряет, волосы на голове всклокочены, как и борода. Комиссар громко, грозно пояснил, что среди нас вор, а я понял больше: у меня на груди шкурка, которая ему принадлежит, это он отдал дядьке на выделку. В тот момент не до греков было, не до спартанцев, но если бы напомнили мне про терпеливого мальчика, который спрятал под рубашкой живого зайца, а тот ему разодрал живот, – именно я мог бы рассказать, что он при этом испытывал.
– Если кто из наших взял – расстреляю на месте.
В этом можно не сомневаться – наш Василий Юльевич на расправу скор. И мы считаем – справедлив. Вот тогда – Зубрицкого. А в блокаду предупредил: кто на посту уснёт – будить не станем. И застрелил заснувшего. А как иначе? Ну, а если бы немцы незаметно подошли?..
И не так уж дорога ему эта смушка, у него кубанка есть, пусть и чёрная. Расстреляет вора, позорящего народных мстителей. И все, кто стоит рядом со мной, его поймут. Я тоже понимаю. У дядьки я просто взял. Как своё, мне нужное. Кто у них не брал, не берёт? Но оказалось, смушка – комиссарова. Это уже воровство настоящее. Я понимаю. Вот только мама… Счастливец был тот, которого не разбудили. А я должен буду всё видеть, всё! Как рука отщелкнёт кобуру, как поднимет пистолет – это не сразу, это сколько же будет длиться! Впервые с такой силой испытал чувство, которое назвал бы смертным стыдом. То, что вором умру, и мама с этим вернётся домой после войны, – это первое. Но это не всё. Испытал стыд смерти. Некрасив человек умирающий, и он невольно стыдится себя. А тем более – публично убиваемый.
Вот с этим сложным чувством, а не с одним лишь стыдом за воровство или страхом смерти ждал я, когда дядька меня узнает. Именно ради этого его сюда привели. Он стоит как-то на одной ноге, так ему тут неуютно, не по себе, весь скукожился, как аист на болоте в холодный день. Будто он и есть преступник.
– Смотри – кто! – резко, отрывисто говорит комиссар. – Узнаёшь?
И колхозник пошёл вдоль строя. Будто почётный караул принимает – так кому-нибудь могло показаться, кому было весело. Что узнает меня, нас с Короткевичем (мы и стоим рядышком), я не сомневаюсь и жду мгновения, когда добредёт дядька до меня, остановится, может быть, ничего не скажет, а только оглянётся по-собачьи на начальство, как на охотника…
– Расстреляю вора на месте! – не может сдержать гнева комиссар. Дядька аж остановился, умоляюще на нас всех и на комиссара смотрит. – Ищи, ищи!
Догадываюсь, что комиссар, пусть и невольно, но спас меня от им же обещанного позорного конца – вот этим напоминанием про расстрел. Дядька уже шёл, как слепой, смотрел на нас и не видел, такие же слепые от ужаса глаза скользнули и по моему лицу (я ему жалко улыбнулся). Почти обрадованно, облегченно дядька сообщил:
– Не, тут нема. Я не бачу таго.
– Хорошенько посмотри!
– Я вам вярну, я найду другую шкурку, откуплю. – И жалобно попросил: – Даруйце10!
Комиссар сердито махнул рукой и повернулся уходить. Адъютант важно постоял перед нами вместо него, важно погрозил нам пальцем и заспешил следом за начальством.
– Даруйце! – повторил дядька, вопросительно смотрит: можно ли ему уходить? Повернулся и почти побежал по заснеженной улице, ноги в лаптях проваливаются, скользят, он взмахивает рукой, как бы продолжает разговор с самим собой.
Скорее, скорее освободиться от этой гадины! Придерживая воротник пальто, я оглядываюсь, куда направиться. Короткевич, который почему-то не отходит от меня, небрежно так поинтересовался:
– Ты куда спрятал?
Так он знает?! Он сразу всё понял, как только появился наш дядька. Стоял рядом и всё знал. Я показал на грудь.
– Что, при себе держишь? Ну, рызыкант11, я табе скажу!
А так спокойно стоял. У меня и то ноги дрожали.
Вон, каким героем (куда тому спартанцу с зайцем!) тебя увидел Короткевич. Час от часу не легче!
Делая вид, что по нужде туда направляюсь, зашел за пуньку, руку ввинтил в холодную, слежавшуюся кострицу12, которой утеплена стенка, пробуравил, продрал ямку и торопливо сунул смертельную улику туда.
Спас мне жизнь и у меня прощения попросил: «Даруйце!» Не у кого-то, а у меня. Где он потом оказался, мой дядька, что стало с ним? Какая у него жизнь была? Когда мы победили.
– Ох, и видик у вас был! За вами собаки гнались? – всё никак не нарадуются на роскошный завтрак наши нахлебники. Порасхватали опресноки13, хлеб, крынки с молоком, руками гребут творог и сметану, а на топоры, пилы – ноль внимания. Это сразу отметил Романович:
– Лучше кашки не доложь, только на работу не тревожь! Ну, ладно, съел, не съел – поехали. Так, кто топор, кто пилу – парами. Спилили столб – руби провода. Забирай пошире, чтобы по три, по четыре столба досталось. При пулемёте остаёмся: я, вот ты, и вот ты.
И как при массовом забеге – рванули с места. У каждого бегуна, кроме винтовки, ещё и топор или пила. Пила аж воет, изгибается в руке: Ванечка (снова своего «второго» отпустил командир) её держит над головой, как он только шею себе не снесёт. Мой напарник – Новичок, у него пила, у меня топор.
Вот мы на дороге, затаптывая танковую рябь на песке, окружаем столбы, кто к какому добежал, берём их в плен и: шах-шах-шах!.. Новичок совершает самый большой грех неумелого пильщика: пилу и тащит, и толкает от себя, старается мне помочь, а она у него гнётся, и мне только тяжелее.
– Ты не толкай, так только хуже. Пила должна сама идти, – наставляю его точно так же, как когда-то дедушка меня.
Хотя телеграфные столбы из болотной сосны, опилки жёлтые, труха, но пила тупая, плохо разведена, а ещё напарник такой – это тебе не сметану тазиками таскать! Хоть тут чувствую своё преимущество перед горожанином.
Спиленный столб завис на проводах, не достал до земли, раскачивается, как карандаш. Э, чёрт! Ладно, второй свалим – лягут.
Спилили второй столб – завис, зато первый уже на земле. Я бегу к нему рубить провода. Первым делом – по чашкам, как по зубам, обушком! Вот так вам, а вы позвоните, погергечи́те14 по телефону! На земле проволока не рубится, камень подложить. Прости, дядька, что так с твоей секерой15, ничего не попишешь: во́йна, матка! – как немцы говорят, отлавливая курицу на глазах у хозяйки.
Второй столб повалили, третий – только опилки брызжут из-под пилы, разлетаются из-под обушка белые фарфоровые брызги. Эти чашки фарфоровые на столбах магнитом притягивали заводских пацанов, столько раз целились в них из рогаток. И вот – добрался. Смерть немецким оккупантам!
Когда пилишь столб, невольно смотришь на ботинки напарника, засыпанные желтоватыми опилками. Хороши ботинки! И вся экипировка что надо. С умом собирался в партизаны. Не то, что другие: там, мол, на деревьях растут пироги-сапоги-автоматы! А потом бегают, тараща глаза: где бы добыть! Он же со своей винтовкой пришёл (украл у пьяного полицая), зато не довелось, как мне, придурком ишачить на кухне. Его костюмчик, его плащик и эти крепкие армейские ботинки даже нехорошие мысли вызвали у нашего особиста. Семья, говоришь, собирала, мама, бабушка? А не дядя немецкий?..
Трудятся ребята уже во-он где – возле дальних столбов. Перебегают с места на место, машут топорами.
Почти километр столбов уложили в сторону Паричей и столько же – в сторону Бобруйска. Какие-то люди, подводы передвигаются, маячат на шляху вдали, но к нам не приближаются. Человек теперь сразу ощущает, где копится беда. Только мы, кажется, на время потеряли это чувство: энтузиазм, азарт труда-разрушения – он бывает горячее всякого другого. Известное дело: ломать – не строить. Эй, вы там, поговорите, давно не говорили по своим проводам!
Первый выстрел, первая пулемётная очередь, когда бьют по тебе, всегда оглушают неожиданностью. Удар грома, а уже потом посыпалось, как дождь по жестяной крыше.
Из-за горки за первой выскочила вторая машина, ещё и ещё. И сразу разделённый мир, разделённое пространство: зона немецкая, зона партизанская – устремились одна навстречу другой. То, что отодвинуто было во времени, вдруг сошлось, сразу сблизилось – точно перегородку убрали.
«Партизаны смеялись, убегая», – такая же фальшивая метафора, как и «море смеялось». Не до смеха, что и говорить. И всё-таки забавно было видеть, как кто-то всё ещё не бросает пилу и бежит, борясь с нею, как с упирающимся на ветру штандартом, – да это же снова Ванечка! Вот чудак. А Цыбук подталкивает в спину, помогает бегущему по сыпучему песку, буксующему на месте старику Короткевичу.
Будет потом весёлых припоминаний: кто как улепётывал. Ноги мои, ноги, несите мою… «женю»!
Вон как Ванечка колесом пошёл! Закувыркался по земле через голову. Что он делает: изранится своей пилой!
И только тут понял, увидел: не по-цирковому покатился, а совершенно по-собачьи. Как бывает, когда в неё влепят весь заряд, прямо на бегу. Фуфайка его сразу забелела и тут же красными пятнами запылала – клочья выдранной ваты. Точно и впрямь пила зубьями прошлась по нему.
Уже бьёт от леса наш пулемёт – Романович. Туда надо, туда, но Ванечка лежит между твоим спасением, лесом, и тобой – не обминёшь. Цыбук к нему ползёт, а уж он тем более не должен получить удовольствия – увидеть убегающую спину «придурка». Я домчался до Ванечки раньше, дожидаюсь Цыбука и имею право уже им покомандовать: сюда давай, побыстрее!
– Ваня, ты что, Ваня? – звучит голос Цыбука так озабоченно, что я сразу забыл про все обиды, которые от него терпел. Наверно, и ко мне вот так бы обращался. Я уже люблю его, я знаю: если и по мне пройдёт очередь (в любой следующий миг может случиться), никто, как бы я дорог им ни был (мама, брат), никто не будет «выносить меня из боя», а именно он, прежде самый неприятный мне человек. Вот как мы сейчас Ванечку. Я подхватываю за ноги, а надо ещё и винтовку его забрать, тяжело, неловко нести, а нас обсвистывают пули, то с одной, то с другой стороны, хочется упасть и не вставать, но Цыбук прёт вперед, как танк, и надо поспевать, и некогда бояться. Возле леса ахнул взрыв, второй, ну вот, у них и миномёты, самое паршивое. Пулемёт наш выискивают, стараются накрыть: обеспокоились – добежать, доволочь тяжеленную ношу до леса, а там уже радоваться, что ты живой.
Новичка я увидел, когда у нас, потерявших последнее дыхание, перехватили, забрали окровавленного Ванечку. Наш Новичок лежит на земле, странно неподвижный, когда все мы нетерпеливо рвёмся бежать дальше, вглубь леса. Романович удерживает: не все собрались. Ванечка, чьей кровью мы с Цыбуком все измазались, лежит облепленный песком, будто дёгтем, а Новичок – чистенький, ни пятнышка. И только тёмная полоска возле уха.
– Мина. Маленький такой осколочек. Был Илюша, и нету, – удивлённо говорит тихий паренёк в лаптях, в свитке. Даже не знаю, из какого взвода. Этот уже совсем деревня.
Так его Илюшей звали? А мы его ведь: Новичок, Новичок. Что ему теперь скажешь, такому мёртвому. О чём вообще говорят с мёртвым школьником? Я видел, слышал, как деревенская старуха брату своему в гробу, такому же старому, рассказывала про их общее детство, и это было так уместно, понятно. А что, о чём рассказывать Илюше? О старости, которой не будет?
Почему убили именно его? Скажут: новичок, неопытный. Да только это заблуждение, что убивают новеньких чаще, чем многоопытных, обстрелянных. Я же убеждён: у каждого имеется набор удач, вроде набора хромосом. Израсходовал – ничто тебя не спасёт, никакая многоопытность, осторожность. Встречаются люди с одной «хромосомой удачи», видимо, и Новичок из этих. Но «малохромосомному» может повезти, если его шансы будут раздроблены – на ранения. Спросите тех, кого много раз ранило. Убеждены: должны были убить, но повезло. Ранения всегда «вместо». Ранения не укорачивают, а удлиняют жизнь. Должны были убить… По-настоящему смерти не боятся те, кого ни разу не подстрелили. А тюкнуло – вот тут и поверишь, что тоже смертен. И получается вопреки расхожему мнению, что бывалые бойцы бесстрашные. Да нет же, именно потративший шансы, то есть бывалый, и начинает понимать, что́ такое бояться, что вот тот бой уж наверняка последний в его жизни. Простите меня, бывалые, и подтвердите.
Ванечка и теперь отделался ранением. (Он совсем недавно лежал в санчасти.) Но на этот раз его разделали, как никогда прежде. Когда перевязали, невозможно было понять, что у него осталось цело, не затронуто. Все индивидуальные пакеты, у кого только были, потратили. Все оглядываются на пропитавшийся кровью брезентовый плащ Романовича, который у нас вместо носилок: живого ли несём?
А Новичка мы закопали на лесной поляне. Вначале несли обоих. Менялись часто: до чего же тяжёл человек мёртвый. В лесу переночевали и дальше понесли только Ванечку, дышит он часто-часто, в груди хрип, бульканье – вот-вот всё оборвётся.
Кому не позавидуешь, мы это понимаем, так это Романовичу, нашему командиру. Группа и сделать ничего не сделала, а двоих потеряли (Ванечку, похоже, нам не донести живым). Но разве виноват Романович: когда отбирал нас в свою группу, мы же ему справки не предъявляли, у кого сколько «хромосом», шансов уцелеть.
– Хлопцы, вот это да! Чур, мой, я нашёл!
Это Панасевич, наш Цыбук, орёт. Он отошёл в сторонку по нужде и вот зовёт нас посмотреть на какое-то чудо. Не зря шея у этого парня (оттого и «Цыбук») всегда вытянута, как у вожака стаи, самое интересное всегда первый обнаружит.
– Смотрите, какой у меня конь! – всё старается напомнить, чья находка. Как будто, если уж на то пошло, ему достанется. Ни коня, ни пистолета некомандирам, неразведчикам, неадъютантам у нас не полагается. Даже если твой трофей, даже если в бою взял.
Так что не мылься – бриться не придётся. Но, правда, чудо какой конь. Серый, как облако, внезапно опустившееся в темень леса. А по спине, по крупу, – чёрная полоса. Вот так ранней весной оттаивает самый верх заснеженной крыши. И грива подтенена. А нам хоть бы какого, хоть бы колхозного трудягу-доходягу. Руки оборвали тащить раненого, да и ему, может, легче будет, нашему Ванечке, не так больно. А тут при лошади ещё и телега. И сбруя вся как на подбор. В непотёртой ещё, фиолетовой ивовой кошёвке16 улёгся, как барин, новенький хомут со шлеёй. Щедро отделан медными бляшками. И сыромятные вожжи, уздечка, седёлка – всё новое, с блёстками. Прислонённая к колесу дуга покрашена в зелень, и (поверить невозможно!) колокольчики на ней подвешены. Что нас уже совсем добило: спицы и ступицы колёс тоже покрашены.
– Где невеста? Должна быть ещё невеста! – орёт Носов. – Ищи, Цыбук.
– Разгалделись, как цыгане на конском базаре, – ворчит Романович. Но и он тоже, все мы любуемся на серого с тёмной полосой по хребту красавца, кем-то спрятанного от чужого глаза (и конь, и телега спущены в яму-овражек, которая, видимо, осталась еще от [19]41-го, в такие машины, танки, а бывало, что и лошадей укрывали от бомбёжек). Перед мордой у красавца разбросана по земле трава-осока, совсем свежая, зелёная. Разглядели, наконец, и изъян: на левой ляжке лошади – огромный шрам, рубец, похоже, что от бомбы. Сразу вспомнилось, что в первое лето войны на Полесье действовали целые конные дивизии, сбитые с позиций, сдвинутые, как листва с дороги, танковыми, моторизованными немецкими клиньями, располосовавшими Белоруссию и Украину.
– А божачкамойбожачка! – услышали вдруг женские причитания откуда-то из кустов. – Абедныежмыбедные!..
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе