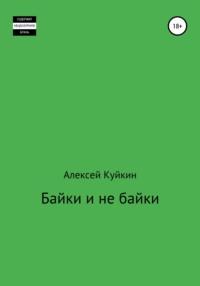Читать книгу: «Байки и не байки», страница 2
Байка
Было это в те далёкие времена, когда Смоленск не был приграничным городом. Между западной частью государственной границы и Смоленском лежала целая Белорусская Советская Социалистическая Республика. Дело было в 1981 году. Как пели когда-то новосибирские КВНщики:
Наш Союз, наш общий дом,
Очень дружно мы живём.
Днём и ночью пограничник
Ходит по цепи кругом.
Ну, так вот, пограничники где-то там ходили на границе, а в Белоруссии шли большие учения. Над Хохлово с рёвом летала масса всего военного. Поначалу обыватели, задирая голову, смотрели в небо, пытаясь понять, что это там такое летает. Самые продвинутые, те, которые смотрели «Служу Советскому Союзу», даже пытались определять типы самолётов и вертолётов. Через пару-тройку дней попривыкли, и внимание на проносящиеся в воздухе боевые машины уже не обращали. На дворе у моей бабушки Анны Степановны петух впал в депрессию. Понуро сидел на заборе, устремив очи горе. Ему хотелось туда ввысь. Проноситься среди облаков вместе с теми странными железными птицами, оглашая окрестности боевым кличем и грохотом. А потом спикировать на соседского пса, дворнягу оборзевшую, да и выполнить на бреющем бомбометание из-под хвоста. Но, сил хватало только взлететь на забор.
Обойдённые вниманием петуха куры, бестолково носились по двору. Иногда собирались в кучу и возмущённо кудахтали. Что ж это твориться в небе-то голубом? Летают туда-сюда, воют да ревут. Совсем нашему мужику голову задурили! Нестись куры естественно перестали от слова совсем. Бабушка задумалась о замене петуха, и уже не раз поглядывала на топор. Не можешь выполнять свои обязанности, добро пожаловать в суп. Петух же, сидя на заборе, лишь тяжело вздыхал и высматривал в небе очередной военный самолёт.
У магазина днём стал появляться молодой незнакомый хохловским жителям мужчина в рыжих прокуренных усах. Собирал вокруг себя стайки пацанов, и что-то им рассказывал. Как-то раз и нас с братьями позвал. И что мы узнали? Идут большие учения, и наша воинская точка, пункт связи, что на окраине Утиного болота в лесу у Краснинского большака, тоже в них участвует. И вот ежели в деревне появиться кто-то незнакомый да начнёт расспрашивать, нет ли рядом каких-нибудь воинских частей, то надо этого человечка запомнить и срочно бежать на точку. Найдите, мол, меня, я там за охрану отвечаю, и приведите в деревню показать интересующегося. И если тот окажется действительно шпионом «условного противника», то на ваши мальчишеские головы прольётся дождь всех и всяческих армейских ништяков. И пилотки со звездой, и армейские фляжки и белые парадные ремни обещал. Вот же наивный. В деревне воевал практически каждый второй дед, не считая каждого первого. Только у нас в шкафу лежала и офицерская полевая сумка, и немецкий карманный фонарик с разноцветными линзами, и небольшая финка с наборной рукояткой. Вот пообещал бы штык-нож от «калаша», тогда да. Шпионов бы ему доставили сколько душе угодно.
Как бы там ни было, до конца учений шпиона в Хохлово не ловили. Но вот чем закончились эти самые учения для пункта связи, по деревне байка ходила.
Условный противник выяснил-таки расположение нашей воинской точки. И для её захвата был выброшен небольшой десант. Но не прямо на точку, а на поля за лесом. Всё что и надо было десантуре, это пройти пару километров по заросшему лесом пересохшему болоту и выполнить боевую задачу. Но тут вмешался случай в лице лешего, заведовавшего лесами в Хохловском лесничестве. Был он нечистью, недавно переведённой из глухой тайги под Томском. А там зверья в лесу море, а вот с людьми напряжёнка. А тут под Смоленском по лету в лесу каждый день кто-нибудь да гуляет. Грибы-ягоды, лозу драть. И кружил леший народ по лесу с превеликим удовольствием. А тут такой подарок – два десятка молодых мужиков, с оружием и в непонятной лешему прыжковой форме. Ох, он их и поводил по болоту. А сколько нового наслушался и о себе, и о командирах этих десантников. Даже взялся записывать новые для себя выражения и сравнения на кусочке бересты. Через пару часов надоело и нечисти забавляться. И воины дяди Васи таки вышли к пункту связи. Только вот не к самому, а к берегу небольшого озера, на котором стояла баня для офицеров.
Дорогу десанту преграждал забор из колючей проволоки. Те уже взялись было его резать, как вдруг над чёрной водой озера раздался громкий возмущённый голос со странным акцентом.
– Что творишь, слышишь, да? Зачем хороший проволка рвёшь? Ну, вон же ворота, двадцать метр пройди, да!!!!
На противоположном берегу озера охреневшие десантники увидели какого-то воина с чёрными погонами, возмущённо размахивавшего топором. Им же он указывал направление к вечно распахнутым воротам. Это был содат из Средней Азии, которому было поручено следить за банькой, дрова колоть да воду носить. К чему-то большему по службе его привлекать было офицерам пункта связи было стрёмно. Условно назовём его Турсунбек.
Турсунбек был крайне возмущён. Эти, из леса, сейчас забор порвут, а ему потом ремонтируй. Но, увидев забегавших в ворота вооружённых людей в странной форме, где б он видел прыжковые шлемы и комбезы советской десантуры, дитя азиатских полупустынь задумался. И очень быстро решил, что встречаться с этими товарищами ему не хочется совершенно. Бросив топор, Турсунбек рванул в сторону пункта связи. При этом поминал шайтана и всех демонов пустыни на своём родном наречии. Из дупла вековой липы показалась удивлённая мордочка лешего.
– Красиво излагает, душевно, – заявил хозяин леса спящему на ветке рядом здоровенному филину, – только не понятно ж ни хрена.
Филин приоткрыл левый глаз, поглядел на несущегося по лесу, что твой испуганный сайгак голосящего Турсунбека, и тяжко вздохнул. Приоткрыл правый глаз, увидел топочущих за азиатом десантников, и громко заухал.
– Да какая тебе война, – оборвал его леший, – учения. Что б ты старый понимал.
Если и был когда в мире рекорд в кроссе по пересечённой местности на 300 метров, наш испуганный среднеазиат его побил с большим отрывом. У него как-будто крылья за спиной выросли. Даже подготовленные спецназовцы догнать его не смогли. Подбежав к зданию столовой, из которой только что вышла группа молодых офицеров, Турсунбек истерически заголосил, докладывая о происшествии. Вся беда в том, что от избытка чувств голосил он на родном языке, который в военных училищах не преподавали. Ответом на его феерический доклад были лишь озадаченно-удивлённые выражения на лицах командиров. Рядовой набрал в грудь побольше воздуха, и через слово поминая шайтана и присных его, снова начал объяснять офицерам, что из лесу движется большой кирдык для всех. Для большего эффекта он ещё и руками размахивал в нужную сторону, да так что порывом поднятого ветра с головы командира взвода охраны снесло фуражку. Благо из столовой вышел начальник пункта связи подполковник, когда-то в молодости служивший в Средней Азии. Разобрав в криках солдата пару-тройку знакомых выражений, начальник рявкнул во всю мощь лёгких:
– Тревога. Лейтенант, взвод охраны в ружьё. Занять оборону.
Вот тут уже всё стало понятно. И через пару минут вооружённые бойцы уже заняли позиции. А из лесу показалась цепь десантников, палящих холостыми. Начался захват объекта. Только вот взвод охраны имел на руках автоматы, снаряжённые боевыми патронами. И хорошо, что молодой лейтенант всё-таки задумался, с чего вдруг из лесу какие-то люди просто так нарисовались. И приказал замкомвзвода, сержанту, отличнику боевой и политической подготовки, дать предупредительную очередь по верхушкам деревьев над головами нападавших. Тот с удовольствием и выпустил половину рожка. За толстый еловый ствол с матом спрятался наблюдавший за всей этой катавасией леший, над лесом, громко ухая, взлетел вспугнутый филин. Когда им на головы посыпались срезанные пулями ветки, десантники залегли. И принялись в двадцать лужёных глоток поливать матом в конец охреневших связистов, которые в глухих смоленских лесах в корень озверев от половой жизни только с местными лосями и кабанами, на учениях стреляют боевыми. Досталось и их непосредственным командирам, и высокому начальству в Москве, которое их, элитное подразделение Воздушно-десантных войск из тихой и мирной европейской Прибалтики забросило сюда в глухие смоленские леса, где в корень охреневшие связисты… Ну, и дальше по тексту с упоминанием всё той же извращённой половой жизни оппонентов. Леший, высунув от усердия язык, еле успевал записывать на бересте новые для себя выражения, сравнения и гиперболы.
История умалчивает, засчитали ли десантникам захват пункта связи, или посчитали связистов отбившими атаку. Леший веселился во всю, а громко ухавший в небе филин, сорвал голос, и с неделю по ночам летал над Хохлово безмолвной тенью.
Байка
Было это в те далёкие времена, когда Смоленск не был приграничным городом. Между западной частью государственной границы и Смоленском лежала целая Белорусская Советская Социалистическая Республика. Дело было в 1981 году. Как пели когда-то новосибирские КВНщики:
Наш Союз, наш общий дом,
Очень дружно мы живём.
Днём и ночью пограничник
Ходит по цепи кругом.
Ну, так вот, пограничники где-то там ходили на границе, а в Белоруссии шли большие учения. Над Хохлово с рёвом летала масса всего военного. Поначалу обыватели, задирая голову, смотрели в небо, пытаясь понять, что это там такое летает. Самые продвинутые, те, которые смотрели «Служу Советскому Союзу», даже пытались определять типы самолётов и вертолётов. Через пару-тройку дней попривыкли, и внимание на проносящиеся в воздухе боевые машины уже не обращали. На дворе у моей бабушки Анны Степановны петух впал в депрессию. Понуро сидел на заборе, устремив очи горе. Ему хотелось туда, ввысь. Проноситься среди облаков вместе с теми странными железными птицами, оглашая окрестности боевым кличем и грохотом. А потом спикировать на соседского пса, дворнягу оборзевшую, да и выполнить на бреющим бомбометание из-под хвоста. Но, сил хватало только взлететь на забор.
Обойдённые вниманием петуха куры, бестолково носились по двору. Иногда собирались в кучу и возмущённо кудахтали. Что ж это твориться в небе-то голубом? Летают туда-сюда, воют да ревут. Совсем нашему мужику голову задурили! Нестись куры естественно перестали от слова совсем. Бабушка задумалась о замене петуха, и уже не раз поглядывала на топор. Не можешь выполнять свои обязанности, добро пожаловать в суп. Петух же, сидя на заборе, лишь тяжело вздыхал и высматривал в небе очередной военный самолёт.
У магазина днём стал появляться молодой незнакомый хохловским жителям мужчина в рыжих прокуренных усах. Собирал вокруг себя стайки пацанов, и что-то им рассказывал. Как-то раз и нас с братьями позвал. И что мы узнали? Идут большие учения, и наша воинская точка, пункт связи, что на окраине Утиного болота в лесу у Краснинского большака, тоже в них участвует. И вот ежели в деревне появиться кто-то незнакомый да начнёт расспрашивать, нет ли рядом каких-нибудь воинских частей, то надо этого человечка запомнить и срочно бежать на точку. Найдите, мол, меня, я там за охрану отвечаю, и приведите в деревню показать интересующегося. И если тот окажется действительно шпионом «условного противника», то на ваши мальчишеские головы прольётся дождь всех и всяческих армейских ништяков. И пилотки со звездой, и армейские фляжки и белые парадные ремни обещал. Вот же наивный. В деревне воевал практически каждый второй дед, не считая каждого первого. Только у нас в шкафу лежала и офицерская полевая сумка, и немецкий карманный фонарик с разноцветными линзами, и небольшая финка с наборной рукояткой. Вот пообещал бы штык-нож от «калаша», тогда да. Шпионов бы ему доставили сколько душе угодно.
Как бы там ни было, до конца учений шпиона в Хохлово не словили. Но вот чем закончились эти самые учения для пункта связи, по деревне байка ходила.
Условный противник выяснил-таки расположение нашей воинской точки. И для её захвата был выброшен небольшой десант. Но не прямо на точку, а на поля за лесом. Всё что и надо было десантуре, это пройти пару километров по заросшему лесом пересохшему болоту и выполнить боевую задачу. Но тут вмешался случай в лице лешего, заведовавшего лесами в Хохловском лесничестве. Был он нечистью недавно переведённой из глухой тайги под Томском. А там зверья в лесу море, а вот с людьми напряжёнка. А тут под Смоленском по лету в лесу каждый день кто-нибудь да гуляет. Грибы-ягоды, лозу драть. И кружил леший народ по лесу с превеликим удовольствием. А тут такой подарок – два десятка молодых мужиков, с оружием и в непонятной лешему прыжковой форме. Ох, он их и поводил по болоту. А сколько нового наслушался и о себе, и о командирах этих десантников. Даже взялся записывать новые для себя выражения и сравнения на кусочке бересты. Через пару часов надоело и нечисти забавляться. И воины дяди Васи таки вышли к пункту связи. Только вот не к самому, а к берегу небольшого озера, на котором стояла баня для офицеров.
Дорогу десанту преграждал забор из колючей проволоки. Те уже взялись было его резать, как вдруг над чёрной водой озера раздался громкий возмущённый голос со странным акцентом.
– Что творишь, слышишь, да? Зачем хороший проволка рвёшь? Ну, вон же ворота, двадцать метр пройди, да!!!!
На противоположном берегу озера охреневшие десантники увидели какого-то воина с чёрными погонами, возмущённо размахивавшего топором. Им же он указывал направление к вечно распахнутым воротам. Это был содат из Средней Азии, которому было поручено следить за банькой, дрова колоть да воду носить. К чему-то большему по службе его привлекать офицерам пункта связи было стрёмно. Условно назовём его Турсунбек.
Турсунбек был крайне возмущён. Эти, из леса, сейчас забор порвут, а ему потом ремонтируй. Но, увидев забегавших в ворота вооружённых людей в странной форме, где б он видел прыжковые шлемы и комбезы советской десантуры, дитя азиатских полупустынь задумался. И очень быстро решил, что встречаться с этими товарищами ему не хочется совершенно. Бросив топор, Турсунбек рванул в сторону пункта связи. При этом поминал шайтана и всех демонов пустыни на своём родном наречии. Из дупла вековой липы показалась удивлённая мордочка лешего.
– Красиво излагает, душевно, – заявил хозяин леса спящему на ветке рядом здоровенному филину, – только не понятно ж ни хрена.
Филин приоткрыл левый глаз, поглядел на несущегося по лесу, что твой испуганный сайгак голосящего Турсунбека, и тяжко вздохнул. Приоткрыл правый глаз, увидел топочущих за азиатом десантников, и громко заухал.
– Да какая тебе война, – оборвал его леший, – учения. Что б ты старый понимал.
Если и был когда в мире рекорд в кроссе по пересечённой местности на 300 метров, наш испуганный среднеазиат его побил с большим отрывом. У него как-будто крылья за спиной выросли. Даже подготовленные спецназовцы догнать его не смогли. Подбежав к зданию столовой, из которой только что вышла группа молодых офицеров, Турсунбек истерически заголосил, докладывая о происшествии. Вся беда в том, что от избытка чувств голосил он на родном языке, который в военных училищах не преподавали. Ответом на его феерический доклад были лишь озадаченно-удивлённые выражения на лицах командиров. Рядовой набрал в грудь побольше воздуха, и через слово поминая шайтана и присных его, снова начал объяснять офицерам, что из лесу движется большой кирдык для всех. Для большего эффекта он ещё и руками размахивал в нужную сторону, да так что порывом поднятого ветра с головы командира взвода охраны снесло фуражку. Благо из столовой вышел начальник пункта связи подполковник, когда-то в молодости служивший в Средней Азии. Разобрав в криках солдата пару-тройку знакомых выражений, начальник рявкнул во всю мощь лёгких:
– Тревога. Лейтенант, взвод охраны в ружьё. Занять оборону.
Вот тут уже всё стало понятно. И через пару минут вооружённые бойцы уже заняли позиции. А из лесу показалась цепь десантников, палящих холостыми. Начался захват объекта. Только вот взвод охраны имел на руках автоматы, снаряжённые боевыми патронами. И хорошо, что молодой лейтенант всё-таки задумался, с чего вдруг из лесу какие-то люди просто так нарисовались. И приказал замкомвзвода, сержанту, отличнику боевой и политической подготовки, дать предупредительную очередь по верхушкам деревьев над головами нападавших. Тот с удовольствием и выпустил половину рожка. За толстый еловый ствол с матом спрятался наблюдавший за всей этой катавасией леший, над лесом, громко ухая, взлетел вспугнутый филин. Когда им на головы посыпались срезанные пулями ветки, десантники залегли. И принялись в двадцать лужёных глоток поливать матом в конец охреневших связистов, которые в глухих смоленских лесах в корень озверев от половой жизни только с местными лосями и кабанами, на учениях стреляют боевыми. Досталось и их непосредственным командирам и высокому начальству в Москве, которое их, элитное подразделение Воздушно-десантных войск из тихой и мирной европейской Прибалтики забросило сюда в глухие смоленские леса, где в корень охреневшие связисты… Ну, и дальше по тексту с упоминанием всё той же извращённой половой жизни оппонентов. Леший, высунув от усердия язык, еле успевал записывать на бересте новые для себя выражения, сравнения и гиперболы.
История умалчивает, засчитали ли десантникам захват пункта связи, или посчитали связистов отбившими атаку. Леший веселился во всю, а громко ухавший в небе филин, сорвал голос, и с неделю по ночам летал над Хохлово безмолвной тенью.
Давнишняя находка
Охота пуще неволи. Да. Начало мая выдалось замечательно тёплым, и в поля нас со Слонёнком тянет как магнитом. А тут ещё агентура донесла, что Кисели таки распахали. Тут уже двух мнений быть не может. Зам я генерального, или где? Поутру в фирме была операция «баптисты». Разогнав монтажников по объектам, я с совершенно честными глазами рассказал шефу, что вчера звонил главный «баптист» и призывал на встречу. Это давняя история. Несколько лет назад мы этим самым баптистам несколько объектов в Смоленске и области оборудовали пожарной сигнализацией. И с тех пор повелось, что мол, общаются оне только со Слонёнком. Вроде как он с ними подружился. А для технической стороны дела на встречах я нужен. И достаточно часто мы так вдвоём линяли с фирмы.
Вот и в этот раз прошло всё как надо. Оседлав специально оставленного на базе прораба с «Ларгусом», за полчаса проехались по городу, ну там переодеться и рюкзаки захватить. И вот самарский выкидыш фирмы Рено бодро несётся по краснинскому большаку. Минут пятнадцать-двадцать и можно сворачивать с асфальта. Как любила говаривать бабушка моей жены «Моя селиба!» Тут я знаю каждый закуток, каждый пруд и сажалку, да и по окрестным лесам меня батя таскал с пятилетнего возраста. Вот туда, Санёк, налево и по просёлку. Проезжаем мимо заброшенных колхозных ферм (ох, сколько крупного рогатого скота мой дед отсюда перевозил на Останкинский мясокомбинат), и углубляемся в поля. Эх, в советские времена кукуруза стояла по обеим сторонам дороги, выше человеческого роста. А сейчас? Бяда. Дорога сворачивала к большой берёзовой роще, Киселёвскому кладбищу. Всё, товарищ драйвер, тут мы выходим. А ты, друг дорогой, не забудь вернуться за нами часикам к четырём.
Итак, у нас почти шесть часов свободного и, надеюсь, плодотворного поиска. До места бывшей большой деревни только балочку перейти. Еле видный просёлок уходит в поля, за спиной Киселёвские кусты, небольшие перелески, которые через километр-полтора переходят в густой лиственный лес. А там, где до 1971 года была деревня Кисели, теперича ровное поле. Как же всё изменилось с моего малолетства. В тот первый мой день в киселёвских садах, показалось, что белая дядькина копейка, въехав яркого солнечного августовского дня на единственную деревенскую улицу, погрузилась во мрак. Кроны старых разросшихся яблонь почти не пропускали солнечного света. А там, где тонкий лучик смог пробиться сквозь зелень листвы, он упирался в густую поросль сливовых деревьев, играя бликами на изумрудных листочках. Как же мне тут понравилось, сколько разных сортов яблок, за ними мы собственно и приехали, я перепробовал. Белый и розовый наливы, аркад, коробовка, пепин, да всего и не упомнишь. Но наелся я реально до оскомины. Папка потащил меня в овраг к роднику. Вода была обжигающе холодной и невероятно вкусной. Старый сруб уже практически врос в землю, едва-едва возвышаясь над густой травой. Я глотал вкуснющую воду, а батя объяснял, что здесь вся деревня брала питьевую воду, а чуть ниже по оврагу есть другой ключ, откуда брали воду поить скот. Вода там железистая и совсем не вкусная. Загрузились мы тогда яблока так, что копеечка аж просела на рессорах и чуть не скребла днищем по дороге.
Так я первый раз оказался там, где родился мой отец. В той самой деревне, куда в июле 41 после боя под Хохлово перебрался с семьёй мой дед Андрей Васильевич со всей семьёй. Их дом на окраине старого Рачинского парка сгорел от прямого попадания немецкой мины. Как раз на склоне того самого оврага, где я наслаждался родниковой водой, дед выкопал и, как мог, обустроил землянку. Уже гораздо позже, роясь в пыльных архивных документах, а выяснил, что нам сии Кисели вовсе не чужие. В первую перепись, устроенную Петром Алексеевичем, в этой деревне записан мой самый дальний из известных, надеюсь что пока, предков, Прокопий Григорьев. А вот его сыновей да внуков барское самодурство, а может быть и вовсе хозяйственность да домовитость, помотали по окрестным деревням. И в Верхней Уфинье жили мои предки, а после наполеоновского нашествия единственного оставшегося от семьи шестнадцатилетнего Илью перевели в Запрудье. Это отсюда немного ниже по течению, на другом берегу Серебрянки, ну или кому как нравиться Хохловки. В Запрудье семейство обжилось, разрослось после реформы 1861 года. И только коллективизация разбросала трёх братьев и их многочисленных детей по разным деревням.
Что-то я задумался, Серёга вон уже во всю прибором машет. Надо и мне рассупониваться. О, блин, а ведь про земляного дедушку, он же дед Хабар, мы и забыли. Бутылка «Хугардена» не зря в рюкзак положена. Выливаю пиво нараспашку, не обижайся, старый, подкинь под катушку чего-нибудь «вкусного». Ну, дедушка, не уж то пиво такое вкусное? И десятка метров не прошёл, рыть ничего не надо, прямо под ногами выпаханная из земли гиря от магазинных весов. Тяжёленькая, пять кило, однако. Но если оставить тут на поле, то можно потом и не найти. Лопату втыкаю в землю, прибор опираю на неё, гирьку в руку и бегом к дороге. Вот тут, у моей любимой ямки на обочине дороги я свою находку и оставлю. Почему ямка любимая? А я в ней уже, наверное, лет пять каждую осень боровики нахожу. Ещё б не любимая. А дальше по перелеску среди осинок подосиновики-красноголовики, крепенькие такие, произрастают. Ежели вспоминать за грибы и Кисели, то пару лет назад со Слонёнком случилась занятная история. У нас ещё тогда старая «пятёра» была. И как-то по сентябрю собрались мы с женой по грибы. Предложили с нами и Серёге. Улыбнулся брат в ответ, не сказал ни да, ни нет, как в старой детской книжке писалось. Поехать до деревни, он поехал, но грибы искать наотрез отказался. Расчехлил прибор, да и утопал на деревню. А мы с Юлькой, почесав тыковки, решили для начала полазить по одному из оврагов, что по левой стороне от просёлка, прорезаю этот участок, спускаясь до самой речки. На его склонах всегда было много чёрных груздей. Ага, вот они, родимые. Небольшие, крепенькие, сопливые, самый раз в ведро с рассолом и под гнёт. К Новому Году будет угощение. Лезем по овражьим склонам, шуршим опавшей листвой да хрустим сухими ветками. Тут раздаётся телефонный звонок. О, Слоник?! Но то, что он предъявляет, это аллес капут. Вы, мол, кричит, совсем озверели в своей тяге к халявным белкам растительного происхождения, аж лосей поразогнали. Каких лосей, детинушка? Ты что там куришь? Оказалось, что пару минут назад из оврага выскочила пара здоровенных лосей и прогалопировала куда-то вдаль, проскакав в непосредственной близости от братца, до усёру его перепугав. А вот, ищи грибы, не филонь.
Ладно, вернёмся к нашей распашке. Слоник уже проорал пару раз «Боже царя схорони…», а у меня только атрибут советской торговли. Дедушка земляной, ну мы ж с тобой договаривались. В общем и целом, за пару часов блужданий по вспаханной земле не густо. У Серёги пара царских медяков и, что очень неплохо, увольнительный жетон 120 Серпуховского пехотного полка РИА. А у меня окромя гирьки только треснутый жетончик смоленского пожарного общества. Штучка интересная, но уж в очень хреновом состоянии. И совершенно непонятно, какого лешего она тут в деревне нарисовалась, в шестнадцати верстах от города. А выдавали такие жетончики с выбитым на них номиналом в 30 копеек членам добровольных пожарных дружин, для того, чтобы при пожаре они могли быстро приехать на извозчике. По первости давали деньгами, но человек русский слаб до водки, и пропивались эти денежки крайне быстро. А вот жетон не пропьёшь. На нём был выбит номер пожарного, и извозчик являлся за деньгами в пожарное общество, а жетончик возвращался владельцу. Хорошо, конечно, но мало. Оно и понятно, за последние лет двадцать, кто тут только не копал.
Порешили пройтись вниз по течению речки. Там на предвоенных картах какие-никакие хуторки обозначены. Авось повезёт. Идём в первозданной природной красоте. Журчит и плещет ещё полноводная по-весеннему Серебрянка, тихий тёплый ветерок шуршит нежной зеленью первых берёзовых листочков, птушки в небе свиристят. А вот под катухой, что показательно, ти-ши-на. А вот и граница Киселей, Авгиньин ров. Хрен знает, почему народная молва так извратила имя тётки Евгении, бабушки одного из наших многочисленных двоюродных братьев. Но факт, остаётся фактом. Тут на отшибе деревни стоял её дом, и до сих пор этот овраг в Хохлово зовётся Авгиньиным рвом. Надо сказать, что на левом берегу речки, у Запрудья, топонимы не лучше. Шматово дворище, Зюнин ров. Сколько я родичей не пытал, никто и не смог вспомнить, что за Зюня, чего Шмат.
Ну, вот и дошли, вроде. Басовито заревели приборы на железо. Стали попадаться куски алюминиевой проволоки. Был тут какой-никакой хуторок. Через полчаса у нас уже небольшая кучка советской предвоенной мелочи и неразорвавшаяся немецкая бомба-агитка. Жестяной корпус, который должен был в воздухе раскрываться, разбрасывая листовки. Но вот не раскрылся. Какой-никакой вышибной заряд в ней есть, так что, ну её на фиг. Прикопали от греха. Почти у самой воды на высокой ноте пискнула верная «Аська». И шо у меня там такое? Спасибо дедушка Хабар, ещё один жетончик, целый. На медном кругляше выбит силуэт красивого здания, типа ратуши или кирхи, с высокой башенкой и поверху даты 1775—1875. Что за хрень, понятия не имею? Ну да всемирная паутина в помощь.
Возвращались мы к просёлку довольные. Сняли ломку, покопали, повбивали ноги в жопу. Уже в который раз обсуждаем, как в окрестных оврагах найти ту самую немецкую зенитку. Давняя история. В войну на кладбище гансы поставили зенитное орудие, защищая подходы к Краснинскому большаку. А в сентябре 43-го его там и бросили. Мужики киселёвские переволокли дуру на деревенскую улицу, да и установили у края оврага. Почти двадцать лет простояла, никому не мешая. И батька наш по ней малолетним шалопаем лазил с целой оравой таких же охламонов. А вот в начале шестидесятых на зенитку положил глаз заехавший из Смоленска с проверкой партийный чиновник. Он и сказал председателю колхоза, что скоро пригонит машину, да и увезёт раритет в музей. За одну ночь киселёвские немецкую дуру разобрали и прикопали где-то в оврагах. И вот теперь это наша заветная мечта. Но как прикинешь, сколько оврагов нужно излазить, волосы даже в подмышках дыбом встают. Ага, а вот и наш ларгусь на просёлке замаячил.
И опосля начертанного, как говорили голоногие латиняне. В тот раз я не смог разобраться, что за жетончик мне попался. Интернет молчал, на профильных сайтах никто ничего подсказать не мог. Запихал я жетончик в шкатулку, да и поставил её на самую высокую полку стеллажа. И долгоньких шесть лет он там пролежал. А недавно, разбирая старый хлам, я его снова нашёл. И загорелся. И в тырнете, думалось мне, наверное, инфы прибавилось, да и я, хотелось бы верить, стал если не умнее, то немного опытнее. И таки да, получилось. На все мои запросные вопли, мол, жетон с ратушей, жетон с кирхой, вываливалась масса всего, но совсем не то. Посему в поисковой строке я забил жетон 1775—1875. И прокатило! На каком-то литовском сайте было выставлено фото такого же жетона, и его атрибуция. Пущай и на латинице, но «академия петрина» я разобрал. Оказалось, что выкопал я жетон в честь столетия первого в Курляндии университета, основанного в Митаве (ныне Елгава) курляндским герцогом Петром Бироном, сыном того самого фаворита Анны Иоанновны. Вот так да! Точно хрен угадаешь, как сей рарик оказался в смоленской деревухе. Но, скорее всего, кто-то из крестьян служил в Митаве срочную службу. Там как раз дислоцировался 180 пехотный Виндавский полк Русской Императорской Армии. По документам уездного воинского начальника много призывников из Хохловской волости отправляли как раз в Прибалтику.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе