Я помню свое впечатление от предыдущей прочитанной книги его авторства. ...Ну ничего общего! Вернее, общее - география сюжета. Да и все, в общем-то.
А здесь - я, честно, не знаю, что значит "роман-пеплум", я начинаю только подозревать, что это - то, что рвет твою душу на тысячи мелких осколков, то, что заставляет тебя дико переживать за людей, так далеко уже отстоящих от нас и нашего времени, но чьей души хватало и на заботы об отчизне, о благе ее, и как порой непросто было решить в те непростые петровские времена, что есть благо, а что зло, и с какой меркой подойти и к тому, и к другому.
Но автор меня поразил, и продолжал поражать на протяжении всей книги. Вдруг стало понятно, как мало мы знаем о тех районах, о целых краях необъятной нашей России-матушки. Что мы знаем о Сибири, хочу я вас спросить? Кроме того, что это было место ссылки в царское время да колоссальная комсомольская стройка в советское время? Да почти ничего.
И стоит поблагодарить автора за такое мощное полотно, что представилась возможность чуть получше узнать и понять этот суровый край, и откуда что взялось, ну и чем жилось народу в тех краях и в петровские и в допетровские времена. А уж встречая такие фамилии как Атласов и Хабаров - чем не возможность и свой мозг подключить к знанию своей истории?
И самое главное - не лекции нам с вами по истории России читает Алексей Иванов, а так задушевно говорит он с нами, что сердце трогает неимоверно и заставляет прорваться чему-то очень нужному и важному на поверхность нашей души, тому, что до той поры было скрыто втуне, а тут вырвалось наконец благодаря мастеру.
Как это порой удивительно и как важно, когда благодаря таким авторам и их книгам мы начинаем чувствовать гордость и за свою страну, и себя чувствовать исполином.
А сибирская тема вдруг навеяла воспоминание об очень любимой по молодости лет книге Ю.Сергеева "Становой хребет". Пусть действие там развивается спустя 200 лет после "Тобола", и несколько другие акценты поставлены, уж не говоря, что часть книги происходит на фоне советских будней 20-30-х годов, соответствующе оттеняя происходящее, но и до сих пор люблю почитать ее, невзирая на некоторую устарелость ее (советское время все ж наложило свой отпечаток).
Вообще российская действительность как триста лет назад поражала, так и сейчас. Вот перед нами сановный вор и мздоимец, вроде все ясно, так нет же - владеют им и помыслы о великом, сделать что-то для России своей, и как выясняется, не токмо для себя крадет он у государства, а и на прожекты по строительству Тобольска и прочих интересных затей, на что из казны денег не выпросишь.
И тут же остяки - как народность, так и люди в отдельности. Уж как их ущемляют и русские, и даже какие-то бухарцы и подо всех им приходится подлаживаться, и богов их лишают, и жизней. И вот, пожалуйста - вот князь их Панфила, и тут же девчонка остячка Айкони. Абсолютно разные устремления, да и философия их ох как отличается. Князь, хоть и остяцкий, все равно князь, и благородство свое не раз он подтверждает, хоть нет такой силы в нем. Айкони же - как истинный дух природы, олицетворение и верований их и исконных, выработанных веками обычаев и традиций, которые никому не дано истребить до конца.
А какая сцена нам показана в самом конце - неистребимый русский бунт (в миниатюре), зверем подымающийся и вгрызающийся во все на своем пути. Очень завораживающая картина. Да тут куда ни качнись, все завораживает, притягивает, и потрясает до глубины души!
Алексей Иванов — настоящий летописец земли сибирской. Придумывать истории о стародавних временах у него получается лучше, чем о нынешних. Живет в его душе что-то изначальное, дремучее, почти первобытное и по-охотничьи наблюдательное. В книге тьма тьмущая героев, и не скажешь кто главнее, а кто второстепеннее. Каждому свое время и свой черед. Вот хмельной царь Петр садится на лошадь и качаясь в седле едет вершить государственные дела. Вот пленные шведы пешком из-под Полтавы топают в ссылку через всю огромную Россию. Вот в Тобольск приезжает новый губернатор, хозяин Сибири князь Матвей Петрович Гагарин. Глаза горят от предвкушения, скоро подомнет под себя все казенные и торговые дела, без его дозволения мышь не проскочит. Вот неугомонный архитектон Семен Ульяныч Ремезов, невзирая на преклонные годы, носится по каждому закоулку с мерной веревкой и новыми прожектами постройки невиданных пользительных красот. Все надо успеть, и кремль новый построить, и историю Сибири написать, и семейством командовать. А тут мы наблюдаем за торговыми сделками Ходжи Касыма, хитрющего мусульманского дельца. Ему что шкурку соболиную купить, что наложницу, что веру наивных остяков. А вот и молодой князь Пантила, не по характеру ему верховодить остяками Певлора. Ему даже самый захудалый Ахута Лыгочин перечит. А вот близняшки Айкони и Хомани, дочери Ахуты, похожие, как две рукавички. Как сложится их судьба в новом жестоком мире? Служилые беспредельщики, мудрый митрополит Филофей, раскольники со своей мечтой о Корабле, шаманские камлания, христианские молитвы, казнокрадство и китайские караваны. Голова кругом может пойти от такого обилия событий и героев. Может, но не идет. Иванову удалось так все скомпоновать, что через некоторое время уже чуть ли не лично с каждым знаком, никого не перепутаешь. Все такие разные и похожие, колоритные, предсказуемо неожиданные. Чужая душа — потёмки, но и мы не лыком шиты, лучинка всегда найдется, а то и целый факел. Есть некоторое сходство в построении сюжета с *Сердцем Пармы*, но все же это совсем другая история, не повторение, а скорее продолжение сибирской линии. Иванов опять затрагивает тему — сколько женщину не корми, она все равно в лес смотрит, за свои беды и наивность платит по тройному счету. 700 страниц оказалось мало, хочу еще! Одна радость — на осень вроде бы выпуск второго тома обещали. Вторая радость — Алексей Иванов присоединяется к рядам любимых авторов.
Первая часть масштабной эпопеи о жизни в Сибири эпохи Петра. Это не только роман действия, но и историческая картина. Жизнь и уклад того времени показаны через отдельных персонажей - от самого Петра Первого до почти бесправных проданных девушек-остячек. Столкновение людей с другими людьми не только на поре боле, но и в экономике. Столкновение с природой, с чуждыми обычаями и иной верой.
Сибирь так далека от столицы, от власти, что там устанавливаются, порой, свои порядки, а жизнь кипит не менее бурно, чем в центральной части страны. Покорение идет полным ходом, но что хорошо для государство чаще всего плохо для местных жителей. Они долгие года жили обособленно, со своими укладами и порядками, а русские же стали для них проблемой. Поборы и дань, нередко чрезмерная и не в один карман, порой приводила к полному разорению безобидных селений остяков. А они, словно наивные дети, верили в своих богов, в превосходство чужаков и их право на бесчинства, и помыслить не могли обманывать или встречать обирателей с оружием.
Отдельная история и у плененных шведов. Полтавский разгром обернулся для множества бывших военных работами далеко за Уралом, на чужой земле. И такая удаленность от Москвы сводила практически до нуля вероятность, что шведов обменяют на пленных русских. Приходилось жить и выживать.
Но и сами русские с русскими жили не столь мирно. Человек всегда метит повыше, и обретая власть строит свои порядки. А уж если человек не очень, то и делишки начинает творить неприятные.
Объемная, но довольно очаровывающая история получилась у автора. Живые описания позволяли ярко представить происходящее на страницах книги.
Слово «пеплум» до недавнего времени воспринимала как эвфемизм для «развесистой клюквы». Поясню, после очередной голливудской чуши на историческую тему, загуглила - уточнить, чем изначально задумывался этот кошмар, Тогда и столкнулась с понятием. Вика говорит о пеплуме, как о киножанре, в основу сценария которого положен библейский сюжет или античный миф – нечто потенциально непроверяемое. Но броское, яркое, красивое и четко оттиснутое в коллективном бессознательном. Непременно массовые, с обилием костюмов и «аутентичными» (как понимает их тетя Маша из второго подъезда) прическами, оружием, повозками. Зрелищными батальными сценами. Желательны спецэффекты. И после уж не сомневалась с жуткими «Ноем», «Бен Гуром» - пеплум.
Потому роман Алексея Иванова, квалифицированный как пеплум, восприняла вызовом здравому смыслу: да неужто найдется человек, своей волей называющий книгу этим ругательным словом? Зачем? Почему? Н-ну, потому что некоторые просто могут себе позволить, точно зная, что результат не только избегнет плачевной участи прочих пеплумов, но и частично реабилитирует понятие. Иванов может, уж очень хорош. Он прирожденный мифотворец, демиург. На любую вещь или ситуацию можно взглянуть с разных точек и пеплум совсем не обязательно должен быть историей «для тупых». Вполне возможно, что в данном случае акцент следует сделать на потенциальной непроверяемости некоторых важных сюжетообразующих деталей при сохранении в большей части описанного безупречной исторической достоверности.
Итак, первая книга «Тобола», «Много званых». Времена Петра I покорение Сибири. Уже не Ермак – волна экспансии на север давно потеснила аборигенов с исконных земель; крепости, фортификации, фактории и остроги уже отстроены. Однако еще не демидовские заводы. И пока главными богатствами Сибири, которыми прирастает земля русская, остаются меха: белки, песцы, бобры, соболя, куницы. Облагаются данью и обращаются в христианство коренные народы, отстраиваются каменные здания взамен прежних бревенчатых; приказные дьяки воруют и приписывают (курочка по зернышку); большое начальство делает солидный бизнес – составами, упс – простите, караванами дощаников перенаправляя потенциальную прибыль из казны в свой карман. Косят лиловым глазом на перспективный в торговом и политическом отношении регион, сопредельные (и не только) народы; наслаждаются последними временами почти опричнинной вольницы служилые люди; закованными в кандалы попадают в Сибирь каторжане и раскольники.
Сказать, что «Тобол» рисует масштабную картину происходящего – значит не сказать ничего. Это панорама, от которой дух захватывает, но стоит взгляду остановиться на чем-нибудь, искомый предмет или явление приближается, обретает четкость очертаний, объемную 3D выпуклость, набухает живой кровью. Я ведь не ошибусь, если скажу, что мы, русские, в массе скверно знаем свою историю. Много хуже, чем избранные куски английской, французской или американской. Неправда, не оттого, что ленивы и нелюбопытны, просто такая уж была наша планида в XX веке – иметь ее перманентно переписываемой в официальном варианте и подвергаемой жесткой цензуре – в беллетристическом. А грамотная часть нации спокон веку черпает исторические сведения из литературы.
Теперь смотрите: учебники перелицовывают под каждое новое правление, Лажечникова, Мельникова-Печерского и Новикова-Прибоя нынче не читают, Мережковского и прежде не особо читали, остаются Пикуль и Акунин. Первый при всем желании не мог объять необъятного; о втором, при всей моей трепетной любви к Фандорину, говорят, что историческая достоверность – не самая сильная его сторона. . Нужен, воля ваша, внятный, четкий, говорящий хорошим русским языком, голос, который поведал бы нам о нас. О прекрасных, трагических и героических страницах нашей истории, в которой мы предстанем не как нация вечно скорбных умом лентяев, но сильным, смелым, выносливым и смекалистым народом. «Много званых» - такая история.
И еще одно, последнее по порядку, но не по значению – автор любит своих женщин, говорит о них с нежностью, уважением и пониманием, какие редко встретишь у писателя мужеска пола. А тяготеющие к мифологизму здешние женские образы: Айкони – все ипостаси Луны: Диана-охотница, Кибела, Геката; Бригитта – Афина, мудрая и рассудительная; Епифания – Медея выписаны без того на лета пренебрежительной ироничности, каким в отношении представительниц своего пола теперь принято грешить и у хороших писателей женщин. Дурацкий тренд, порушенный в этом романе, за что от лица женщин земной поклон Алексею Викторовичу.
Скажу честно, что после "Геогрвф глобус пропил..." боялась браться за эту книгу. Но моя нежная любовь к историческому жанру победила скептицизм.
И я не пожалела. Книга потрясающая. Буду читать продолжение обязательно.
Честно говоря, я даже не ожидала получить от автора такую интересную книгу. Подкупил он меня с самого начала, введя на первые же страницы фигуру Петра I. Когда глава закончилась, и царь с Меньшиковым исчезли с горизонта, а нас закинуло в далёкую холодную Сибирь, я постаралась стряхнуть с себя оцепенение. Это была просто замануха! А сейчас начнётся основной сюжет, все будет морозной и уныло (ну, не люблю я холод, не люблю!), разбойники да каторжники и более ничего. Но, к счастью, я ошиблась, причём дважды. Во-первых, автор никуда не выкинул большую политику. Время от времени мы возвращаемся к царю и наблюдаем его в необычных обстоятельствах. Автор достаточно своеобразно описал его. С одной стороны, нет преклонения и возвеличивания, с другой нет и иной крайности, искусственного принижения личности. Он показывает нам человека, с его неприукрашенными поступками, некоторые из которых с точки зрения морали и правил поведения мы бы назвали плохими, но при этом видим его целеустремлённость, широкий размах замыслов. Видим и как крутятся люди вокруг него, любой не только служит царю, но и тщательно отслеживает свою выгоду. Да, но что-то я опять заговорилась о царе. Книга-то, в основном, не об этом. Во-вторых, Сибирь автор тоже смог увлекательно показать. В ней много разного люда, много конфликтов и противопоставлений. Тут и местные племена против русских. Хотя какое там против, давно подчинились, покорились, дань сдают и только крещение осталось принять. Тут и татары, более развитые, берущие хитростью там, где не хватает силы. Тут раскольники, противящиеся церкви, мечтающие о бегстве каторжане, ссыльные шведы, стремящиеся вернуться домой, новые солдатские полки против прежнего служивого разбоя, любовные треугольники, распри в семьях, амбиции архитектора, губернаторский размах, воровские интриги. Все это автор замутил в должных пропорциях, чтобы соблюсти грань между пользой и интересом. Не удержавшись, слегка подсыпал мистики, но получилось эффектно. Разумеется, теперь мечтаю прочитать продолжение.
Великолепно! Первый исторический роман о России, который мне действительно понравился. Все, что я раньше пробовала читать, это какая-то нудятина. А тут все отлично - сюжет, язык, повороты, исторические реалии, просто загляденье. Хотя сама жизнь, там описанная, конечно, в основном обескураживает. Особенно на фоне европейской жизни, описанной в "Барочном цикле" Нила Стивенсона. И там, и там действие происходит в одно и то же время, разные слои общества изображены, разные места и разные безобразия, но... оказывается, что безобразие безобразию рознь, как и жизнь жизни. Поэтому у Стивенсона главные герои - величайшие ученые своего и не только своего времени и веселый бродяга-мошенник, а у Иванова - сибирский архитектор-самоучка и ворюга-губернатор. Печально. Но так оно тут всегда и было, и есть до сих пор.
Пермь - Чусовая - Тобол. Все дальше на восток продвигаются художественные миры Алексея Иванова, вот уже и до сибирских "медвежьих углов" дело дошло. Ан, не медвежий угол - Тобольск! Настоящий перекресток миров, где можно встретить и хорвата-книжника Крижанича, и послов богдыхана. Пленные шведы и ссыльные русские, авантюристы и казаки - все они создают русскую Сибирь. Перекраивают медленную жизнь северных народов. И ведут нескончаемый спор русский митрополит Филофей и остяцкий князь Пантила: долгий, долгий разговор о вере, милосердии, правде. Словно символ странного слияния реальности и мистики, петровской модернизации и вековых традиций, встает Тобольск - с построенными на иноземный манер губернаторскими палатами и с "варварским" Софийским собором, построенным без циркуля, с Христом "в клетке", что ходит по городу деревянными своими ногами. Новый роман Алексея Иванова поражает как грандиозным масштабом, так и глубочайшим проникновением в душу героев. И черт возьми, хочется узнать продолжение!
"Царапало" только одно: переруганный со всех сторон Петр Лексеич. Излюбленная Ивановым тема кровавой централизации здесь разворачивается во всей красе. Не только в Сибири. Вот говорится о расправе с мазепинцами в городке Бутурлин: "Такого с городом не сотворил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав". Подсказка: конец XVII - начало XVIII вв. - это как раз драгоннады в Севеннах, расправа с якобитами в Шотландии и Ирландии. Может, Петр не так уж сильно выделяется на общем фоне эпохи?
А нет, еще одна мелочь: автор постоянно путает звательный падеж с именительным, думая, что украшает текст экзотическими формами вроде "владыче".

Большой роман об истории освоения Сибири - хочется сказать, мирном, но нет, без крови не обошлось.
В вечной мерзлоте, обнятая тайгой, Сибирь жила как спала, посылая нужное количество мехов всем, кому требовалось по чину. Но вот приехал хозяин, губернатор Гагарин. Сибирь зашевелилась, настороженно подняла глаза: оставит порядки или введет свои, привыкать надо будет? Гагарин умелый хозяйственник - и царю посылает, и себя не забывает. Не стал особо присматриваться, сразу взял метлу и начал гонять сор по избе. Иванов показал его преимущественно жадным и изворотливым, из положительного лишь редкие минуты благодушия, которые тоже с приметкой на будущее или от равнодушия. Он главный в Сибири, но не главный в этой книге, как бы ему ни хотелось. Не одна Италия славилась своими леонардами, были и в России гении, как, например, Семен Ремезов. Горел он душой за родную сторону: и кремль бы в Тобольске, и башни, и мамонта ему собрать интересно из найденных костей, и историю и географию Сибирского края он собрал, и книги рисует, и картины пишет. Как успевает все? Да не особо кому нужны его знания и идеи: поток заказов вполне выполним с подмогой сыновей. Благодаря Ремезову мы знаем во многом историю и географию Сибири: он оставил после себя огромное наследство, которое изучается до сих пор.
Роман начинается с негодования Петра I по поводу изменников и лихоимщиков: пьяный император пинает висельника. Могу предположить, что и закончится он во второй части примерно тем же, только висеть уже будет Гагарин - таков спойлер истории. Роман перенаселен персонажами всех видов и мастей: от бухарцев до остяков. За всеми сложно следить, но линии выстроены удобно для наблюдения, ничего не смешивается в восприятии. Мне нравится стиль А.Иванова: он по-современному динамичен и в то же время достаточно насыщен архаизмами для контекста. Правда, в этой книге мне не хватило психологизма и отношений между людьми - сюжет почти все время идет через действия и поступки героев, но я восприняла это как авторский подход.
Старенькая заметка из категории "в двух словах".
Уже с первых страниц мне стало очень жалко этих диких русских, которых не презирают за их варварство разве что пни лесные да рыбы речные, что уж говорить о цивилизованных шведах-пленных, бухарских купцах, поданных Поднебесной и даже остяках-туземцах. Да и что еще можно испытывать к этому сборищу обманщиков, грабителей, насильников, мздоимцев и проч. и проч. Ну, разве что еще и стыд за них. Но что с них взять, если у них даже царь пьет как лошадь и морды бьет направо-налево? Поначалу это сильно раздражало, потом — то ли градус презрения понизился, то ли выяснилось, что все эти прекрасные цивилизованные ничем не лучше, то ли, как говорится, глаз замылился. Однако вот этим самым «пьют и воруют», хвала Всевышнему, роман не ограничивается: выясняется, что и прочие народности воруют не меньше. Впрочем, если попытаться передать свои впечатления кратко, без придирок к каким-то историческим несоответствиям или не всегда удачной имитации украинской речи, то роман интересный, сюжет лихо закрученный, язык вполне удобоваримый, а местами очень даже неплохой, без привкусов, так сказать.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе
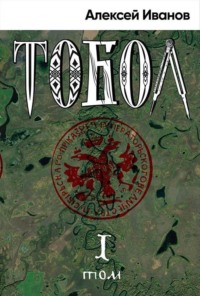
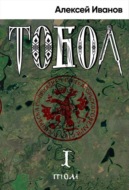
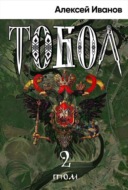
Отзывы на книгу «Тобол. Том 1. Много званых», страница 14, 326 отзывов