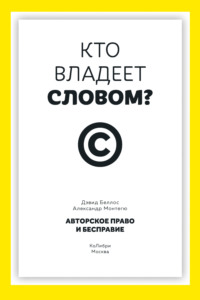Читать книгу: «Кто владеет словом? Авторское право и бесправие», страница 5
Защита интеллектуальной собственности как стимула к творчеству также опирается на смутное представление о человеческих качествах писателей, художников и изобретателей. Один самопровозглашенный эксперт в этом вопросе прямо заявляет, что авторы «более подвержены лени, чем большинство людей»152. Это необоснованное оскорбление недавно повторили на родине современной киноиндустрии: согласно Обществу по авторским правам Лос-Анджелеса, «биографии авторов показывают, что они более подвержены лени, чем большинство людей»153. Этот аргумент всплывает, явно или неявно, почти во всех современных оправданиях сильной защиты интеллектуальной собственности – ведь если люди искусства не праздные и алчные, то их нельзя побудить к творчеству одними лишь финансовыми стимулами.
Нельзя одновременно говорить о предназначении меры «поощрять науки и содействовать прогрессу полезных искусств» и защищать ее, опираясь на тезис о моральной слабости тех самых поощряемых творческих людей. Если единственный способ объявить авторское право «стимулирующим творчество» – это принизить творцов, то нужно ли вообще воспринимать аргумент о «стимулирующем эффекте» всерьез?
10
Авторы во Франции XVIII века
В декрете, принятом Королевским советом в 1725 году для регулирования издательского дела в Париже (в 1744 году он был распространен на все королевство), прямо заявлялось, что идеи и тексты не являются собственностью. В соответствии с давно укоренившейся христианской доктриной все идеи рассматривались как дар Божий, явленный миру через писателя. Они не принадлежали автору и не могли быть им проданы. Только король имел право определять, что, кем и сколько лет будет публиковаться154.
Начиная с XVI века на каждом опубликованном произведении должно было стоять имя автора. Это правило было введено не для соблюдения права атрибуции, а чтобы можно было идентифицировать авторов и наказывать их за подстрекательские или еретические сочинения. На практике, как и в Древнем Риме, произведение принадлежало приобретшему рукопись издателю при условии, что он получил привилегию на ее публикацию, как в Англии до отмены Закона о лицензировании прессы в 1695 году.
Один французский писатель XVII века заявил, что после продажи печатных экземпляров автор и книготорговец «больше не имеют права препятствовать использованию» произведения «всеми теми, кто его покупает; сделанного не воротишь, как говорят наши обычаи, и то, что мы напечатали, больше не является нашим»155. В наше время эту идею повторил Джонатан Летем, выразив мнение, разделяемое движением Creative Commons и целым рядом писателей по всему миру.
Тем не менее парижские книготорговцы столкнулись с теми же проблемами, что и их коллеги из других стран. Несанкционированное переиздание процветало; и провинциальные издатели заявили о своих издательских привилегиях, чем бросили вызов монополии Корпорации книготорговцев-издателей Парижа, гильдии, чья роль была схожа с ролью компании Stationers’ Company в Лондоне.
Пиратские издания было еще сложнее подавить во Франции, чем на Британских островах. Французский язык был языком культуры европейской элиты, и произведения на французском языке писались и публиковались в городах вне власти французской Короны – в Лейпциге, Амстердаме и Женеве, и даже в таких отдаленных местах, как Санкт-Петербург и Эдинбург. Францию, в отличие от Англии, не отделял от всего остального мира Ла-Манш, становившийся естественным барьером для пиратских изданий. Иностранные переиздания наряду с книгами на французском языке, написанными иностранцами, достаточно легко попадали во Францию. Как можно было отличить книгу на французском языке, легально изданную в Амстердаме, от пиратской перепечатки авторизованной французской книги, на которой написано, что она якобы издана в Амстердаме? Проницаемые границы предоставляли французским авторам произведений, которые, вероятно, подверглись бы цензуре или были бы запрещены, удобный обходной путь: например, «Кандид» Вольтера впервые появился в издании, которое утверждало, что является переводом с немецкого, напечатанным в Женеве, что полностью выводило его за рамки французского права156. Таким образом, хотя парижская корпорация имела строгую монополию на новые книги, ей было трудно ею пользоваться.
Защищая свое положение от провинциальных печатников, парижские печатники-издатели начали формулировать концепцию, согласно которой их монополия исходит от авторов, естественных владельцев их произведений. Юрист парижской Гильдии утверждал, что «книги недавнего сочинения, созданные трудом современного автора или трудолюбием книготорговца, тем более являются индивидуальными правами (sont de droit particulier); учитывая это, никто другой, кроме этого автора или книготорговца, не может претендовать на какую-либо собственность на них»157. Если это и напоминает трудовую теорию собственности, заимствованную у Локка, то развивает ее в совершенно ином направлении: от отчуждаемой собственности к идее неотчуждаемых прав личности.
Другой авторитет защищал монополию книготорговцев следующим образом: «Рукопись… является в такой степени собственностью ее автора, что лишить его ее не более допустимо, чем лишить его денег, товаров или даже земли, поскольку, как мы уже отмечали, она является плодом его личного труда, которым он должен иметь право распоряжаться по своему усмотрению»158.
Дени Дидро, во многих отношениях прогрессивный либеральный интеллектуал, придерживался схожей позиции: «…произведение возникло в духе литератора, в том, что делает человека личностью. И как личность человека понимается как первая собственность человека, так и оригинальное произведение должно считаться собственностью автора»159.
Поражает, как эти разнообразные аргументы в защиту французских издателей XVIII века и их вечных привилегий на печатные издания, постепенно переходят к провозглашению более широких прав авторов. Как будто французские книготорговцы, а не журналисты и поэты, были изобретателями французского авторского права, которое, тем не менее, всегда называлось droit d’auteur, «право автора». Невозможно понять, кто кого обманывал.
Ключевое различие между основами английского copyright и французского droit d’auteur можно увидеть в формулировке, используемой Дидро. Он находит источник нового произведения в индивидууме, в «духе литератора», и использует это, чтобы утверждать, что «оригинальное произведение» должно, следовательно, быть личной собственностью – собственностью человека. Отсюда недалеко до того, чтобы рассматривать литературную собственность как одно из прав человека, нечто более фундаментальное, чем ограниченное коммерческое право, предоставленное в Британии как «поощрение обучения».
Король Людовик XV был более склонен благоволить авторам, чем книготорговцам. Ранг значил едва ли не больше, чем деньги во французском обществе XVIII века. Писатели вполне могли быть благородными (и многие из них были таковыми), но торговцы, конечно, не были.
Дело дошло до критической точки из-за печатника-издателя, который также был составителем образовательных книг и сам был автором. В 1770 году Люно де Буажермен попытался продать в провинции свое издание полного собрания сочинений Жана Расина без разрешения парижской корпорации. Гильдия немедленно отправила полицию арестовать тираж и возбудила против Буажермена гражданское дело. В суде его защищал адвокат Лэнге, а в публичной сфере – Вольтер. Лэнге утверждал, что автор является естественным владельцем своей работы, и что королевская привилегия была просто подтверждением авторской собственности. Поэтому Буажермен должен был иметь свободу продавать свои книги так, как он пожелает. Красноречие адвоката (и, возможно, закулисная поддержка высокопоставленных лиц, близких к королевскому двору) убедили судью встать на сторону Лэнге. Приказ об аресте был отменен, и Люно де Буажермен одержал крупную победу над монополией Корпорации книготорговцев160.
Это решение совершило небольшую революцию во французской книжной торговле. Оно было формализовано в новом законе 1777 года, который предоставил авторам пожизненное право собственности на их произведения161. Это не отменило систему привилегий и не помешало книготорговцам покупать авторские права, но изменило баланс сил между авторами и их издателями. Писатели во Франции теперь имели более длительный срок и более прочную основу для своих прав, чем британские, и это более чем за десятилетие до того, как куда более великая революция в 1789 году смела привилегии французских книготорговцев – вместе со всеми остальными привилегиями.
11
Проигравшая сторона
Несмотря на постепенное сближение правовых норм между Англией и Францией в течение XVIII века, понятие литературной и интеллектуальной собственности активно оспаривалось в обеих странах. Так, выдающийся математик Кондорсе с ходу отверг идею, что права на интеллектуальный труд служат стимулом для творцов. Если бы привилегии на печать никогда не существовали, говорил он, «Бэкон162 все равно указал бы путь к истине, а Кеплер163, Галилей, Декарт и Ньютон все равно совершили бы свои великие открытия»164. Мы, конечно, можем добавить, что отсутствие привилегий на печать не мешало Гомеру, Софоклу165, Вергилию, Платону, Конфуцию или Сэй Сёнагон166 создавать свои произведения.
Кондорсе показалось сомнительным сформулированное законом различие между созданными текстами и фактами: «Я могу свободно напечатать и опубликовать решение проблемы предварения равноденствий или изложить общую теорию механики. Авторы этих великих и полезных открытий не имеют против меня никаких претензий: слава остается только за ними. Но если бы я рискнул перепечатать красивое стихотворение без согласия его автора, я бы совершил преступление».
Такие законы, утверждал он, не стимулируют гениев и не служат общественному благу, они просто субсидируют писак, облекающих общепринятые идеи в красивый язык и обеспечивают ренту посредникам, которые это легкомыслие публикуют. На практике «привилегии… ограничивают деятельность [в книжной торговле], концентрируют ее в руках небольшого числа людей, облагают ее значительным налогом и ослабляют позиции внутреннего производства против конкуренции из-за рубежа». История доказала правоту Кондорсе по большинству этих пунктов, особенно в понимании того, что права собственности на нематериальные активы неизбежно концентрируют богатство и власть в руках немногих.
Еще более решительное осуждение подобных идей прозвучало в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Жан-Жака Руссо167, в котором он блестяще раскритиковал идею собственности по Локку: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: “Это мое!” и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: “Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!”»168169
То же самое касается и общего достояния разума. Так, Иммануил Кант считал писаное слово не продуктом труда, а лишь записью реальной или воображаемой речью, а следовательно, не подпадающим под понятие собственности170.
На протяжении всей истории высказывалось много критики против частной собственности на многие виды благ, не только на содержание книг, что частично определило то, как мы сейчас относимся к дорогам, береговым линиям, морям и океанам. Однако многие нематериальные вещи долгое время рассматривались как собственность, хотя в основном не подлежащая продаже. В образцовом римском трактате о праве, «Институциях» Гая171, проводится различие между физическими и бестелесными вещами:
«13. Телесные вещи – те, до которых можно дотронуться, например участок, раб, одежда, золото, серебро, а также бесчисленные другие.
14. Бестелесные – те, до которых нельзя дотронуться, каково то, что заключается в праве, как то: наследство, узуфрукт172, обязательства, заключенные каким угодно образом. И не относится к делу, что в наследство входят телесные вещи, и плоды, получаемые с имения, – телесные вещи, и то, что́ нам следует по какому-либо обязательству, как правило, телесно, например участок, раб, деньги; ведь само право наследования, и само право пользования и извлечения плодов, и само право обязательства бестелесны. Сюда же причисляются права городских и сельских имений»173174.
Среди всех «бестелесных вещей» наибольшее значение в Древнем Риме имели честь и репутация. Устный или письменный намек или прямая атака на пристойность вашего поведения или поведения вашего супруга/супруги умаляли ваше положение; оскорбленные римляне могли, таким образом, получить компенсацию за такие атаки в судах. Какие-то из аспектов этого античного представления о праве теперь включены в законы о клевете, но некоторые из них стали далекими предками частей современного авторского права.
Уорбертон, Кондорсе и Кант не считали, что авторы и изобретатели не имеют прав на свои произведения: они возражали против превращения их в собственность.
Однако, несмотря на их известность и обоснованность использованных ими аргументов, они проиграли борьбу в свое время – и, по крайней мере, пока, – навсегда.
Как это произошло?
12
Туман Закона
В 1603 году король Яков VI Шотландский175 вступил на престол Англии по праву наследования и стал также Яковом I Английским. Спустя столетие Акт об унии 1707 года создал Соединенное Королевство из двух монархий. Это было не унитарное государство176, как Франция, потому что Шотландия сохранила свою правовую систему с законами и процедурами, отличными от используемых в Лондоне. Например, английские законы о печати книг не имели силы к северу от границы. На протяжении всего XVIII века шотландские печатники, в основном в Эдинбурге, могли свободно печатать издания английских произведений наряду с местными изданиями без разрешения от The Stationers’ Company. Поэтому шотландские книги были заметно дешевле и так же хороши, как лондонские издания, и книготорговцы в английских провинциях были рады поставлять их покупателям, если выдавалась возможность. Однако шотландские издатели не должны были продавать свои книги к югу от границы, и когда они это делали, лондонские издатели подавали в суды и всегда выигрывали в английских судах. Но на каждое «шотландское пиратское» издание, подавленное судебным иском, выходило еще десять. Как бы Stationers’ Company не трактовала Статут королевы Анны, гильдия не могла поддерживать собственную монополию.
Шотландские издатели процветали, и Эдинбург стал одним из великих двигателей европейского Просвещения. Самые амбициозные из них хотели зайти на главный рынок англоязычной литературы – в Лондон.
Вот почему шотландский печатник Эндрю Миллар перенес туда свой бизнес и открыл книжный магазин в Стрэнде177. В 1730 году он опубликовал ставшее классическим поэтическое произведение «Времена года» (The Seasons) шотландского поэта Джеймса Томсона (он еще был автором слов постыдно имперского гимна «Правь, Британия, морями!» (Rule, Britannia!)). В 1766 году конкурирующий лондонский печатник по фамилии Тейлор выпустил собственное издание. К тому моменту «Временам года» уже было больше 28 лет, и поэтому они перешли в общественное достояние по срокам, установленным в Статуте королевы Анны. Однако Миллар считал, что срок действия закона применяется к авторам, а не к издателям, которые приобрели копию, поэтому он подал в суд на Тейлора за нарушение его прав собственности. После мучительных речей выдающихся юристов в Суде королевской скамьи в 1769 году лорд Мэнсфилд занял твердую позицию: собственность на копии продолжала существовать после публикации, поскольку, если бы это было не так, то она не была бы собственностью изначально; закон 1710 года не имел значения178. Таким образом, Миллар победил, но практической пользы в этой победе было уже мало. К тому времени, как летом 1770 года был вынесен судебный запрет, издание Тейлора, скорее всего, уже давно было распродано.
Дело Миллара против Тейлора могло остаться еще одним примером того, как регулирование английской книжной торговли образца XVII века с успехом применялось в XVIII веке – спустя столько лет после предполагаемого появления авторских прав в Статуте королевы Анны. Оно стало значимым только в ретроспективе, создав препятствие, которое вскоре попытался преодолеть другой шотландский печатник.
В середине XVIII века Александр Дональдсон открыл типографию в тени Эдинбургского замка и опубликовал множество книг по философии и медицине шотландских авторов, включая Дэвида Юма, а также легальное шотландское издание «Времен года» Томсона179. Мы можем обоснованно предположить, что большая часть его дохода поступала прямо или косвенно от продажи этих книг в английских провинциях, где большинство из них были, по мнению местных печатников, незаконными. В 1763 году Дональдсон решил принять этот вызов своей чести и своему бизнесу (он, безусловно, не считал себя мошенником) и отправился в Лондон, как и Миллар до него. Он также открыл книжный магазин в Стрэнде и выставил свои шотландские издания в витрине словно красные флаги для быков лондонского картеля.
Пятнадцать столпов лондонской торговли объединились, чтобы подать в суд на выскочку-шотландца за пиратство их копий, и они выбрали в качестве тарана «Времена года» Джеймса Томсона по той простой причине, что только что Королевская скамья объявила его законно принадлежащим Эндрю Миллару на все времена.
Дональдсон ждал этого иска. У него был план.
Бекет, книготорговец, представлявший картель в деле против Дональдсона, подал иск в Канцлерский суд, и в 1772 году лорд-канцлер, как и ожидалось, вынес решение в пользу истца, следуя решению Мэнсфилда в более раннем деле по той же книге, Миллар против Тейлора. Но Дональдсон был шотландцем и печатал свои «пиратские» книги в Эдинбурге. Это давало ему право обжаловать решение Лондона в Сессионном суде своего родного города. Как он и предвидел, шотландский суд не был впечатлен претензиями лондонских книготорговцев и вынес решение в пользу Дональдсона. Понимание правовых соглашений между Шотландией и Англией в XVIII веке, по выражению Сёдзи Ямады, «подобно попытке схватить облако»180, но какими бы неясными они ни были, законы позволили Дональдсону использовать свою шотландскую юридическую победу, чтобы подать апелляцию в Палату лордов против решения Канцлерского суда. Таков был его план с самого начала: добиться разъяснения прав на копии в тогдашнем Верховном суде Соединенного Королевства.
Все члены Палаты лордов были наследственными пэрами королевства. По определению они были владельцами земли (хотя часть ее была заложена по полной). Некоторые были образованными, даже учеными людьми; некоторые отслужили государству в армии или на правительственном посту; другие проводили свое время на охоте, рыбалке и игре в карты. У некоторых также были коммерческие интересы в промышленности и торговле. Не исключено, что некоторые из них даже владели долями в типографиях. Всего их было несколько сотен, и при рассмотрении дел все они становились судьями – весьма странный состав для суда.
Когда их призывали решить дело, они обращались к 12 лордам-юристам – бывшим судьями и магистратам, которые готовили юридические рекомендации. В случае с апелляцией Дональдсона в 1774 году коллегия лордов-юристов свела вопросы апеллирующего к пяти вопросам. На современном языке они звучат так:
1. Имеет ли, согласно общему праву, автор исключительное право первой печати своего произведения?
2. Если ответ на первый вопрос – да, то аннулирует ли факт печати и публикации произведения такие права, которые автор имеет в соответствии с общим правом?
3. Если хотя бы один ответ на два предыдущих вопроса – положительный, то отменяет ли Статут королевы Анны эти права, проистекающие из общего права?
4. Имеют ли, согласно общему праву, автор и его правопреемники (то есть любой покупатель его или ее произведения) исключительное право печатать и публиковать произведение вечно?
5. Если ответ на четвертый вопрос – да, то ограничивает ли Статут королевы Анны это право?
Все пять пунктов – разные способы задать один и тот же вопрос: предоставляет ли общее право издателям бессрочное авторское право или Статут королевы Анны означает то, что он говорит, – что права на произведения имеют ограниченный срок, после которого литературные произведения принадлежат всем и никому? Только 11 из 12 лордов ответили на вопросы. До сих пор неясно, почему не голосовал лорд Мэнсфилд, решавший дело Миллара против Тейлора. Его воздержание, по крайней мере, гарантировало, что не будет ничьей.
Результат был таким: по первому и второму вопросу трое судей были за позицию Дональдсона, а восемь – за позицию Бекета. По третьему вопросу пять судей за Дональдсона, шесть за Бекета. По четвертому – четверо за Дональдсона, семеро за Бекета. По последнему вопросу – пять за Дональдсона, шесть за Бекета.
Казалось, это решило проблему и оставило произведения в форме печатных книг в руках The Stationers’ Company, где они веками и пребывали. Но голоса этой группы лордов-законодателей не были окончательными: это все было лишь экспертной рекомендацией для голосования в весьма разношерстной Палате лордов.
Дебаты в Палате собрали большую и знатную аудиторию на зрительской галерее. Среди зрителей были философ Эдмунд Берк181, драматург Оливер Голдсмит182 и Джеймс Босуэлл, биограф Сэмюэля Джонсона; но скорее всего писателей и философов превосходили числом светские львицы и их кавалеры, хотевшие стать частью исторического события.
После того, как рекомендации лордов-юристов были зачитаны, было произнесено много речей, и, наконец, вопрос был поставлен на голосование. Результат оказался таким, на который надеялся Дональдсон, но причины такого голосования и сам процесс остаются окутанными тайной. Несмотря на отрицательные рекомендации лордов, собравшиеся пэры вынесли решение в пользу шотландского предпринимателя. Они отменили решение Канцелярии и тем самым перевернули английскую книжную торговлю с ног на голову. Возможно, разделяемая ими зачаточная идея общественных интересов побудила их пересилить коммерческие интересы могущественного лобби. Это был редкий случай – пэры пошли и против юридической экспертизы, и против интересов коммерческих кругов. На улицах Эдинбурга зажгли костры в честь победы своего местного героя. А в Лондоне книготорговцы, которые думали, что владеют Шекспиром, Мильтоном и Драйденом, могли бы с таким же успехом сжечь свои купчие бумаги.
Не теоретическое присвоение прав авторам в 1710 году породило авторское право, а принятое самым непрозрачным образом решение, ограничившее права книготорговцев и вернувшее произведения в общественное достояние по истечении срока защиты, определенного Статутом королевы Анны. Рискованное предприятие, затеянное Дональдсоном, достигло своей цели – к большой выгоде его типографии и еще большей выгоде читающей публики.
Сегодняшние дебаты об обосновании и объеме интеллектуальной собственности были бы куда более рациональными, если бы был шире понят этот основополагающий момент. Палата лордов в 1774 году, устанавливая авторское право, не создала бенефициарных прав183 авторов и не предоставила издателям никаких новых прав. Это позволило сдержать и ограничить чрезмерные притязания коммерческих кругов. Но в чьих интересах? Точно не в интересах авторов, которые ничего не выиграли от решения Палаты лордов по делу Дональдсона против Беккета. Какими бы неясными и запутанными ни были разбирательства, решение служило общественным интересам – интересам всех в доступе к более дешевым книгам и образованию.
Современное авторское право возникло в Англии в 1774 году как ограничение на типы собственности, которой издатели могли торговать. С тех пор оно трансформировалось во что-то иное. Законы последних десятилетий XX века превратили авторское право в юридическую машину, возвращающую современным владельцам контента те права и полномочия, что были утрачены издателями в XVIII веке, и предоставляющую им такие широкие права, о которых их предшественники не могли и мечтать.
В 1774 году лорды приняли решение (каким бы странным образом оно ни было принято), которое поддержало права общественности, а не интересы коммерческого лобби. Этот вопрос горячо обсуждался в публичных дискуссиях, и окончательное решение было вынесено после дебатов, которые также стали публичным зрелищем. Прошло много времени, и кажется, мы утратили чувство того, что важно, а что нет. Мы позволяем законодателям возиться со столь же важными аспектами авторского права за закрытыми дверями комитетов, вне поля зрения и внимания общественности. Реформа закона об авторском праве может показаться не лучшим материалом для прайм-тайм телевидения, но эта тема значит для нас гораздо больше, чем почти все остальное, что показывают на наших экранах.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе