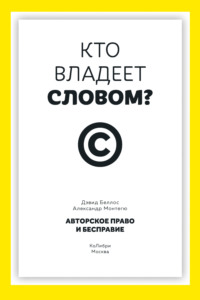Читать книгу: «Кто владеет словом? Авторское право и бесправие», страница 3
5
Книги до авторского права
Торговали книгами по крайней мере со времен Древней Греции. До последних этапов Римской империи в IV веке их писали на рулонах папируса и многократно копировали грамотные рабы в специальных мастерских, которые называли скрипториями. Свитки принадлежали владельцам рабов, но их содержание не принадлежало никому. Писатели же продавали свои рукописи скрипториям для копирования, и не было ничего необычного в том, что за это они получали солидные гонорары, хотя в Риме, как и в Древнем Китае, работа пером (или, скорее, стилусом или кистью) не считалась почетной профессией. Менее известные писатели часто платили скрипториям за изготовление копий, так же как многие современные авторы платят издательским фирмам, чтобы их работы вообще были напечатаны. Поэтому было бы неверно сказать, что книжный бизнес возник только после изобретения книгопечатания – и в Античности, и в Средних веках, будучи очень дорогими вещами, известные произведения все равно достигали всех уголков мира и на Западе, и на Востоке. Но при этом их можно было встретить только в домах богатых людей, а в более поздние времена – в монастырях и дворцах епископов и королевских семей.
Тот формат книги, который нам знаком, называется кодексом – текст написан на листах, скрепленных вместе таким образом, что их можно перелистывать. Ранняя христианская церковь начала использовать формат для своих текстов, и с V века кодекс быстро вытеснил свиток из Европы. Переписывание кодекса столь же трудоемко, как и переписывание свитка, но при этом большую часть требуемой работы бесплатно выполняли христианские монахи и монахини. Впрочем, скопированные таким образом книги оставались драгоценностью. Книги принадлежали тому, кто их скопировал, а эти владельцы могли свободно давать их взаймы и разрешать делать другие копии без ссылки на какого-либо предыдущего правообладателя.
Печать – одно из Четырех великих китайских изобретений. Она появилась во времена династии Тан72 в VIII веке и делалась методом ксилографии. Мастер вырезал на деревянной доске зеркальное отражение фрагмента текста, подготовленного до этого писцом на бумаге (еще одном китайском изобретении)73. На каждом получившемся деревянном блоке помещалась одна страница текста, а количество слов на нем зависело от размера бумаги и символов. Блоки могли пригодиться всего один раз, а могли применяться на протяжении многих лет (а то и веков) для печати сотен и тысяч копий. Они позволяли коллекционерам книг (аристократам, ученым, монахам) собирать гигантские библиотеки неизменяемого текста, что было очень важно в китайской культуре, основанной на подражании великим и продолжении их традиции. Неизменяемого – потому что блок нельзя было разобрать, а потому вырезанные на них иероглифы нельзя было пересобрать в другом порядке и применить для печати другого произведения. Поэтому в Китае не возникали вопросы, кому принадлежало литературное, философское или научное произведение, ведь их копии мог печатать только владелец оригинального деревянного блока.
На Западе печать делалась совершенно иным способом, что сделало вопрос владения и контроля гораздо более сложным. Устройство, изобретенное Гутенбергом в Майнце в 1458 году, представляло собой переделанный винный пресс, в котором винтовой механизм оказывал мягкое давление на лист бумаги, положенный на покрытую чернилами поверхность. Эта поверхность была не резным деревянным блоком, а подносом, плотно набитым многоразовыми металлическими деталями, каждая из которых была отлита в форме зеркального отображения буквы алфавита (или пустоты, или знака препинания). Они изготавливались из нового сплава свинца и меди, достаточно мягкого, чтобы сделать возможным многократное литье, и достаточно твердого, чтобы выдерживать 2000–3000 отпечатков. Фактически, реальным ограничением тиража был не износ получившегося шрифта, а ослабевающее сопротивление деревянной рамы, в которую был установлен поднос. Когда рама начинала изгибаться, отдельные буквы в композиции начинали смещаться и наклоняться, и в итоге смешивались друг с другом. Если вы наткнетесь на книгу, напечатанную ранее 1830-х годов, и увидите, что нижняя строка на странице устремлена вниз в угол, знайте, что ваша книга была выпущена на последнем издыхании печатного станка.
Печать с помощью подвижных и многоразовых свинцовых шрифтов – эталон современного промышленного производства. Несмотря на высокие затраты на первоначальную настройку, предельная себестоимость каждого произведенного изделия стремится к нулю, пусть и не достигает его. Один набор выдерживал печать около 3000 экземпляров, так что основным расходом на печать книги, помимо оборудования и бумаги, была зарплата наборщиков. На такой технологической основе зародилась классическая западная издательская бизнес-модель, правившая книжным миром с 1458 года до начала XIX века.
В этой модели привилегии и патенты решали два насущных вопроса. Во-первых, как печатник получает право собственности на рукопись и разрешение на печать книги по ней? Простой ответ: либо купив его у автора, либо получив привилегию от властей (часто за плату) на печать классического или «неавторского» произведения (например, Библии). Во-вторых, раз произведение напечатано и стало доступно каждому, что мешает покупателю начать перепечатывать его? Такому покупателю не придется тратить деньги на покупку рукописи и не надо будет платить за привилегию властям, а значит, перепечатчик сможет отобрать рынок у оригинального издательства, продавая копии по более низким ценам. Первоначальный тираж распродается далеко не сразу, в то время как начать перепечатывание издания можно всего за несколько дней (при наличии опытной команды наборщиков) – вот почему на самом фундаментальном уровне западный книжный бизнес нежизнеспособен без принудительного регулирования рынка.
Печатники вовсе не были против режима привилегий и патентов. Они были нужны им для нормального функционирования бизнеса. В свою очередь, государственные органы, обеспокоенные распространением через книги богохульных и антигосударственных взглядов, стремились привлечь печатников на свою сторону и поставить их под государственный контроль. В Париже, как и в Лондоне, количество печатных станков было ограничено законом, а права и обязанности печатников были кодифицированы посредством торговых практик и создания саморегулирующихся гильдий.
Побочным (но нужным) эффектом этого регулирования стало предоставление членам печатных гильдий монополии на производство и продажу целых категорий литературы – поэзии, драмы, беллетристики, науки, философии, теологии и т. д. Издательское дело было поделено между династиями печатников, образовывающих своеобразные книжные картели74 – гильдии. С согласия властей печатники печатали произведения – и фактически эти произведения принадлежали им, потому что ни один другой член картеля не осмелился бы перепечатать уже опубликованный текст. Например, в Лондоне почти все пьесы Шекспира были напечатаны династией печатников Тонсон75 – по сути, она владела Шекспиром так же, как другие владели Чосером76, Мильтоном77, Драйденом78 и другими авторами. Монополии на произведения, зарегистрированные на членов Stationers’ Company, были собраны в акционерное общество The English Stock79. Печатники-издатели часто заключали синдикатные соглашения80 касательно собраний сочинений, длинных книжных серий и роскошных изданий. В рамках The English Stock существовал оживленный вторичный рынок того, что мы сейчас бы назвали литературными правами: издатели продавали произведения друг другу и даже доли от доходов с них. Но Тонсон и его коллеги не думали об этих активах как о правах, считая их имуществом – либо в материальном смысле (в одном ряду с домами, землей и лошадьми), либо в смысле долей в коллективных предприятиях (в одном ряду с торговыми судами и угольными шахтами).
Вот почему изобретение печатного станка не принесло ожидаемого снижения стоимости книг. В XVI–XVIII веках английские и французские книги оставались недоступными для простых людей. Они были предметами роскоши не из-за дороговизны производства, а потому, что сплетение государственного регулирования с частными интересами позволило книгоиздателям устанавливать высокие цены без какой-либо конкуренции.
Но по какой логике кто-то мог заявить о владении трудами Гомера, Вергилия или Тацита81, которые жили и творили задолго до того, как в Китае, не говоря уже об Англии, появилось книгопечатание? Почему издатель Тонсон может жить за счет Гамлета и Лира, хотя сам Шекспир зарабатывал себе на хлеб, руководя театральной труппой?
К концу XVII века многим стало казаться, что книжный бизнес – это презренное занятие для пухлых печатников, которые охотно занимались цензурой, не давая распространяться новым идеям. Страсти накалялись.
6
Как появилась собственность
Собственность не существует в природе, но при этом является краеугольным камнем современного общества. Откуда она взялась? И как определяется, кому она принадлежит? Вот как на этот вопрос отвечает Янош Секей82, описывая сценку в школе в бедной венгерской деревушке:
«– Скажите мне, дети… думали ли вы когда-нибудь, кому принадлежит снег?
Громкий смех.
– Никому! – выкрикнул один мальчик.
– Богу! – сказал другой.
– А если кто-то сделает снеговика из этого снега, кому принадлежит снеговик?
– Тому, кто его сделал, – доносится ответ.
– Хмм… – пробормотал учитель. – А если кто-то вспашет необработанную землю, засеет ее и будет следить за ней, чтобы она стала пшеничным полем, кому это поле принадлежит?
– Тому, кто вспахал и засеял.
– Правда? – кивнул учитель. – Скажи, Петер Балога, твой отец пашет, сеет и собирает урожай, так ведь?
– Да, господин.
– И сколько земли ему принадлежит?
– Нисколько, господин.
– Правда? – учитель сделал удивленное лицо, будто он только-только узнал об этом. – Тогда здесь что-то пошло не так, вы согласны, дети?»83
Этот диалог – провокационная зарисовка на философскую теорию, разработанную в XVII веке в Англии Джоном Локком. Аргумент Локка состоял в том, что право собственности на землю – а она была основным источником богатства в те времена – возникало из труда, который был вложен в ее вспашку и посев, так что ее плоды – пшеница, сено, морковь или яблоки – не были дарами Бога, природы или суверена, а творением человеческого труда. Первые люди, заставившие землю приносить плоды, приобрели моральное и, в конечном счете, формальное право собственности на землю, и поэтому по законам наследования нынешнее распределение собственности было оправдано трудом, затраченным предками. Трудовая теория собственности пришлась по нраву среднему классу, который все более скептически относился к традиционной идее, что землю распределяет король, помазанный на царство самим Богом84.
Но что насчет «собственности» лондонских книготорговцев? Далеко не весь труд над принадлежащими им произведениями был проделан именно ими. Кроме того, книги обладают свойствами, которые нелегко вписать в общую идею собственности Локка.
Материальные блага – земля, дом, кусок говядины – могут легко быть переданы от одного владельца к другому. Их можно подарить или продать – как члены The Stationers’ Company продавали друг другу произведения. Но здесь можно заметить большую разницу. Владелец земельного участка может не дать остальным возделывать его. Обладатель куска говядины может съесть его – и все, куска больше нет. Хозяин дома может в нем жить, но тогда другой не сможет в него заселиться. Материальные блага исчерпаемы (как говядина) и ограничены в доступе (как дома). Но литературные произведения, наука и философия не являются ни исчерпаемыми, ни ограниченными в доступе. После вашего прочтения книги ее содержание не меняется. Вы можете поделиться художественным или научным произведением с кем угодно еще, и оно не потеряет своей ценности. Материальная книга может быть собственностью, как и любая другая, но ее использование – и ее полезность – открыты, неконтролируемы и не ограничены временем. Трудовая теория собственности ничего не может объяснить, когда дело касается нематериальных благ. Несмотря на эту очевидную загвоздку, аргументы в пользу строгих законов об авторском праве по-прежнему часто используют идею XVII века, что «неправильно пожинать то, что не посеял»85.
Теория Локка предоставила аргументы таким людям, как Даниэль Дефо, который был далеко не единственным мыслителем своего времени, решительно утверждавшим, что творческие произведения по праву принадлежат тем, кто их придумал. «Книга – собственность автора, – гремел он, – она – дитя его воображения, отродье его мозга»86. Но даже эта звучная шутка не совсем верна и играет на двойном смысле слова «владеть»: хотя родители могут нести ответственность за своего ребенка в течение (довольно ограниченного) количества лет, они не вольны распоряжаться им по своему усмотрению; в частности, им не разрешается продавать свое дитя.
Может быть, именно поэтому эта метафора не прижилась у писателей, желавших разорвать хватку The Stationers’ Company. Они прибегали к другим аргументативным стратегиям. Самая простая из них состояла в том, чтобы уподобить разум земельному поместью и думать о поэмах и пьесах как о плодах, выращенных трудом интеллектуальных земледельцев. Эссеист Джозеф Аддисон87, например, рассказал историю о знакомом плодовитом легковесном авторе, получавшем приличный доход от писательства, и объяснил, что «мозг, который был его поместьем, регулярно давал плоды, так же, как и земельные участки других людей»88.
Все это, конечно, просто риторика, но она превратилась в веру, а затем в доктрину. Вопрос в том, кто на самом деле посеял семена этих плодов и откуда они изначально взялись? Ответ на него было найти не так-то просто.
7
Краткая история гения
Вплоть до XVIII века считалось, что все идеи рождаются где-то извне, а не в мозгах простых смертных. Древнегреческие и римские авторы приписывали их богам или древним мудрецам, которые были ближе к богам, чем они сами. В XVII веке французский поэт Никола Буало89 продолжал настаивать на том, что только небеса могут быть источником поэзии:
В то время христианская церковь заявляла в рифмованном двустишии, что «знание есть дар Божий и поэтому не может быть продано» (Scientia donum dei est, Unde vendi non potest), основанном на строке Евангелия, которую взял на вооружение Мартин Лютер92: «Даром получили, даром давайте»93.
Лозунг движения за свободное программное обеспечение «Информация хочет быть свободной»94 не так современен, как могут подумать его сторонники. На самом деле, это отправная точка всей истории, которую нам предстоит рассказать.
Интеллектуальная собственность не могла бы возникнуть без коренного перелома в понимании первоначального источника всего творчества. В ходе него источник новых идей переместился из рук Бога в головы отдельных человеческих субъектов. В этой концепции не было ничего очевидного тогда, да и сейчас оно не остается без возражений: не все сегодня даже верят, что новые идеи в принципе существуют. Древнееврейское изречение «нет ничего нового под солнцем», переведенное святым Иеронимом95 как sub sole nihil novum est96, и сейчас порождает скептицизм насчет обоснованности собственности на идеи и выражения – это мы уже видели на примере эссе Джонатана Летема.
Однако в XVII и XVIII веках писателям, все более недовольным властью Короны, церкви и их приспешников в Stationers’ Company в мире идей, нужно было новое обоснование их претензий на интеллектуальную собственность. Метафоры вроде сравнения поэзии с дитем или разума с возделываемой землей были весьма ограничены, им нужна была совершенно новая концепция. Решение предложил не полемист и не философ, а старый поэт, проведший большую часть своей жизни в поиске покровительства у влиятельных вельмож, которые затем обанкротились. В почтенном возрасте 75 лет Эдуард Юнг97 написал открытое письмо писателю Сэмюэлу Ричардсону98, автору «Памелы» и «Клариссы», и предложил новую идею происхождения оригинальных произведений, а слово, которое он для этого использовал, было гений.
Он не дал формального определения понятию «оригинального сочинения», а лишь попросил своего адресата довольствоваться «тем, что все признают, что одни сочинения менее, а другие более оригинальны… [последние] расширяют владения Республики наук, присоединяя к ней новые области». Но при этом он дал новый ответ на вопрос, где и как возникают эти «более оригинальные» сочинения: «Можно сказать, что оригинал имеет растительную природу; он возникает спонтанно из жизненного корня гения; он растет, а не создается…»
Источник человеческого творчества, утверждал он, лежит не в чем-то внешнем по отношению к человеку, а в особой способности, которой обладают лишь некоторые люди. Гений – так он называл эту способность, а также людей, обладавших ею, – не был редким, но принадлежал исключительно индивидууму, так что все новые идеи порождались реальными людьми. Аргумент уподоблял этих особых людей богам древности, но это не главное. «Мысли Юнга об оригинальном сочинении» (Conjectures on Original Composition, 1759) разрушили устоявшиеся верования и дали новое понимание отношениям между старым и новым.
Слово, которое Юнг использовал для этой магической способности добавлять новый материал к мировому запасу идей и произведений, имеет любопытную историю. Оно похоже на заимствование из латыни, но в Древнем Риме слово genius относилось к богу определенного рода – тому, который был привязан к определенному месту, охраняя его от всех остальных. Юнг, понятно, вовсе не его имел в виду, хотя это значение genius все еще остается в выражении national genius в английском языке и во французском языке в Génie de la liberté, названии статуи на площади Бастилии. Использование Юнгом слова genius на самом деле происходит от совершенно другого латинского термина, ingenium, означающего врожденную способность говорить легко и умело, без которой оратору не обойтись. В итальянском языке ingenium превращается в ingenio (как мы видели в Венецианском статуте о патентах), которое указывает на природную силу ума, смекалку, проявляющуюся в практических или теоретических занятиях, – то, что в английском языке называлось native wit, а во французском esprit. Каким-то образом два латинских слова ingenium и genius слились, и во французском, и в английском, как и во многих других языках, слово genius теперь обозначает оба понятия99.
Иронично, что Юнг не сам придумал идею гения. Он всего лишь удачно выразил и сделал популярнее мысль, которая уже была распространена. Немецкий поэт Гёте даже учился английскому языку по «Мыслям» Юнга. Он нашел в них изумительное описание того, во что он сам верил, а затем передал работу своему молодому коллеге Фридриху Шиллеру, который перевел ее на немецкий язык100. Именно на этом языке «Мысли» объясняли и способствовали великому расцвету литературы и искусства в континентальной Европе. Юнг настаивал на том, что гениальность не является чем-то особенно редким и свойственна не только образованной элите. «Было много гениев, которые не умели ни писать, ни читать», – писал он. Гении могли совершать ошибки и пренебрегать общественным чувством вкуса, но носителями новой магии их делало то, что они создавали оригинальные сочинения.
Во Франции та же идея нашла свое выражение в Encyclopédie101, первой попытке собрать все мировое знание в алфавитном порядке. В статье о génie перечислены занятия, в которых можно найти «гениальных людей»: это не только искусства и науки, но также предпринимательство и государственное управление (как ни странно, математика не упоминается). Как и Эдуард Юнг, автор этой энциклопедической статьи не утверждает, что гении были мастерами своего дела. Они могли совершать ошибки и пренебрегать общественным вкусом, но где бы ни появлялись такие творцы, они меняли «природу вещей»: «Его характер распространяется на все, к чему он прикасается; и его разум, делая прыжок за пределы прошлого и настоящего, освещает будущее: он выходит за рамки своего времени, которое может лишь следовать по его стопам»102.
Это очень похоже на объяснение более позднего тропа в романтизме – безденежный, еще не признанный гений, пишущий стихи при свечах, чтобы согреть умирающую возлюбленную (в конце концов, это главная тема «Богемы» Джакомо Пуччини103). Хотя сегодня может показаться, что учение об индивидуальной гениальности лежит в основе самой концепции интеллектуальной собственности, оно не предшествовало изобретению авторского права. Оно появилось лишь спустя более чем 70 лет.
Главная причина проблем – это решения, гласит закон Севарейда104. Ранняя история авторского права тому показательный пример.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе