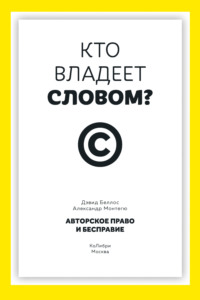Читать книгу: «Кто владеет словом? Авторское право и бесправие», страница 4
8
Статут королевы Анны
Авторское право не означает и никогда не означало право делать дубликаты. Английское слово copy, произошедшее от латинского copia, «полнота, множество» (как в cornucopia, «рог изобилия»), долгое время использовалось для обозначения работы писцов, которые «заполняли» старый текст, чтобы создать более красивую новую его версию. Но основное значение слова copy было фактическим продуктом действия писателя, то есть самим произведением, а не его изданием. В современном английском языке «копией журналиста» (a journalist’s copy) называют сами сюжеты журналистов, а не их дубликаты; то же самое касается «редакторов копий» (copy-editors), поправляющих не дубликаты, а фрагменты текста105. По этой причине права, которые издатели-печатники имели на выпускаемые книги, назывались копиями (copies); когда они продавали друг другу долю в новом издании Чосера или Драйдена, они фактически торговали правом на издание (сору). Когда в начале XVIII века появился термин «право на копию» (copy-right), он означал лишь привилегию печатать и публиковать текст.
В 1695 году истек срок действия английского Закона о лицензировании печати 1662 года, который закреплял контроль компании The Stationers’ Company над печатными книгами. Его могли продлить, но в результате политического тупика, мало чем отличающегося от сегодняшних прений в парламентах, этого сделано не было. Внезапно не оказалось никакой правовой основы для исключительных и постоянных прав печатников-издателей на копии, которыми они владели. В принципе, теперь любой мог печатать что угодно. Катастрофу для устоявшихся книготорговых предприятий усугубила широкая доступность печатных станков за пределами Лондона и в соседних юрисдикциях вроде Шотландии и Ирландии. Нужно было что-то делать, но что?
По этому вопросу разгорелась нешуточная дискуссия. Были составлены предложения, выдвинуты законопроекты, в прессе проходили публичные дебаты. В течение 15 лет вопрос оставался нерешенным. Кто на самом деле должен иметь законное право собственности на копию писателя? Разве литературные и философские произведения не должны принадлежать по праву всем? Но если так, то как тогда печать и издательское дело смогут быть достаточно прибыльными, чтобы продолжить публикацию новых и старых произведений? И если право собственности на копию посчитать обычной собственностью, можно ли оправдать «огораживание» важнейших произведений – Гомера, Вергилия, Шекспира и самой Библии?
В дискуссию вступил сам Джон Локк: «Конечно, кажется абсурдом, что какое-либо лицо или компания теперь имеют исключительное право на печать трудов Цицерона, Цезаря или Тита Ливия106, живших за много веков до них; в природе не может быть никакой причины, почему я, если бы счел это нужным, не смог бы напечатать их так же хорошо, как Stationers’ Company. Свобода каждого человека печатать эти труды, безусловно, является способом сделать их издания дешевле и лучше»107.
Лоббисты печатников ответили Локку следующим образом: «Принимая во внимание, что вольность, которую в последнее время позволили себе печатники, книготорговцы и другие лица, печатая и перепечатывая изданные книги без согласия авторов, за которыми остается несомненная собственность на такие книги, что есть продукт их учения и труда, или тех лиц, кому авторы законно передали свое право, является не только действительным препятствием для учения вообще, но и явным вторжением в собственность законных владельцев, к их ущербу, а часто и к разорению их и их семей…»108
В целом, апологеты Stationers’ Company здесь не лгали, даже если никто из них по-настоящему не разорился. А обанкротившийся издатель – это последнее, чего хочет писатель.
Главным фаворитом в ворохе различных решений проблемы стало предложение переуступки права собственности на копию отдельным членам Stationers’ Company, которая сама сильно вмешивалась в разработку нового законопроекта. Однако в какой-то момент парламентского процесса издатели-печатники сделали уступку, по которой авторы смогли бы получить фактическое право собственности на свои произведения, хотя и на ограниченный законом срок. Позже эта уступка дорого им обойдется, но то, что тогда удалось провернуть Stationers Company, было по меньшей мере изобретательно. В законопроекте они предложили наделять правом собственности на содержание печатных книг авторов или их правопреемников, то есть тех, кто покупал у авторов произведения для печати – то бишь, издателей. При этом ограниченный срок прав, который, согласно новому правилу, появился бы у писателей, не должен был применяться к предпринимателям, оплатившим их приобретение. На практике литературная собственность останется в руках издателей, где она пребывала на протяжении столетий. Проблема решена.
Статут королевы Анны 1710 года обычно рассматривается как начало современного авторского права. Если прочитать его первоначальную формулировку, то, конечно, можно только согласиться с этим:
«Что с и после десятого дня апреля 1710 года автор любой уже напечатанной книги, не обладающий долей Книги, или книготорговец, печатник или другое лицо или лица, которые приобрели или приобрели копию или копии любой Книги с целью напечатать или перепечатать их, будут иметь исключительное право и свободу печатать такую Книгу в течение срока, не превышающего в 21 год, начиная с указанного десятого дня апреля <…> И что Автор любой Книги или Книг, уже составленных и не напечатанных и не опубликованных или которые будут составлены впоследствии, и его правопреемник или правопреемники будут иметь исключительное право печатать и перепечатывать такую Книгу и Книги в течение срока в 14 лет, начиная со дня первой публикации их, и не более…»
«Акт о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени» (Act for the Encouragement of Learning by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, During the Times therein mentioned) – влияние этих формулировок на сегодняшний мир сложно переоценить – несколько смягчил широко распространенное негодование по поводу богатства и власти. Акт разрешал без каких-либо ограничений импорт книг, напечатанных на современных иностранных и древних языках; он предписывал издателям присылать в университетские библиотеки копии зарегистрированных произведений. Кроме того, он учредил специальный комитет под председательством архиепископа Кентерберийского для рассмотрения жалоб на взвинчивание издателями цен. Все эти уступки, впрочем, основывались на обманчивой игре слов. Может показаться, что акт давал авторам права на получение выгоды с их произведений на срок до 28 лет, но издатели воспринимали это так, что в течение этого срока они могли выкупить права у писателей, а затем владеть ими вечно. Формулировка акта лишь наложила заплатку поверх базового противоречия между правом, ограниченным в сроке действия законом, и собственностью, которая по природе своей бессрочна. Противоречие это привело к многовековым спорам и так и не было разрешено. Когда законопроект только проходил через парламент, Даниэль Дефо, понявший всю путанность формулировок, назвал его «позорным разгромом собственности личности, а именно, его книг»109.
Как бы то ни было, Статут королевы Анны восстановил порядок на лондонском книжном рынке, предоставив наконец издателям законное основание для преследования и аннулирования пиратских изданий, напечатанных до этого в Шотландии и других регионах королевства.
Первая попытка прояснить закон была предпринята в 1716 году, когда лондонский издатель зарегистрировал свое намерение выпустить английский перевод произведения, изначально опубликованного на латыни. Брат и наследник тогда уже покойного автора, Томас Бёрнет, обратился в суд, чтобы предотвратить публикацию перевода, причем не столько ради денег, сколько по соображениям семейной чести. Бёрнет обосновал свой иск правами, предоставленными авторам Статутом королевы Анны, ведь он позволял пресекать несанкционированную перепечатку конкретного произведения – но был ли перевод тем же произведением или уже другим? Сейчас воспринимается как данность, что владельцы авторских прав также владеют правом и на переводы своей собственности, но в XVIII веке это было не очевидно – Статут королевы Анны ничего не говорил про переводы. Когда дело наконец дошло до Канцлерского суда110 в 1721 году, ответчик-издатель утверждал, что Статут был призван «поощрять науки, предоставляя автору доход от книги», но «не препятствовать переводу книги на другой язык, который в некоторых отношениях может быть назван другой книгой, а переводчик может быть назван автором, поскольку для этого требуется умение обращаться с языком». Так и было решено: лорд-канцлер постановил, что «такие усилия [как перевод] не подпадают под запрет закона»111. Дело 1721 года стало причиной, почему Англия отказывалась полностью признавать право на перевод аж до 1911 года.
Рассматривая это дело, мы понимаем важное: что с самого момента своего появления «copy-right», как считали некоторые, выходил далеко за рамки просто права на печать. Борьба за переработку работ и производные произведения так же стара, как и само авторское право.
Любопытно, что несмотря на постановление канцлера, разрешающее переводам быть отдельными от оригинала самостоятельными работами по причине непопадания их под действие Статута, суд, тем не менее, вынес решение в пользу истца и запретил продажу этого конкретного перевода. Причиной такого парадокса стало содержание книги: суд счел, что шуточный выдуманный диалог Адама и Евы и другие «странные небылицы» не должны были быть доступны на простонародном языке. Сегодня такой довод назвали бы элитизмом и классизмом112, но это еще и первый пример того, как общественный интерес был использован в качестве предлога, чтобы превратить закон об авторском праве в репрессивный инструмент.
Несмотря на судебный запрет перевода на английский язык книги Бёрнета, Stationers’ Company удалось распространить точку зрения, что Статут позволяет вести дела как раньше. После прочтения Акта могло сложиться впечатление, что стоит подождать конца 21-летнего срока и страну захлестнет волна новых дешевых изданий произведений, опубликованных до 1710 года. Но в 1731 году ничего не произошло. Не изменились цены и не увеличилась доступность произведений Чосера, Чапмена113, Шекспира или Мильтона. The Stationers’ Company с самого начала ясно дала понять, почему это должно было быть так: «Говорят, что нам должно быть достаточно многолетнего срока действия нашего исключительного права на печать. На это мы отвечаем, что если у нас есть право на десять лет, то у нас есть право навсегда. То, что человек владеет собственностью в течение 10 или 20 лет, ни в каком другом случае не считается оправданием того, чтобы другой человек ее у него отобрал…»114.
Пройдут десятилетия, прежде чем знаменитое изобретение авторского права в Статуте королевы Анны принесет перемены в отношения между писателями и издателями или изменит ситуацию с общественным доступом книг. Интеллектуальная собственность еще не возникла полностью: законодательное решение проблемы временного беспорядка в книготорговле не поставило точку в спорах вокруг авторского права, а просто сохранило статус-кво.
9
Миф о стимулирующем эффекте
Формулировка, использованная в названии Статута королевы Анны 1710 года, «о поощрении наук», была почти дословно повторена в названии Закона США об авторском праве 1790 года. Она регулярно приводится законодателями и судьями как аргумент в пользу того, что смысл интеллектуальной собственности – стимулировать творцов и изобретателей производить больше общественных благ. Вот несколько примеров: «Каждое увеличение срока действия или силы патентов стимулирует рост изобретательской активности». «Необходимо финансовое стимулирование, поощряющее производство и распространение интеллектуальных произведений». «Конечная цель авторского права – интеллектуальный рост в обществе, чего авторское право стремится достичь, предоставляя потенциальным творцам исключительный контроль над копированием их произведений, тем самым предоставляя им финансовый стимул для создания информативных, интеллектуально обогащающих произведений для общественного потребления».
Хотя эти заявления могут показаться кому-то сами собой разумеющимися, с ними явно что-то не так. Более длительный и сильный патент на болтовню, например, не будет стимулировать рост человеческой речи.
Стивену Сондхайму115 и Леонарду Бернстайну116 в написании «Вестсайдской истории» никак не помогло «финансовое стимулирование» потомков Линтотов и Тонсонов117, владельцев бессрочных прав на «Ромео и Джульетту». Если денежно поощряется не только написание новых работ, но и обладание старым хламом, то разве ведет такое поощрение к созданию информативных, интеллектуально обогащающих общество произведений? В любой другой серьезной научной дисциплине редакторы бы вычеркивали такие бессмысленные формулировки – и тем не менее они разбросаны повсюду в юридических текстах об авторском праве.
Сторонники усиления законов об авторском праве и патентах приводят в поддержку своей позиции введенные в XV веке в Венеции привилегии, дескать, в них пишется, что монополии и приносимая ими прибыль поощряет создание товаров, инструментов, пьес, поэм и песен. Но вот ведь незадача: в венецианском Статуте о привилегиях 1474 года ничего не говорится о стимулах. Принявший его Сенат писал про «острейших умов, способных придумывать и изобретать всевозможные гениальные приспособления», которые уже прибыли в Венецию и уже обогатили ее. Закон был создан, чтобы «изобретенные ими приспособления и изобретения не могли быть скопированы и сделаны другими, что обесчестило бы их». Да, конкурентам полагался штраф в размере ста дукатов, но это единственное упоминание о деньгах в Статуте – сдерживающий фактор для конкурентов, а не стимул для новых изобретений. Точно так же предоставленная в 1469 году Иоганну фон Шпейеру привилегия печати обещает «поддерживать и кормить» ремесленника и предоставлять ему средства для покрытия «больших расходов его домашнего хозяйства и заработной платы его ремесленников». Предоставленная Сенатом краткосрочная монополия была направлена только на то, чтобы помочь Иоганну фон Шпейеру «продолжать в лучшем расположении духа и считать свое искусство печати чем-то, что следует расширять, а не чем-то, что следует оставить». Привилегия поощряла продолжение работы с уже изобретенным печатным станком, а не создание чего-то нового.
Статут королевы Анны тоже нельзя назвать доказательством того, что изначальной целью авторского права было поощрение создания новых произведений. Джон Фезер, тщательно изучивший историю и разработку закона, приходит к выводу, что он был призван «обеспечить контроль над производством [книг] кучкой богатых капиталистов… [и] продолжающееся доминирование кучки лондонских фирм над английским издательским делом»118. Лайман Паттерсон, другой выдающийся специалист в этой области, называет Статут «законом о регулировании различных форм монополий»119. С ними не согласен Ронан Дизли, чьи слова мы приводили выше. Он рассматривает Статут как «компромисс, но не между книготорговцами и государством-цензором, а между авторами, книготорговцами и читателями»120. Но «стимулирующий эффект», за который цепляются юристы, чтобы обосновать пользу авторского права, не обнаруживается ни в самом тексте Статута, ни в обсуждениях его разработки, ни в интерпретациях обоих ведущих ученых.
Статут королевы Анны нельзя рассматривать ни как победу книготорговцев, ни как признание прав авторов – прежде всего это триумф дипломатического языка. Его название позволило сторонам объединиться ради очевидно достойного дела. «Поощрение наук» было моральным обоснованием лишь в той же степени, что и компромиссным прикрытием для принятия закона. Но со временем формулировка стала восприниматься более буквально, чем изначально предполагалось, что дало крупным корпорациям возможность прикрыть захват авторских прав в невиданных масштабах риторикой «заботы об общественном благе».
Сама идея того, что писатели пишут, потому что им за это платят (и что они могли бы писать больше, если бы им больше платили) возникла спустя десятилетия после принятия Статута королевы Анны. Ее самая известная формулировка содержится в отрывке из «Жизни Сэмюэля Джонсона» (Life of Samuel Johnson) Босуэлла121. Под датой 5 апреля 1776 года биограф описывает следующий диалог с героем книги: «Когда я выразил искреннее желание, чтобы [Джонсон] что-нибудь сказал об Италии, он сказал: “Я не понимаю, как я мог бы написать книгу об Италии. Но я был бы рад получить 200 или 500 фунтов за такую работу”. Это показало… что он неизменно придерживался того странного мнения, которое он любил высказывать в ленивом расположении духа: “Только болваны что-то писали не ради денег”. Многочисленные примеры обратного придут на ум всем, кто разбирается в истории литературы».
Жаль, что ремарка Джонсона «только болваны что-то писали не ради денег», запомнилась лучше, чем мгновенное ее опровержение автором биографии. Чтобы понять неправоту Джонсона, нет нужды приводить «многочисленные примеры… в истории литературы», достаточно просто оглянуться. В Соединенных Штатах каждый год публикуются сотни тысяч новых книг, причем количество авторов примерно соответствует количеству книг122. Почти все их авторы зарабатывают либо гроши, либо вовсе ничего. Кто-то даже платит из собственного кармана, чтобы их работы были опубликованы в издательстве, а другие получают субсидию на публикацию от университетов, в которых они работают. В современном мире лишь небольшое количество авторов – быть может, 200 во Франции, тысяча в Великобритании – достаточно удачливы, чтобы зарабатывать на жизнь написанием книг. Более того, доходы авторов от писательства падали именно в те десятилетия, когда расширялись сфера охвата и срок действия авторского права. Последние десять лет доходы от писательства перешли в свободное падение и теперь, как правило, находятся ниже планки минимальной заработной платы123. Согласно официальным данным, во Франции наблюдается долгосрочное падение писательских доходов и сокращение числа авторов, зарабатывающих исключительно творчеством124. И все же люди продолжают писать! То же самое относится и к творцам в большинстве других областей: «Большинство людей искусства… [нынче] зарабатывают значительно меньше, чем они зарабатывали бы, не занимаясь искусством», – пишет британский экономист Рут Тауз125. При этом производительность британских творческих отраслей не падает; напротив, они вносят больший вклад в ее экономику, чем автомобильная индустрия. Еще никогда в ходе человеческой истории не платили так мало стольким людям за так много.
Все те люди, что бьют рекорды по количеству зарегистрированных в ISBN126 произведений в день, – они что, все болваны? Да, Максим Ровере писал, что идиоты повсюду вокруг нас127, но нельзя же объяснить исключительно идиотизмом труд и идеи писателей со всего мира.
Люди сочиняют литературные произведения по самым разным причина, будь то самовыражение, сведение счетов, внутренняя нужда, простое удовольствие или поддержание престижа… Те же, кто пишет ради заработка, как правило, не отличаются оригинальностью – и не контролируют права на свои произведения.
Писательская халтура всегда обеспечивала доход незаметной части литературного мира: обитателям Граб-стрит128 в XVIII веке, журналистам XIX–XX веков и литературным рабам XXI века – авторам бульварных романов, скрипт-докторам129 и гострайтерам, пишущим тексты от лица знаменитостей. Иногда она поддерживала творцов с более высокими художественными амбициями: халтура позволяет выиграть время, нужное для создания достойных картин, песен, стихов и романов. Но, как предвидел Кондорсе в XVIII веке, литературная собственность, закрепленная за авторами, по сути, вознаграждает авторов мусорных произведений. Это же понимание лежит в основе яростной атаки на расширение авторских прав, с которой выступил в 1970 году Стивен Брейер, судья Верховного суда США: «Маловероятно, что “плод” или “награда” – это сумма денег, нужная, чтобы убедить человека написать книгу. Нет необходимости в законе об авторском праве, чтобы гарантировать выплату такой суммы, поскольку при отсутствии рабства автор не будет писать, пока ему не оплатят его “убеждающую” стоимость. “Плод” или “награда” тогда должны означать что-то еще».
И правда, они всегда значили нечто большее, начиная со времен Древнего Китая и заканчивая роскошными кампусами американских университетов сегодня:
«Можно легко представить себе более справедливую схему распределения бремени расходов, которая при этом поспособствует распространению серьезных работ, – в этом нам помогут субсидии, гранты или премии от правительства, фондов или университетов. Не будет несправедливым финансировать за счет налогов создание работ, которые приносят пользу не только покупателям, но и многим другим членам общества. Такая система сможет вознаградить автора в таком же, а то и в большем размере, чем система авторского права, при этом не ограничивая распространение его работы. На практичность такой системы – когда она ограничена работами, имеющими особую социальную ценность, – нам намекает тот факт, что сегодня целый ряд правительств и других учреждений присуждают гранты и премии такого рода. В Соединенных Штатах размеры такой поддержки достаточно ощутимы по сравнению с общими доходами научных, технических и даже художественных писателей от роялти»130.
Брейер не ошибается, полагая, что мы никогда по-настоящему не отказывались от патронажа, даже в случае художественной литературы. Литературные резиденции, финансируемые благотворительными фондами и филантропами, ставки в колледжах и университетах, а также стипендии и премии приносят долгожданное облегчение оригинальным писателям в наши дни, когда опубликованные работы (чаще всего) приносят минимальный доход.
Если предполагаемый стимулирующий эффект закона об авторском праве настолько плохо работает и имеет столь сомнительную историческую основу, что же тогда говорить о патентах, из которых изначально выросла идея монопольной защиты?
«Новые производства», как их называл английский Статут о монополиях 1624 года, теперь охватываются термином «Research and Development»131. Патронаж остается значительным источником финансирования такой работы: из 311 миллиардов евро, потраченных на исследования в Европейском союзе в 2020 году, почти треть поступила из государственных источников132, а в 2021 году правительство Соединенных Штатов направило на исследования даже еще больше – более 150 миллиардов долларов133. Основной аргумент крупных корпораций в пользу патентной защиты зиждется на том, что только они могут обеспечить им отдачу, необходимую для продолжения инвестиций в исследования и разработки. Корпорации напирают на этот довод, но при этом многие из их проектов предполагают тесное сотрудничество с финансируемыми государством исследовательскими лабораториями. Например, истекший патент на устройство ранжирования веб-страниц, которое принесло Google огромные состояния, «был частично поддержан грантом National Science Foundation134 под номером IRI-9411306–4»135, а распределение прав на вакцину от COVID-19 между частными производителями и Национальным институтом здравоохранения США все еще в процессе136.
В настоящее время дискуссии о полезности и эффективности патентов в «новых производствах» сводятся к двум противоположным моделям того, как появляются изобретения. Одну модель можно представить на примере случайного открытия пенициллина Александром Флемингом137 в 1928 году; другую – на примере изобретения лампочки Томасом Эдисоном138 в 1878-м. Компанию пенициллину и Флеммингу составляют Луи Пастер139 и его случайное наблюдение, что культуры куриной холеры со временем стали безвредными – так были изобретены вакцины; и наблюдение Пьера Бертье в 1821 году, что сплавы железа и хрома устойчивы к ржавчине – так родилась нержавеющая сталь.
Модель лампочки Эдисона, доминирующая в общественном сознании в наши дни, не так проста, как могло бы показаться. Томас Эдисон, безусловно, намеревался делать открытия и изобретения и вовсе не случайно создал амбициозную фабрику-мастерскую в Нью-Джерси, где рабочих «нанимали изобретать». Эти наемные работники придумали множество вещей, включая первую электрическую лампочку. Однако из 1093 устройств, на которые Эдисон получил американские патенты, лишь несколько оказались и полезными, и прибыльными в производстве. Более того, те, которые были полезны, продолжали приносить прибыль в течение многих десятилетий после истечения срока действия их патентов.
Итак, как и в области искусств, «стимулирующий эффект» права интеллектуальной собственности в области изобретений – это попытка натянуть сову на глобус. Возможно, если бы электрическая лампочка не защищалась патентом, то ее производство стало бы менее прибыльным для изобретателей, и она не подтолкнула бы дальнейшую работу в лаборатории Эдисона – а может быть, и нет. Возможно, Александр Флеминг нашел бы пенициллин раньше, если бы подумал о прибыли, которую он мог бы получить за патент на антибиотик. Но поскольку он не знал, что именно он ищет, вряд ли его могла бы простимулировать идея, что он может это «неведомо что» запатентовать.
Апологеты усиления защиты интеллектуальной собственности часто утверждают, что монополии дают ту дополнительную прибыль, которая необходима для исследований и разработки следующего чудо-препарата. На первый взгляд это звучит правдоподобно: на разработку новых продуктов, их тестирование и маркетинг требуются огромные суммы. Но аргумент сталкивается со стандартным тестом на логику. Чтобы доказать его действительность, нужно показать, что противоположное утверждение недействительно. Чтобы доказать от противного, что стимул имеет реальный эффект, нужно показать, что при отсутствии стимула что-то важное не было бы изучено и разработано или что при отсутствии авторского права некоторые сто́ящие произведения в литературе, искусстве или музыке не были бы написаны. К сожалению, суждения такого рода не подлежат доказательству. Никто не сможет указать на не написанные из-за отсутствия авторского права шедевры, и ни одна фармацевтическая компания не может указать на изобретения, которые она бы не сделала, если бы не имела на них патентной защиты. Аргументы в пользу стимулирующего эффекта защиты интеллектуальной собственности заперты в границах того, что Джеймс Бойл называет «зоной, свободной от доказательств»140. Мы бы также добавили: «и миром, свободным от логики».
Скептицизм насчет обоснованности аргумента о стимулировании также укрепляется поведением многих крупных корпораций, владеющих ценными патентами. Например, фармацевтические гиганты обычно тратят гораздо больше на рекламу, чем на исследования: в 2019 году Eli Lilly потратила целых 5,59 миллиарда долларов на исследования, но при этом 6,2 миллиарда долларов на маркетинг и продажи. GlaxoSmithKline сообщила об инвестициях в размере 4,5 миллиарда долларов в разработку и исследования, но при этом отчиталась и о 11,4 миллиарда долларов, потраченных на маркетинг; а цифры Pfizer составили 8,65 и 14,35 миллиарда долларов соответственно141.
Возникает вопрос: что сократят такие компании, если потеряют патентную защиту на кучку своих молекулярных соединений – исследования или маркетинг? На практике потеря будет небольшой. Около 95 % лекарств из Перечня основных лекарств Всемирной организации здравоохранения – «непатентованные», но все равно приносят прибыль производителю142. Аргумент, что крупные фармацевтические компании обанкротятся, если потеряют защиту интеллектуальной собственности, слаб изначально – и все же его принимают на веру.
Впрочем, предоставляемый авторским правом и патентным правом стимул проявляет мощную силу – но только в стране фантазий. В 1958 году, где-то в грязных казармах на задворках французской армии, один призывник, тратя драгоценное свободное время, перепечатывал свою вторую попытку написать первый роман. В письме другу этот призывник дал волю своему воображению о всем том, что принесет ему роман: каникулы в Палм-Бич, лекционный тур по Штатам, яхта, лыжные каникулы и лечение у самого лучшего психоаналитика143. Этот мечтательный призывник вырос и стал по-настоящему оригинальным творцом, одним из самых любимых писателей в современной Франции – но за исключением курса психоанализа у Жана-Бертрана Понталиса144 ни один из «стимулов», которые он представлял себе в армии, так и не реализовался. Напротив, все его работы в качестве профессионального писателя были написаны в свободное время от 40-часовой рабочей недели в научной библиотеке. Журналисты часто спрашивали автора «Вещей» (Les Choses, 1965), почему он так и не уволился, но взрослый Жорж Перек145 всегда отвечал, что не хочет писать ради денег. Вот вам и стимулирующий эффект!
В мире, вероятно, живут миллионы молодых Переков, работающих официантами или водителями автобусов, мечтающими, что великий роман, над которым они работают после работы, станет бестселлером New York Times и пойдет в основу голливудского фильма. Не сдаются на этом пути лишь единицы. Стимулирующий эффект быстро блекнет при контакте с реальным миром.
Телевизионная реклама веб-сайтов с названиями вроде Inventhelp146 также опирается на фантастическую идею, что вы тоже можете построить лучший в мире компьютер в своем гараже или подвале и благодаря патентной защите стать таким же богатым, как Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард147. Шквал подросткового мастерства, подпитываемый такими надеждами, иногда приводит к стоящему прогрессу, но в реальности почти все серьезные изобретатели имеют оплачиваемую работу в университетах, исследовательских лабораториях, правительственных департаментах или корпорациях.
Существуют целые области, куда не ступала нога патентного и авторского права, и математика – самый показательный пример. Математика находится вне отношений собственности благодаря различию между природным фактом и создаваемой работой, проведенному в самом начале появления современного режима интеллектуальной собственности: Scientia donum dei est, unde vendi non potes148. Всегда считалось, что вещи, существующие в природе, не могут быть собственностью, и до недавнего времени открытия математиков считались не их изобретениями, а откровениями платоновского мира идей. Почему же тогда математики не просто усердно работают, но и добиваются успехов, которые являются основополагающими для изобретений во всех других областях, от приложений для заказа такси до ядерной науки, вычислений и космических полетов? Если математикам не нужен стимулирующий эффект, то, наверное, они совсем не похожи на других людей? Конечно нет. Мерсенн149, Ньютон, Гаусс150, Эйнштейн и Джон Конвей151, как и другие люди, могли встречаться с игорными долгами, разводами и принудительным изгнанием. Они нуждались в деньгах так же, как и любой другой человек, но они не заявляли права собственности на свои открытия в попытке решить финансовые проблемы. Сталкиваясь со столь ярким исключением в лице математики, декларируемая связь между стимулом и творчеством оказывается попросту несостоятельной.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе