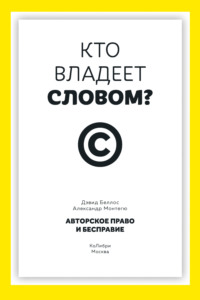Читать книгу: «Кто владеет словом? Авторское право и бесправие», страница 2
Представления о чести, регулировавшие распространение идей и произведений в Античности, как показывает заявление DreamWorks, не исчезли – на них просто наложилась правовая структура, которая уподобляет имуществу некоторые (не все) аспекты творческих произведений. Сама идея, что такие нематериальные, неосязаемые, абстрактные вещи – поэмы, пьесы и романы – могут быть приравнены к товарам, не возникла сразу, и с самого своего появления она горячо оспаривалась мыслителями и государственными деятелями самых разных направлений.
«Одно и то же чувство или учение могут в одно и то же время разделять все люди», – писал Уильям Уорбертон47 в XVIII веке, критикуя зарождающуюся идею литературной собственности. «С таким же успехом можно было бы вознамериться лишить других возможности наслаждаться освежающим бризом»48. Эту метафору Уорбертона несколько десятилетий спустя перенял историк Томас Бабингтон Маколей: «Как только содержащиеся в книгах идеи оказываются придуманы, они становятся столь же доступными, как солнечный свет или воздух»49. Судья Верховного суда США Луис Брандейс50 вновь выразил эту мысль в 1918 году: «Знания, установленные истины, концепции и идеи становятся, после добровольного сообщения другим, такими же свободными, как и воздух для общего пользования»51. Меморандум об авторском праве, подготовленный для законодателей, обсуждавших российский закон о цензуре 1828 года, трактовал факт публикации как «дар автора на благо общества, которому он обязан своим образованием и гражданством»; как и Джонатан Летем в конце своего полного плагиата эссе о плагиате: «Не пиратьте мои издания – лучше ограбьте мое видение. Название игры – “Отдай все”. Вы, читатель, можете читать мои истории. Они никогда не были моими изначально, но я дал их вам. Если у вас есть желание их забрать, возьмите их с моим благословением»52.
Эти аргументы ударяют в самое уязвимое место авторского права. Все, что публикуется, становится публичной, общественной собственностью самым очевидным и необратимым образом – однако авторское право снова ее приватизирует. Что же привело к возникновению и институционализации такой парадоксальной идеи?
3
Патенты и привилегии в Италии эпохи Ренессанса
Интеллектуальная собственность, термин, впервые возникший во французском языке в конце XVIII века, стала всеобъемлющим обозначением цепочки пересекающихся правил, которые касаются торговых секретов, дизайна, публичности и конфиденциальности, а также основополагающих понятий авторских прав и патентов. Старейшими из них, если не считать соглашения об использовании знаков и символов торговцами со времен Средневековья, являются не авторские права, а патенты. Однако, поскольку первые важные патенты касались использования печатного станка, две основные области интеллектуальной собственности – права на созданные произведения и права на новые изобретения – имеют общую раннюю историю.
Патенты зародились не как права собственности, а как привилегии. Это важное различие: привилегия предоставляется патроном, тогда как собственность устанавливается законом. Однако все интеллектуальные собственности в современном мире имеют одну общую черту с привилегиями: в отличие от материальной собственности, они действительны в течение ограниченного времени и должны когда-нибудь истечь.
«Патент» происходит от средневекового латинского выражения litterae patentes, что означает «письма, лежащие открытыми» – лежащие открытыми, чтобы их могли прочитать все, не нарушая печати короля или другой облеченной властью фигуры. Как и litterae patentes, современные патенты – это публичные документы, предоставляющие предъявителю привилегию определенного рода. В прошлом патентное письмо могло давать право владеть имением, торговать или вести какую-либо деятельность. В настоящее время патенты, которые открыты для публичного ознакомления в библиотеках и онлайн-поисковых инструментах патентных бюро, дают владельцу контроль над изобретением или устройством. Патенты, древние и современные, всегда называют свой объект и указывают объем привилегии в годах и штат или юрисдикцию, в которой они действительны, – поскольку, несмотря на существование Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), патенты остаются привилегиями, ограниченными границами государств, в которых они зарегистрированы (и государств, заключивших с первым соответствующие договоры). Если ваше изобретение копирует лаборатория, находящаяся в Иране, а у вас нет на него иранского патента, то никаким нарушением это не считается.
Патенты не являются чем-то тайным. Несмотря на то, что они являются публичными фактами, они могут быть предоставлены держателям, которые не желают их эксплуатировать – чтобы на время действия привилегии «сесть» на них и не допускать подобные устройства на рынок. Напротив, коммерческие тайны, такие как химическая формула, делающая напиток Coca-Cola кока-колой, подлежат защите только при постоянном коммерческом использовании. Хотя изобретатели и корпорации иногда выбирают одно, а иногда другое как лучший способ сохранить монополию на производимую ими продукцию, патенты и коммерческие секреты теоретически несовместимы. Патенты оправданы общественными интересами, поскольку они делают знание о каком-то ценном (или бесполезном) изобретении доступным для всех через архив патентного бюро. Коммерческие тайны служат исключительно частным интересам. Однако их влияние на простых людей в целом одинаково: вы одинаково несвободны производить собственную Coca-Cola и создавать устройство, работающее по патентам Apple.
Привилегии, предоставляемые патентными грамотами, возникли в конце Средневековья в Светлейшей Республике Венеция, активно торговавшей с портами Ближнего Востока. Венецианские купцы отправлялись в Смирну, Тир и Александрию, чтобы купить специи, попавшие туда из неизвестных восточных земель, и изысканные изделия из тканого шелка, кованого металла и цветного стекла. Венеция разбогатела как транзитный узел для товаров, которые не могли быть сделаны в Европе, но вскоре стала еще богаче, научившись их производить самостоятельно. Впрочем, самым долговечным из того, что Венеция привезла на Запад с базаров Каира, Дамаска и Алеппо, была восточная практика утверждения монополий через предоставление торговых привилегий53.
Светлейшая Республика пригласила турецких и арабских мастеров, чтобы они поселились в Венеции и научили венецианцев делать предметы роскоши, но эти мигранты хотели чего-то взамен, чего-то знакомого им из мира: монополии на их ремесла. Такая защита компенсировала бы мигрантам-ремесленникам жизнь среди неверных, а также гарантировала бы доход от применения их навыков. Ранние венецианские привилегии были ограничены по времени семью годами, потому что тогда это была стандартная продолжительность времени обучения сложному ремеслу. То, что и сегодня многие ограничения авторского права кратны семи годам, выдает исторические корни современного авторского права: в 1710 году первый закон об авторском праве Великобритании позволил существующим произведениям быть защищенными в течение 21 года, а новым – в течение 14 лет, с возможностью продления еще на 14 лет; срок действия авторского права в США в разные эпохи составлял 14, 28, 42 и 56 лет, а теперь – 70 лет после смерти автора. Кратность этих чисел семи – долгосрочное наследие первых венецианских патентов, установленных на срок, требовавшийся местным подмастерьям, чтобы стать конкурентами своих учителей.
Венеция быстро стала знаменита как место производства роскошных тканей и цветного стекла (его все еще делают на острове Мурано). Спустя несколько десятилетий после того, как впервые были предоставлены права на монополию иностранным мастерам, город включил эту практику в свои законы.
«19 марта 1474 г.
Люди, обладающие острейшими умами, живущие в городе и приезжающие из самых разных мест, привлеченные его величием и великодушием, способны придумывать всевозможные оригинальные приспособления. Если бы было установлено законом, что сделанные ими работы и приспособления, не могут быть скопированы и изготовлены другими, что лишило бы их чести, то люди такого рода напрягали бы свои умы, изобретали и изготавливали вещи, которые бы принесли немалую пользу и выгоду для нашего Государства. Посему было принято решение, что… любой человек в этом городе, который придумает какие-либо новые и оригинальные приспособления, не сделанные до сих пор в нашем Доминионе, должен… уведомить об этом Provveditori di Comun, поскольку на срок десяти лет другим людям на любой территории запрещено делать приспособление в форме и подобии этого без согласия и лицензии автора. И если… кто-то все же сделает такое приспособление, вышеупомянутый автор и изобретатель будет иметь возможность… заставить вышеупомянутого нарушителя заплатить ему сумму в сто дукатов и немедленно уничтожить приспособление. Но наше Правительство будет свободно… брать и использовать для своих нужд любое из вышеупомянутых приспособлений и инструментов…»54
Венецианский статут выглядит даже слишком похоже на современные иммиграционные законы, призванные привлекать в страну самые квалифицированные кадры. Знакомы нам и другие формулировки: поощрять acutissimi ingegni, apti ad excogitar et trouar varii ingegnosi artifice – «самых проницательных и изобретательных [из людей], способных придумывать и находить различные изобретательные приспособления – напрягать свой ум, изобретать и создавать вещи, которые принесли бы немалую пользу и выгоду для нашего Государства». Статут также предусматривает знакомое нам принудительное отчуждение собственности в форме принудительного выкупа: «Наше Правительство будет свободно… брать и использовать для своих нужд любое из вышеупомянутых приспособлений и инструментов». Сегодня, в случае войны или других чрезвычайных ситуаций (например, пандемии), правительства также могут изымать патенты и предоставлять их для общественного пользования.
Этот статут вступил в силу всего через несколько лет после того, как была предоставлена привилегия для новой удивительной технологии, пришедшей на этот раз не с Востока, а с Севера. В 1458 году Иоганн Гутенберг изобрел способ печатания книг подвижными свинцовыми литерами. Десять лет спустя один из его бывших учеников, Иоганн фон Шпейер, уже ставший мастером этого ремесла, перебрался через Альпы и поселился в Венеции – тогда уже знаменитой своими диковинными товарами. Его встретили с распростертыми объятиями.
«18 сентября 1469 г.
С тех пор, как искусство книгопечатания было введено в наше славное государство, оно становилось с каждым днем все более популярным и распространенным благодаря усилиям, исследованиям и изобретательности мастера Иоганна фон Шпейера, выбравшего наш город среди всех прочих… [Наше государство] обогатится… трудолюбием и силой духа этого человека. Поскольку такое нововведение… должно поддерживаться и лелеяться всеми нашими силами и благоволением и [поскольку] вышеназванный мастер Иоганн, страдающий от больших расходов на свое хозяйство и заработную плату своих мастеров, должен быть обеспечен средствами, чтобы он мог продолжать в лучшем духе и считал свое искусство печатания чем-то, что следует расширить, а не чем-то, что следует забросить… лорды настоящего Совета… постановили, что в течение следующих пяти лет никто не должен иметь желания, возможности, силы или дерзости практиковать указанное искусство»55.
Город вскоре стал одним из главных центров производства книг и домом лучших типографов, литейщиков, печатников и книжных специалистов – Венеция навсегда вошла в историю печати. Многие шрифты, используемые сегодня, включая курсив и формат энхиридиона, предшественника сегодняшнего справочника, были разработаны учениками Иоганна фон Шпейера и их преемниками.
Слава и репутация Светлейшей Республики, безусловно, возросли благодаря ее роли в развитии искусства печати, но привилегия, предоставленная ею Иоганну фон Шпейеру, не помешала распространению печатного станка в других городах. Он появился в Париже в 1470 году, в Валенсии в 1473-м, в Барселоне в 1475-м и в Лондоне в 1476-м, а вскоре и в каждом европейском городе, большом и маленьком. Вместе со станком распространились и меры, принятые в Венеции для защиты и поощрения «светлых умов», знавших, как с ним работать. Пришедшие позже идеи о защите книготорговли напрямую вытекают из изобретенной в Венеции в XV веке схемы, столь великодушно настроенной по отношению к приезжающим в город светлым умам.
Созданные по образцу венецианского права привилегии предоставлялись книгопечатникам в Германии с 1479 года, в Португалии с 1502-го, в Испании с 1506-го, во Франции с 1515-го и в Англии с 1518-го. Чем больше такие гранты временных монополий распространялись по Европе, тем более конкретными они становились. Если Шпейер получил исключительное право на эксплуатацию печатного станка в принципе, то более поздние гранты в других городах давали право печатать не любую книгу, а определенные виды книг – например, по праву, медицине или теологии. Вскоре привилегии стали предоставляться не для категорий, а для отдельных произведений – и они предоставлялись не авторам, а печатникам, которые могли превратить рукопись в книгу56. Современное авторское право, пусть и до его появления еще было несколько веков, уходит корнями в эти привилегии печати раннего Нового времени.
С середины XVI века было почти невозможно опубликовать что-либо длиннее песенного листа, не получив предварительно привилегию от герцога, епископа или другой гражданской или церковной власти. Система, созданная в целях щедрого поощрения развития искусства печати, превратилась в эффективное средство контроля за тем, как оно использовалось.
Вскоре эта система, хорошо работавшая в книгопечатании, была расширена для привлечения иммигрантов-ремесленников в других областях: например, новые способы ткачества и стеклоделия. Английские монархи, в частности, видели в системе привилегий мощный источник нового дохода. С конца 1400-х до 1600-х годов патентные грамоты выдавались по любому поводу за плату, уплаченную авансом или в рассрочку, для самых разных ремесел и навыков, далеко выходящих за рамки тех, что были недавно изобретены или привезены в Англию странствующими мастерами. Елизавета I превзошла в этом своих предшественников, выдавая привилегии на торговлю множеством предметов первой необходимости. Когда Шекспир ставил «Все хорошо, что хорошо кончается» в лондонском театре «Глобус», «добрая королева Бесс» сгребала деньги за патенты на изюм, железо, порох, карты, бычьи голени, китовый жир, анис, уксус, морской уголь57, сталь, щетки, горшки, селитру, свинец, жир из ворвани и многие другие повседневные товары той эпохи58.
Широкое использование королевских привилегий для извлечения ренты серьезно ограничивало экономическую жизнь общества и вызывало большой гнев среди торговцев и предпринимателей. Им становилось все труднее начинать дело, не натыкаясь на держателя привилегий. Борьба против королевских привилегий (и против сборов, выплачиваемых монарху за их получение, называемых роялти) велась в парламенте и за его пределами, что в итоге полностью перевернуло законодательство.
Статут о монополиях 1624 года одним махом отменил все монополии. Это решение имело эпохальное значение для Англии. Позволив возникнуть более свободной форме торговле, Статут в конечном счете превратил страну в коммерческую столицу Европы и мира. Однако, как это ни парадоксально, он не отменил патенты, изначальную форму защиты монополий. В одном из разделов закона говорилось, что его положения «не распространяются на любые патентные письма и гранты на привилегии сроком до 14 лет, выданные ранее на исключительную разработку нового производства в этом Королевстве первым и истинным изобретателям таких производств, которыми другие во время выдачи таких патентов и грантов не пользовались, с тем чтобы они не противоречили закону, или не наносили вреда государству путем повышения цен на товары внутри страны или ущерба торговле, или в целом не создавали неудобств».
Эти старые слова – первоисточник идеи, что изобретения («новые производства») могут оправдывать выдачу привилегии (патента) «первому и истинному изобретателю» при условии, что изобретение «не противоречит закону» или не вредит государству. Эти слова остаются практически неизменными в современном британском и американском патентном праве. Гораздо менее очевидна их связь с современным авторским правом.
«Компания книготорговцев» (Stationers’ Company59) имела привилегию предоставлять права на отдельные книги по королевскому Патентному письму, а потому Статут 1624 года не затронул издательские монополии. Тем не менее в нем таилась игра слов. Поскольку книги были изготовленными предметами, и каждая книга отличалась от всех, что были до нее, то любая публикация могла быть названа новым производством, тем самым оправдывая привилегию, которой уже пользовался ее издатель. Но нужды в такой игре слов не было, и это устраивало обе стороны. Печатники были рады сохранить свои вечные книжные монополии, а государство было счастливо позволять им контролировать печатную продукцию от имени короны.
Авторское право родилось в рамках борьбы за контроль над печатным словом, но в итоге преобразилось в инструмент контроля над почти всем остальным.
4
Авторство и ответственность
Весной 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в интервью, что Трамп «собирается владеть» выходом страны из карантина60. Хотя Кушнер, конечно, не знал об этом, его использование глагола «владеть» (own) было бы столь же привычным в Англии XVII века, как и в Древнем Риме. Кушнер имел в виду «приписать себе» не в имущественном, а в моральном смысле с неизбежным следствием в виде «взять ответственность за». Владеть имуществом – это не просто иметь на него право собственности, но и отвечать за него. Вот почему именно домовладельцы, а не арендаторы, оформляют страховку на дом.
С момента изобретения книгопечатания и до конца XVIII века книги рассматривались как мощный инструмент распространения новых идей. Некоторые из этих идей были хорошими, другие – не особо. Власти того времени – в основном церковь и Корона – считали своим долгом поощрять хорошее и подавлять плохое. Система привилегий позволяла им делать это разными способами. В королевской Франции ни одна книга не могла быть издана законно без «одобрения и привилегии короля». В Англии контроль осуществлялся через гильдию печатников, Stationers’ Company. Никто кроме членов гильдии не имел права печатать книги в Лондоне, и ни один член гильдии не имел права печатать книги, не одобренные привилегией. Гильдия вела реестр, в котором записывалось, что будет напечатано и кем, и поэтому если бы в печать вышла какая-то неавторизованная книга, то сразу стало бы ясно, кто за это ответит. Эти меры пытались решить проблему, не решенную до сих пор: как мы знаем, сегодня распространение фейковых новостей, ложных слухов и сумасшедших идей может привести к беспорядкам даже в самых надежных демократиях61. Как безошибочно отделить хорошие книги от плохих постов – это проблема, которую ни один закон до конца не решил.
Закон о лицензировании печати (Licensing of the Press Act) 1662 года, подтвердивший монополию книготорговцев на печатание книг, позволял их членам владеть всеми правами на зарегистрированные ими книги, но его главной целью было заставить членов гильдии печатников выполнять функции королевских цензоров, о чем ясно говорится в названии закона: «Закон о предотвращении злоупотреблений при печатании подстрекательских, изменнических и нелицензированных книг и брошюр, а также о регулировании книгопечатания и печатных станков». За публикацию текстов с неприятным для церкви или Короны содержанием следовало подчас жесткое наказание. В 1634 году пуританский полемист Уильям Принн62 был приговорен к пожизненному заключению, огромному штрафу и отрезанию ушей за те предложения в «Биче игрока» (Histriomastix), которые сочли скрытым оскорблением королевы Генриетты Марии63. Он не владел текстом в современном смысле слова – им владел книгопечатник, но он, несомненно, владел им в другом, более глубоком смысле, в том, в котором его использовал зять Трампа.
Статус привилегий зависит от престижа покровителя, который их предоставляет. Таким образом, судьба системы привилегий неразрывно связана с переменами во власти и положением покровителей. За прошедшие столетия прелаты и герцоги потеряли свой авторитет и престиж, но само покровительство – или патронаж – не исчезло, а стало главной чертой культуры наших дней. Значительная часть современной науки финансируется при покровительстве национальных институтов и исследовательских советов, и многие писатели находят прибыльные позиции в университетских кампусах. Творческие начинания поддерживаются премиями, грантами и стипендиями, которые предлагаются филантропами, благотворительными учреждениями, национальными и международными схемами финансирования. Почему эти проявления патронажа еще не отвергли как давно устаревшую форму социальной организации, пришедшую к нам из века королей и епископов? Потому что современные покровители – это университеты, экспертные группы и достойные миллиардеры, которые сейчас пользуются легитимностью и престижем – и поэтому могут предоставлять знаки уважения вместе с выделяемыми ими средствами.
В эпоху раннего Нового времени сопротивление печатным привилегиям шло рука об руку с ростом сомнений в легитимности королевской и церковной власти. Ослабление феодальных монархий и растущая секуляризация64 европейских обществ в XVII и XVIII веках были главной причиной возникновения новых идей, как книгопечатание может контролироваться.
Мишель Фуко65 однажды утверждал, что книги действительно начали иметь авторов только тогда, когда авторы стали подвергаться наказанию. Исторически, утверждал он, «письмо было по сути актом… жестом, чреватым рисками, прежде чем стать товаром, попавшим в круговорот собственности»66. Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», понял бы, что имел в виду Фуко. Он был «подвергнут наказанию» в 1703 году: его посадили к позорному столбу на три дня за совершение «подстрекательского пасквиля»67 в сатирическом памфлете под названием «Простейший способ разделаться с инакомыслящими» (The Shortest Way with the Dissenters, 1702), а затем заключили в тюрьму. После освобождения он написал предложение о новом законе о печати, которое предвосхитило саму идею Фуко, но наоборот: «Если автор не имеет права на книгу после того, как он ее создал, и эта выгода не принадлежит ему… было бы излишне сурово, если бы закон пытался наказать автора за нее»68.
На основе мучительно приобретенного опыта знаменитый писатель пишет: «любой, кто владел произведением в том смысле, что может быть подвергнут наказанию за то, что оно не соответствовало правящему консенсусу, должен был по праву владеть им и в плане извлечения выгоды».
Однако баланс прав и обязанностей, к которому призывал Дефо и который вроде как соответствует естественной справедливости, в современности был отброшен социальными сетями. Например, лицензия конечного пользователя69, которую вы принимаете при регистрации в Facebook70, предоставляет компании множество прав на использование ваших данных и постов, но оставляет авторские права за вами. «Вы (пользователь) предоставляете нам (компании) неисключительную, передаваемую, сублицензируемую, безвозмездную и всемирную лицензию на размещение, использование, распространение, изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, перевод и создание производных работ вашего контента», – гласит текущая формулировка, при этом «вы владеете правами интеллектуальной собственности (такими как авторские права или товарные знаки) на любой такой контент, который вы создаете и которым делитесь71. Таким нехитрым образом Facebook имеет право делать с вашим постом все, что захочет, но он защищен от претензий о нарушении авторских прав, возникающих из-за пользовательских постов, благодаря законам конца XX века, предоставляющим соответствующую защиту. Это означает, что вы отказываетесь от всех вторичных и монетизируемых видов использования материала, который вы публикуете, но именно вы, а не Facebook, должны за него отвечать. Это похоже на шутку, но она не должна нас смешить.
В конце XVII века интеллектуальная собственность, как сказал бы Фуко, «попала в кругооборот собственности», возникший, как мы можем сейчас увидеть, из игры с двойным значением глагола «владеть».
И это был не последний случай игры слов в истории авторского права.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе