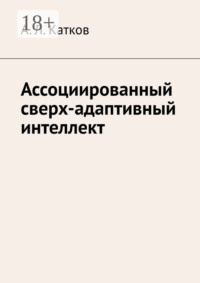Читать книгу: «Ассоциированный сверх-адаптивный интеллект», страница 3
Надо сказать, что данная сложнейшая задача, в том или ином ее аспекте, почти всегда присутствовала в фокусе внимания интеллектуальных лидеров, прилагающих осмысленные усилия к развитию духовных традиций. В своих основных трудах, так или иначе касающихся вопросов становления и «присутствия» определенного духовного опыта и соответствующих практик в различные исторические эпохи, они, обычно, не ограничивались только лишь исторической фактологией, но старались донести до своих читателей понятную суть того, что являет собой эти величайшие первородные традиции.
Так, например, известная исследовательница мистицизма Эвелин Андерхилл в предисловии к первому изданию своего фундаментального труда «Мистицизм: Опыт исследования духовного сознания человека», изданного в 1910 году, формулирует цель своей работы следующим образом: «Это подробное исследование сущности развития человеческого … рассматривая его поочередно с точки зрения метафизики, психологии и символизма, я предпринимаю здесь попытку собрать воедино в одном томе информацию, разбросанную по многим монографиям и учебникам, написанным на разных языках, и дать понятия о каждом из тех предметов, которые наиболее тесно связаны с учением мистиков» (Э. Андерхилл, цит. по изд. 2016). Помимо заявленной здесь цели Э. Андерхилл проводит глубокий анализ влияния мистицизма на магию, теологию, такое направление философской мысли как витализм, и даже научную психологию. духовного и мистического сознания
Далее, почти всеми этими авторами отмечались сложности в попытках устной и письменной трансляции «непередаваемого» духовного опыта, который – по их твердому убеждению – мог быть лишь частично вербализован. Отсюда следует, что такого рода описания, даже и внимательно вычитанные, не есть формы передачи подлинного знания о духовном в человеке. Между тем, необходимость именно такой, полноценной трансляции осмысленного и должным образом систематизированного духовного опыта, выводилась как приоритетная задача.
Об этом прямо говорит Лама Анагарика Говинда на страницах труда «Основы тибетского мистицизма». Здесь он приводит в пример интеллектуальный подвиг своего духовного Учителя. «Предвидя будущее – пишет Лама Говинда – Томо Геше Римпоче, один из величайших духовных учителей современного Тибета и подлинный мастер внутреннего видения, покинул свою отдаленную горную обитель и объявил, что пришло время открыть миру духовные сокровища, которые были сокрыты в Тибете более тысячи лет… Ибо человечество стоит на перепутье великих решений: перед ним лежит Путь Могущества, посредством контроля сил природы – этот путь ведет к порабощению и самоуничтожению, и Путь Просветления посредством контроля сил внутри нас – он ведет к избавлению и самореализации. Показать этот последний путь и воплотить его в действительность и было жизненной задачей Томо Геше Римпоче». И далее он пишет уже о себе, как об авторе в третьем лице: «Живой пример этого великого учителя, из рук которого автор принял свое первое посвящение, был глубочайшим духовным стимулом в его жизни… Более того, этот пример воодушевило его передать другим и миру в целом все знание и опыт, насколько это может быть передано словами» (Лама Ангарика Говинда, цит. по изд. 2012).
И далее, мы рассмотрим две совершенно уникальные духовные традиции – Каббалу и Суфизм. В данном случае, эти традиции интересны именно тем, что судя по результатам углубленных исторических исследований, проделали «обратный» путь – от исходных религиозных установок к первородному гностическому миро-ощущению-пониманию-воззрению. При том, что лидеры и носители этих традиций всеми силами стремились избегать конфликтов с параллельными религиозными течениями иудаизма и ислама. А религиозные лидеры и адепты самих этих мировых конфессий (здесь мы не будем говорить о некоторых радикальных течениях и единичных эксцессах) не считали каббалистов и суфиев носителями вредоносной ереси. В то же время, Каббала активно использовала и продолжает эксплуатировать текстовые первоисточники иудаизма, так же как и Суфизм часто обращается к сурам Священного Корана. Другим интересным моментом здесь является будто бы имевший место – по крайней мере, об этом пишут многие авторитетные исследователи – факт активного интеллектуального взаимодействия создателей этих двух великих традиций. Что, конечно же, не мешает каждой из них являться ярким и самобытным всплеском человеческого гения. И уж если говорить об оживлении интереса к духовным практикам в современном мире, то Каббала и Суфизм, безусловно, пребывают в самом центре внимания интеллектуальной и культурной элиты.
Более чем обширная историография Каббалы располагается на разных уровнях сложности абсолютно необходимой здесь интерпретации имеющихся текстов – от изложения самых общих сведений о становлении и сути (в приемлемой для массового читателя терминологии) учения Каббалы, до глубокого исследования подлинных исторических корней, но так же и перспектив этой удивительной духовной традиции. Но и в первом массиве текстовых источников с задачами популяризации этого, до поры тайного учения (например, М. Лайтман 2003; Д. Форчун, 2011; М. Лайтман, К. Кэнрайт, 2011; Г. Найт, 2015) можно встретить важные для нас сведения в отношении того, что Каббала ни в коем случае не религия, но революционный способ познания реальности – невидимых, тайных атрибутов и структур этой «объемной» реальности – именно такой способ, который приближает познающего к цели творения и возможности управления судьбой. Интересны и пояснения Михаэля Лайтмана – ученого-исследователя, возглавляющего одну из известнейших школ изучения Каббалы – в отношении того, почему же каббала, будучи тайным и строго охраняемым учением, все же стала «явной» для всех желающих поглубже познакомиться с этой древнейшей традицией. Так, в своем популярном, широко издаваемом произведении «Зоар» Лайтман пишет: «Только с середины 90-х годов XX века разрешено и рекомендуется распространение науки Каббала. Почему? Потому что люди уже более не связаны с религией, стали выше примитивных представлений о силах природы… Люди готовы представить себе Высший мир как мир сил, силовых полей, мир выше материи. Вот этим-то миром сил, мыслей и оперирует Каббала» (М. Лайтман, 2003).
И здесь возникает вопрос – а чем же не угодила миру и в том числе каббалистам авангардная наука, которая, собственно, и занимается проблематикой сил, силовых полей и альтернативными способами осмысления этой сверх-сложной реальности. И тогда, чем же каббала отличается не только от религиозного, но и от научного мировосприятия современного человека, и что же наиболее существенного – в смысле расширения и обновления горизонтов бытия – привносит эта совершенно особенная духовная традиция в наш «шатающийся» мир»? Это более чем серьезный вопрос, касающийся теперь уже возможности преодоления ограничений и издержек доминирующего полюса науки, от которых люди устали не меньше, чем от бесконечного воспроизведения утративших свою ресурсную функцию религиозных догматов. И конечно, такого рода заявления о наличии супер-ресурсного потенциала у «тайной науки» Каббалы, нуждается во всестороннем обосновании. То есть, уровень только лишь обобщенных констатаций уже мало кого устраивает. Нужны «неопровержимые доказательства».
Попытки именно такого обоснования информационного, а так же и ресурсного потенциала Каббалы мы встречаем на страницах фундаментального труда выдающегося ученого-мистика Артура Э. Уэйта «Святая Каббала», впервые опубликованного в самом начале прошлого века и по свидетельству современников являющегося лучшим, и наиболее полным исследованием этой сокрытой духовной традиции на европейском континенте. Сам Уэйт формулирует цели этого труда следующим образом: «Всесторонне проанализировать Каббалу в плане общего содержания и истории, но с попыткой выявить ее связи с другими явлениями сокровенной традиции, вскрыть ее влияние и значение с различных точек зрения и показать ее вклад в эзотерическую науку о душе – вот задача данной работы». И далее в тексте приводится еще одна интереснейшая реплика, которая, пожалуй, могла бы удовлетворить даже и экспертов из полюса авангардной науки, во всем требующих доказательств, догадайся Уэйт трансформировать этот знаковый тезис в систему именно таких «неопровержимых» доказательств. Здесь Артур Э. Уэйт говорит о том, что «Каббала вообще не апеллирует к человеческим чувствам, и, чтобы войти в перспективу мира каббалы, мы, в сущности, должны » (А. Э. Уэйт, цит. по изд. 2010). И это более чем важное, в данном случае, заявление, поскольку основные претензии представителей сектора науки к гуманитарному (духовному) полюсу мировосприятия как раз и заключаются в том, что вот этот способ постижения реальности основан на чувстве, а не на разуме и логике. То есть, Уэйт здесь практически вплотную подошел к сакраментальному рубежу воссоединения мистической и академической науки, ясно обозначенному, но так и не выстроенному в обновленных интеллектуальных конструкциях его великими предшественниками, учеными и философами – Исааком Ньютоном, Готфридом В. Лйбницем, Иммануилом Кантом, Артуром Шопенгауэром, Карлом Ясперсом. полностью изменить нашу интеллектуальную оптику
Далее, следует обратить внимание на интересные историографические аспекты, касающиеся истинных корней и сути учения Каббалы, которые мы встречаем в переписке Жерара Анкосса (Папюса) с маркизом Сент-Ивом д'Альведром. Этот образованный аристократ – знаток оккультных наук – отвечая на письменную просьбу Папюса, желающего улучшить информативно-историческую часть своей объемной исследовательской работы по Каббале, весьма убедительно аргументирует точку зрения того, что истинные корни этого тайного учения следует искать не в раннем средневековье, а в существенно более древних цивилизационных пластах (Папюс, цит. по изд. 2013). Д'Альведр уводит нас во времена еще до Вавилонского столпотворения или падения знаменитой Вавилонской башни (метафора некогда существовавшего – в рамках первородной – идеи цельного бытия). То есть, – в ту самую эпоху, когда еще только создавались устные предания и первые письменные источники иудаизма. И, следовательно, приоритетная роль , как особого способа восприятия реальности, прослеживается и здесь, у самых источников Каббалы, вовсе не склонной к каким либо «сторонним заимствованиям». Пожалуй, даже можно сказать, что вот эта первородная традицияполучил в Каббале наиболее дифференцированную и последовательную концептуализацию, продуманное ритуальное оформление и интерпретацию. И все это, безусловно, можно поставить в заслугу отцам-основателям тайного учения. Вот этот процесс формирования полного свода современной Каббалы выдающийся ученый-историк Моше Идель описывает следующим образом: «Древнееврейские мотивы, которые проникали в гностические тексты, в то же время оставались наследием еврейской мысли, продолжали передаваться в еврейской среде и в конце концов сформировали концептуальную структуру Каббалы» (М. Идель, 2010). И этот же автор говорит нам и о том, что если ранние каббалисты в большей степени имели статус национальных маргиналов, то в современном мире Каббала – это ключ к успеху и счастливой жизни для всех, кто проявляет искренний интерес к этой великой духовной традиции. гностической традиции гнозиса гнозиса
Что же касается другой величайшей духовной традиции, известной как Суфизм, то в обширной тематической историографии мы можем обнаружить достаточно много событийных совпадений с только что рассмотренным здесь «тайным учением». Так, например, известный ученый-историк, исследователь Суфизма и учитель суфийской традиции Идрис Шах считает, что корни этой духовной традиции обнаруживаются в литературных произведениях, начиная, по крайней мере, со II тысячелетия до н. э. В то же время расцвет Суфизма и его наибольшее влияние на цивилизацию относится к средневековью (VIII – XVIII века н. э.). Далее, в трудах И. Шаха можно встретить и такое определение Суфизма, как «тайное учение всех религий». И если предположить, что речь здесь идет в первую очередь о своеобразной и самобытной культуре оформления все той же первородной традиции в странах Востока – а именно это убеждение мы и выносим при знакомстве с суфийскими первоисточниками – то приведенная Шахом трактовка суфийской традиции представляется оправданной. Идрис Шах, помимо этого, считал, что суфиев нельзя назвать и какой-то особой сектой: «… ибо они не связаны абсолютно никакими религиозными догматами и не используют никаких постоянных мест для поклонения. У них нет ни священного города, ни монастырей, ни религиозных принадлежностей. Они отрицательно относятся к любым названиям, которые могут их склонить к той или иной форме догматизма» (Идрис Шах, цит. по изд. 1994). Но у них есть подлинный И этого более чем достаточно. «Суфий, это не более чем прозвище – продолжает свой пассаж Идрис Шах – к которому они относятся с добрым юмором. Самих себя они называют „друзьями“ или людьми, „подобными нам“, и узнают друг друга по некоторым природным способностям, привычкам и ». Словом, перед нами чудесный параллельный мир, пропуск в который выдается лишь по неподдельному сигналу «свой-чужой». гнозиса гнозис. категориям мышления
Далее, можно проследить аналогии и во всплеске популярности идей суфизма среди населения самых разных стран, начиная с 90-х годов прошлого столетия и особенно в последние 10—15 лет. Чему в немалой степени способствовало привлекательное изложение и понятная для современного человека интерпретация идей великих суфийских подвижников в публикациях последних лет – переизданных трудах Хазрата Инноята Хана (2012), Джона Балдока (2004), Хиндвада Силила Азими (2016) и многих других титулованных авторов. Так, например, признанный специалист и духовный учитель Х. С. Азими в своей фундаментальной работы «Суфизм» говорит следующее: «Цель и задачи написания этой книги заключаются в том, чтобы человечество смогло познать реальность положения человека, реальность жизни и смерти, а так же цель своего рождения в этом мире… Искренние и сочувствующие люди, переняв изысканный подход Суфизма, являются образцом удовлетворенности, самодостаточности и отстраненности. Они на практике демонстрируют что Суфизм – это путь, следуя которому можно обрести блага этого и последующего мира» (Х. С. Азими, 2016).
В прямой связи с разрабатываемой нами темой – способами обретения человеком супер-ресурсного состояния Веры-Знания – интерес представляет, во-первых, стержневое отличие идеи суфизма от идеологического ядра мировых религий; а во-вторых – перспектива развития этой идеи в теперь уже более философском, чем теологическом концепте пантеизма.
Согласно известным суфийским проповедникам и философам – Шамсу, Баязиду, Ибн аль-Араби – если Бог неделим, то все сотворенное тоже должно являться Богом. Творец и творение должно обладать совершенно одинаковой, сущностью. Для большинства суфиев, в данной связи, фундаментальной ошибкой христианства является вера в то, что Бог – это лишь одни человек, а не все остальные. Суфийские проповедники открыто говорили о занимаемой ими мета-позиции Бога: Баязид, например, говорил не «слава Богу», а «слава Мне», Тустари называл себя доказательством Бога. То есть Бог не творец всего сущего, Он и есть все сущее. вечной, неразличимой, неразделимой
Наилучшим образом, вот это стержневое отличие в мета-позиции суфиев и адептов иудаизма может быть продемонстрировано в вольном переложении известного Псалома Давида, сделанном Нейлом Дуглас-Клотцем (другое имя Саади Шакур Чишти), который позиционирует себя убежденным последователем суфизма. Его версия знаменитого двадцать второго Псалома Давида следующая.
«Я – твой Пастырь. Ты никогда не будешь иметь нужду в чем-то, что Я хочу тебе дать. Если ты будешь уповать на Меня и на самом деле позволишь Мне быть Пастырем твоей жизни, то Я дам тебе такой огромный мир ума, что это будет как отдых в прохладной зеленой траве на весеннем лугу.И пока ты учишься более глубокой любви и упованию, покой будет сходить на твою душу, как безмятежное тихое озеро. Это будет большое освежение для твоего внутреннего человека. / Идет подготовка к выполнению многих задач, какие Я поставил перед тобой. И не преуменьшай никакие задания, данные тебе Мною. Ибо это для Моей славы и чести, а не для твоей. Будут времена, когда из-за Моей любви к тебе, Мне будет необходимо повести тебя в сильную тьму. /Она будет настолько огромной, что ты почувствуешь, будто стоишь на самом краю земли, и смерть поджидает тебя внизу. Но всегда помни, что Я по-прежнему твой Пастырь. В темноте ты, возможно, не сможешь увидеть Меня, но у тебя есть Мое вечное обещание, что я никогда не оставлю и не покину тебя. / Если ты продолжишь уповать на Меня, даже пройдя через времена тьмы, Я вновь затоплю твое сердце таким миром, что ты сможешь сесть даже посреди своих врагов. Твоя радость будет настолько большой, что будет переливаться в жизни других людей. И в качестве твоей награды, Я дам великие и важные вещи в твою жизнь. /И когда ты совершишь все, что Я запланировал тебе сделать, Я хочу чтобы ты пошел и жил со Мной во веки веков!» (Нейл Дуглас-Клотц, 2017, интернет-ресурс). /
Кардинальное отличие здесь прослеживается уже в первых строках текста: в оригинале «Господь – Пастырь мой…»; в цитируемой версии «Я – твой Пастырь…». То есть, перед нами не просто предъявляемая метапозиция Бога, но еще и ресурсный диалог , божественной инстанции психического с ее , бытийной частью. Но чтобы такой ресурсный диалог состоялся, безусловно необходимо возобновляемое подтверждение факта «присутствия духа» в психическом . На что, собственно, и направлены суфийские и иные духовные практики. Если же речь идет о «постоянной прописке» ищущего в царстве духа еще при его земной жизни, то тогда следует основательно разбираться с темпоральными, по своей сути, понятиями сущноститого, что именуется Богом. горней дольней ищущего горнем вечной, неразличимой, неразделимой
Суфийские философы и проповедники, разрабатывающие основы учения на рубежах первого-второго тысячелетия нашей эры, не смогли выполнить эту сверхсложную, даже и по меркам современной авангардной науки, задачу в полном объеме. Тем не менее, именно эту, всего сущего суфии предложили как метафизическое обоснование идеи пантеизма. И вот этот примечательный факт – осмысление идеи пантеизм не в качестве некоего абстрактного «содружества» персонализированных божественных образов, но с позиции темпоральной (объемной) реальности – с полным основанием может быть представлен как обнадеживающий пролог к обретению человеком феномена Веры-Знания, достижению ресурсной целостности институтов религии и науки. вневременную основу подлинного единства
С позиции проведенного эпистемологического анализа и дополненной культурно-исторической реконструкции, феномен тарстемпоральной активности психического на самых ранних этапах своего формирования представлен: 1) в функциональном смысле – опытом первородного 2) в содержательном смысле – переживанием потрясающей бытийности и ресурсной целостности взаимодействующих статусов объемной реальности; 3) в сущностном смысле – как представительство особого темпорального полюса вечного-бесконечного в психическом человека; 4) в собственно эпистемологическом смысле рассматриваемый феномен предстает как некое «чувственное отражение» и произвольная мифологическая интерпретация – на уровне актуальных в рассматриваемую эпоху типов рациональности – способов взаимодействия субъектного и потенциального-непроявленного статусов сложнейшей категории объемной реальности. гнозиса;
При этом важно понимать, что соответствующая мифологическая конструкция появлялась именно как попытка осмысления переживаемого , но вовсе не как «пустая» фантазия какого-либо изобретательного субъекта, в последующем навязываемая определенному и, как правило, ближнему кругу лиц. Так, например, супер-ресурсный статус Веры, как прямого следствия переживаемого трансперсонального опыта, даже и на самых ранних этапах своего становления, имеет пусть и не проявленные в должной степени, но тем не менее прочные эпистемологические основания и в принципе не может быть обозначен как некие «пустопорожние верования». гностического опыта
Не афишируемые приложения к первородным мифам безусловно включали и описание определенных психотехнических приемов – мистерий, таинств, ритуалов – оживляющих гностический опыт и укрепляющих память о подобном опыте. И далее можно с уверенность говорить о том, что обычно присутствующая в мифологических сюжетах персонификация аспектов объемной реальности, в частности вне-темпорального или потенциального-непроявленного статуса этой сложнейшей категории в понятном для человека образе духов-богов, с одной стороны – конкретизировало содержание мифов и способствовала их облегченному усвоению, а с другой стороны – придавало необходимую функциональную направленность соответствующей ритуальной психотехнической практике. горних
Актуализация первичного и явленные в условиях темпоральной пластики «чудеса», интерпретируемые в рассматриваемую эпоху как неопровержимые свидетельства «божественного присутствия», безусловно оживляли и поддерживали религиозную концепцию Веры. Но не только. Сами по себе ресурсные характеристики Человека Верующего привлекали внимание к этому феномену и способствовали его распространению. гнозиса
Ибо вне всякого сомнения особое ресурсное состояние Веры и, тем более, Веры-Знания помогает человеку переносить испытания мира, избавляет его от двух главных кошмаров – страха жизни и страха смерти – и дает этические ориентиры. Все эти компоненты ресурсного статуса верующего превосходно и точно описаны в уже процитированном Псалме Давида: «Господь – Пастырь мой… Он покоит меня… подкрепляет душу мою… направляет меня на … Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной» (Святая Библия. Псалом Давида 22). дольнего верные стези правды
Великие умы, творившие концепты вот этой «подлинной» реальности в донаучную эпистемологическую эпоху, сходились в одном: предметная сфера того, что принято обозначать вселенной, космосом, миром, реальностью – ни при каких обстоятельствах не может быть разделена с тем, что принято обозначать термином «психическое» (Дух, Бог, Душа, Разум). Они, как это следует из процитированных здесь ключевых утверждений, практически нащупали главный принцип как разделения, так и объединения «всего», и это конечно темпорально-пластический принцип. Отсюда оставался только шаг до выведения сакрального из теневой области «тайного» в свет «явного», но этот шаг ими так и не был сделан. гнозиса
Способ получения знаний о подлинном устройстве «всего», практикуемый духовными лидерами уходящей эпохи, оказался невостребованным становящейся наукой, в первую очередь по причине непереводимости получаемого первородного на универсальный язык первичной информации – «вавилонской башни» объектного плана реальности. Требовался абсолютно новый принцип и, соответственно, новые методы получения «объективных» знаний – ясные и понятные для всех. А генерируемые таким образом знания должны были быть проверяемыми и воспроизводимыми в заданных экспериментальных условиях. Основной вектор деятельности интеллектуальных лидеров следующих эпох был развернут именно в этом направлении. гностического опыта
Но и «царство научного оказалось несостоятельным в отношении разработки внятной объяснительной модели и адекватного способа репрезентации сложнейшей категории объемной реальности. Что, в конечном итоге, и положило начало диссоциированной эпистемологической эпохев общем поле которой идея религии утратила живую темпоральную взаимосвязь с объектным планом реальности и, следовательно, главную интенцию своего развития. В итоге, все, что связано с феноменом так называемого религиозного опыта и супер-ресурсным статусом Веры, оказалось в сфере исключительной компетенции церковных институций. логоса» ,
И конечно, деятельность религиозных институтов была направлена отнюдь не на обеспечение грандиозных «прорывов» в способах познания сложной категории реальности – таких условий там просто нет – а только лишь на охрану «завоеванной территории». То есть, деятельность такого рода по своей природе догматична. Но одна лишь приверженность религиозным догматам вот этой утраты живых корней феномена Веры-Знания восполнить так и не смогла.
Последствия этого эпохального раскола хорошо известны: исполненные функционального смысла выродились в бытовые суеверия и фарс магического «новодела»; устоявшиеся религиозные догматы способствовали стагнации феномена Веры к практике приверженности той или иной религиозной конфессии, сведению личных отношений с Богом к личным отношениям с церковью; наука отметилась склонностью к абсолютизации своих убогих схем, а провозглашенные наукой идол Человека Разумного и царство «научного в итоге оказались опасной иллюзией. гностические ритуалы логоса»
Таким образом, миссия идеи ассоциированного сверх-адаптивного интеллекта (АСИ) по завершению эпохи расколотого бытия и обеспечению сущностного взаимодействия и мыслительных архетипов, в свете всего сказанного, обретает все более отчетливые контуры и сферу приложения. гностического логического
Осознаваемое – неосознанное
Следующим шагом в проведенном эпистемологическом (историографическом) исследовании является обращение уже непосредственно к дифференцируемым инстанциям психического, к которым традиционно адресуются выше обозначенные, базисные способы и архетипы постижения реальности – осознаваемым и неосознаваемым. И мы, конечно, помним, что понятие интеллекта в большинстве заслуживающих внимание источников «приписывается» к сфере активности осознаваемых инстанций психического.
Эпистемологический анализ (фрагменты) понятий
«душа» и «психика»
Исторические, семантические и эпистемологические корни понятий, в первом приближении обозначающих интересующие нас базисные инстанции психического – неосознаваемые и осознаваемые, отслеживаются в текстах самых ранних цивилизационных эпох (различные семантические эквиваленты понятия «души»). И далее, – в процессах трансформации семантического наполнения более позднего понятия «психика», чаще употребляемого в значении осознаваемых инстанций психического. В то время, как термин «психическое», по крайней мере в эпоху Новейшего времени, понимается как некая общая конструкция рассматриваемого здесь важнейшего аспекта (по Аристотелю – и самого источника) феномена жизни.
Неопределенность, размытость и пересечение семантических полей базисных понятий «душа» и «психика», отмечаемые буквально всеми исследователями сферы психического, безусловно, не облегчают поиск различий в генезе данных понятий. Дополнительная сложность здесь возникает и в связи с чисто лингвистической коллизией – термин «психика», как известно, является греческим «исходником» понятия «душа». Тем не менее, если сосредотачиваться на расходящемся семантическом векторе исследуемых понятий, то различия в их генезе представляются разительными. И в первую очередь эти различия касаются опыта, на основании которого, собственно, и формируются понятия «души» и «психики». Здесь, пожалуй, можно сослаться на утверждение Уле Мартина Хейстада (2018), что обсуждаемые здесь понятия есть изобретение человека. Но человек, к примеру, изобрел и способ обогрева у огня, и термоядерный реактор. И то и другое согревают человека, т. е. «работают». Между тем, конструкции психики – в том виде, в котором она сегодня преподносится научным сообшеством – в природе быть попросту не может. Ибо никаких психических функций, свойств, состояний, отдельных от Я, не может быть в принципе. А осознаваемого Я, функционирующего в отрыве от неструктурируемой временем инстанции психического, – тем более. Иными словами, вот этот изобретенный «реактор» психики никого и никогда не согреет, разве что его изобретателей. Но вот вопрос о сущностной природе «огня», оживляющего и расправляющего сферу психического, здесь абсолютно уместен. Ведь то, что при этом сжигается – дрова, каменный уголь или изотопы урана (метафора различного и будто бы несопоставимого опыта) – совершенно не принципиально.
Итак, согласно данным, полученным в результате масштабных и глубоких исторических исследований, понятие «души» было сформировано в результате регулярно воспроизводимого опыта переживания состояний жизни, смерти, сна, опыта так называемых измененных состояний сознания со всеми его разновидностями, включая гностический, магический, мистический, религиозный, трансперсональный и любой другой транстемпоральный опыт. Этот опыт дает его носителю абсолютно предметное и потрясающее по силе воздействия переживание «присутствия духа», прекрасно описанное Уильямом Джеймсом в его выдающейся работе «Многообразие религиозного опыта» (1902). Вот это совершенно особенное переживание и, безусловно, полученный таким образом ресурсный опыт затем трансформируются в феномен веры, который можно интерпретировать и как продолжающееся во времени ресурсное ощущение «присутствия души или духа». На такой вот «опытной» основе и были сформированы первичные дискурсы в отношении божественной природы души, как, собственно, и божественной природы всего сущего. И далее эти версии уже структурировались, поддерживались и продолжают поддерживаться весьма серьезными социальными институтами (Ф. Александер, Ш. Селесник, 1995; В. К. Шабельников, 2003; Д. Н. Робинсон, 2005; М. Хант, 2009; Т. Д. Марциновская, А. В. Юревич. 2011; Ф. А. Вольф, 2017), но не только. Мы, например, не удивляемся тому, что встречая во сне своих давно умерших родственников или друзей – вдруг ясно понимаем, что они странным образом живы. Или время от времени, пусть и смутно, но все же чувствуем, что «обладаем чем-то глубоко внутренним и личным… удивительным и чарующим… что трудно выразить словами и понять… и что это и есть выражение души» (У. М. Хейстад, 2018). То есть для поддержания версии, что с нашим бытием все не так просто – достаточно и такого, отнюдь не потрясающего, но зато регулярно воспроизводимого опыта. И, тем не менее, мы бы здесь сказали, что даже и такой первичный, регулярно воспроизводимый опыт – это не искомый истинный «огонь», а скорее «тлеющие угольки» учения о душе.
В основе появления современной версии понятия «психики» лежит эмпирический опыт исследования определенных видов функциональной активности психического, которые воспроизводимы в лабораторных (экспериментальных) условиях, принципиально доступны наблюдению и измерению, и которые вследствие этого могут быть интерпретированы как некие «объективные» законы и закономерности функционирования сферы психического. Заметим, что в основе такого эмпирического подхода так или иначе лежит калька одномерного плана реальности или некая «объективная реальность», которую психика – в соответствии с главной идиомой естественнонаучного подхода – может лишь «отражать». Но и то – лишь в определенном, доступном для сенсорных систем диапазоне. Остальное – домысливать в этом же ключе. Вот эти допущения и были «условиями предоставления научного убежища наукам о психике», о которых жестко и предельно откровенно говорил выдающийся исследователь истории психологии Д. Н. Робинсон (2005). Для нас же должно быть абсолютно понятным, что такого рода калька – есть когнитивная оптика бодрствующего сознания, функционирующего в строго определенном диапазоне параметров сознания-времени. Именно поэтому, а не в силу каких-то фундаментальных и специфических для этой сферы открытий, понятие «психика» изначально определялось через феномен сознания, понимаемого как некий аналог плана «объективной» реальности. Об этом, в частности, говорит У. Джеймс, определяя психологию как науку о сознании и состояниях сознания. Причем под последними он подразумевал «… такие явления, как ощущения, желания, эмоции, познавательные процессы, суждения, решения, хотения, и т. п. В состав истолкования этих явлений должно, конечно, входить изучение тех причин и условий, при которых они возникают, так и действий, непосредственно ими вызываемых, поскольку те и другие могут быть констатированы» (У. Джеймс, цит. по изд. 2011).
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе