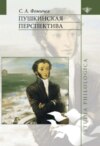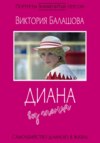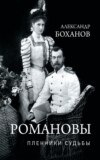Читать книгу: «Император Николай I», страница 2
«Будущее закрыто от нас. Но, чтобы быть строителями его, а не мечтательными последышами невозвратного прошлого, надо в опыте пережитого наново уметь видеть это прошлое, преемственно воспринимая жизненные его силы. И тут мало кто так многому способен нас научить – разумею под словом „нас“ тех, кто под сенью Церкви мыслит будущую Россию, – как Император Николай I, как вся его эпоха – в их величественной простоте, определяемой жертвенностью служения России и Богу. Предметно-историческая Россия Николая I есть высшее обнаружение Третьего Рима».
Настоящая книга посвящена личности истинного сына России – Царя Николая Павловича, оставившего неизгладимый след в истории Отечества своим делом служения Родине.
Глава 1. Смерть на троне
Император Николай I скончался в 12 часов 20 минут пополудни в пятницу 18 февраля 1855 года. Обычная простуда, переросшая в пневмонию, свела его в могилу.
Кончина оказалась неожиданной и непредставимой. Тот, кто три десятка лет олицетворял честь, силу и мощь России, кто бессменно находился на имперском капитанском мостике, кто вершил судьбы, дела всех и вся, теперь покинул земные чертоги. Весть прозвучала как гром среди ясного неба, она потрясала и шокировала. Поэт Ф. И. Тютчев выразил впечатление с присущей ему яркостью: «Как будто нам объявили, что умер Бог».
Внезапность смерти и общая безрадостная атмосфера в стране породили различные слухи, как казалось, объяснявшие «загадочность» происшедшего. Возникли «версии», некоторые из которых пережили те давние времена и до сего дня «украшают» отдельные современные сочинения. Расхожих оказалось две.
Первая – «самоубийство». Вторая – «убийство».
Первая «версия» не только исторически несостоятельна, но и просто абсурдна. Николай Павлович целиком являлся человеком православным, воцерковленным, а потому никогда не смог бы совершить великий грех самоубийства. Ведь «наложить на себя руки» значило отринуть жизнь – дар Всевышнего. Подобное для истинно православного человека было категорически исключено.
Важен и нравственный момент. Шла война. Русская армия вела кровопролитные бои с войсками нескольких государств. Тяжелое положение складывалось в акватории Черного моря, но особенно в Крыму, где с сентября 1854 года бесчинствовали десятки тысяч франко-англо-турецких войск, к которым в январе 1855 года присоединилось и 15 тысяч итальянцев. Более чем стотысячный корпус интервентов держал в осаде Севастополь – главную базу русского военно-морского флота на Черном море13. Несмотря на превосходящие силы на суше и на море, одолеть русских не удавалось. Однако героическая эпопея стоила России больших жертв.
Император, как верный сын Отечества, был солдатом и по складу натуры, и по призванию. Находясь физически далеко от места драматических событий, он был там и душой, и телом. Он остро чувствовал и мучительно переживал все неудачи, страдания и горести армии. Как писал Николай Павлович командующему Русской армией князю А. Д. Меншикову (1787–1869) в ноябре 1854 года, «пасть с честью, но не сдаваться и не бросать». Для него всегда честь являлась значимее жизни.
Николай Павлович находился на фронте буквально 24 часа в сутки. Преданный и верный, он никогда бы не смог покинуть поле боя, никогда не стал бы дезертиром, а потому и все разговоры о его «самоубийстве» – плод воспаленного воображения.
«Версия» об убийстве формально и фактически на первый взгляд кажется более обоснованной. Любителям «тайных пружин» и «заговоров» как главных факторов исторических событий она предоставляет, как кажется, возможность «сорвать покровы» и обнажить «потаенное». На ниве «таинственной» подоплеки смерти Николая I трудились не только последующие «свободные интерпретаторы» истории. Тема не казалась пустопорожней и современникам, особенно из круга тех, кто переживал неудачи России как личное горе.
Прекрасно осведомленная о настроениях в высшем обществе Петербурга Анна Федоровна Тютчева в декабре 1854 года записала в дневнике, что «официальные круги, составляющие правительство, сильно тяготятся войной. Война расстраивает их привычки к комфорту и развлечениям». В этих «кругах» нет никаких патриотических чувств. Для них нужды России, ее честь и достоинство ценностями не являются, а потому и мечтают о мире даже путем предательства национальных интересов.
К этому времени и в Лондоне, и в Париже бравурные настроения давно миновали. Англии и Франции не удалось добиться почти за год тяжелейшей военной кампании никаких заметных побед. Высадка десанта на Камчатке закончилась разгромом, полностью провалилась и попытка оккупации Финляндии, потерпела неудачу и операция по захвату Архангельска. Обстреляв Соловецкий монастырь, английская эскадра бесславно ретировалась.
Совершенно несостоятельными оказались надежды Лондона и Парижа и на отторжение от России Кавказа. Горцы воевать за англо-французские интересы не собирались, а Турция была полностью разорена и деморализована. Ее армия, невзирая на то что ее возглавили фактически английские офицеры, оказалась недееспособной и никакого «освободительного похода» осуществить не могла.
В конечном итоге все свелось к борьбе за клочок суши – Севастополь, который «лучшая в мире военная коалиция» под главенством «блестящих» английских и французских генералов не могла захватить уже полгода. За это приходилось платить неимоверную цену: десятки тысяч интервентов уже погибли, а финансовые расходы превысили все мыслимые пределы.
В Англии и Франции нарастало разочарование и недовольство. К концу 1854 года было ясно, что успешных военных результатов ожидать не приходится и необходимо искать мирный выход из конфликта. Начался дипломатический зондаж. В Вене прошла серия переговоров представителей Англии, Франции, Австрии и России. В Париже и Лондоне, стремясь «сохранить лицо», надеялись «принудить Россию» к миру на их условиях.
Корыстная дипломатическая игра не имела никакого успеха. Николай I совершенно не собирался уступать там, где затрагивался престиж Империи. Он прекрасно осознавал, что, несмотря на жертвы и потери, Россия не побеждена. Не будет такого, чтобы агрессор, вторгшись в пределы Империи, начал диктовать какие-то условия! Покидавшему в феврале 1854 года Петербург британскому послу сэру Джорджу Гамильтону Сеймуру (1796–1880) Царь сказал последнее слово, звучавшее как клятва: «Может быть, я надену траур по русскому флоту, но никогда не буду носить траура по русской чести».
Было очевидно, что на «пути к миру» на условиях Запада неприступной скалой стоит Русский Царь, а потому его кончина являлась такой вожделенной для Лондона и Парижа.
Когда весть о смерти Царя распространилась, то в России сразу же возникли толки о том, что дело это «нечисто», что не обошлось без злого умысла. Шеф полиции генерал Л. В. Дубельт (1792–1862) записал в дневнике 21 февраля 1855 года: «В народе слышны были жалобы на докторов: „Отдали бы их нам, мы бы разорвали их!“»
Начиная с 19 февраля, когда появились первые сообщения о смерти Царя, и вплоть до 27 февраля – дня переноса тела в Петропавловскую крепость перед Зимним дворцом ежедневно собирались большие толпы народа, в которых на все лады проклинались «доктора-злодеи».
Позже тот же Дубельт отметил поразительный факт. За десять дней после смерти Николая I в Петербурге не было зафиксировано ни одного случая воровства, хотя многие дома оставались без хозяев, проводивших многие часы на Дворцовой площади. Как заключил генерал, «видно, что и мошенники поражены горестию и во время оной забыли о ремесле своем».
Императора лечили три доктора: М. Мандт, И. В. Енохин и Ф. Я. Каррель. Главным среди них являлся лейб-медик Мартин Мандт (1800–1858). На него и пало главное подозрение в «отравлении». Одни говорили, что якобы доктор дал Императору яд по просьбе самого больного; другие же полагали, что «немец» – враг России, а потому и нанес свой предательский удар.
Мандт являлся европейской медицинской знаменитостью. Профессор университета в Грейсвальде (Германия), основатель известной хирургической школы. При Русском Дворе он появился в 1835 году, сначала в качестве врача Великой княгини Елены Павловны (1806–1873) – супруги брата Императора Великого князя Михаила Павловича (1798–1849).
В 1840 году Мандт стал лейб-медиком Императора и Императрицы. Вскоре после кончины Николая Павловича Мандт уехал из России и перед смертью написал воспоминания, где подробно описал драматические события, разворачивавшиеся в Зимнем дворце Петербурга в середине февраля 1855 года14.
Мандт у многих при Дворе вызывал нерасположение. Независимый, лишенный придворного лоска, не склонный к пустым салонным разговорам, он казался тяжелым и нелюдимым. Великая княжна Ольга Николаевна писала, что он имел на отца «огромное влияние, я бы сказала, прямо магическое. Папа слушался его беспрекословно». «Влияние», казавшееся дочери, как и некоторым другим, «странным» и «необъяснимым», не имело никакой «магической» подоплеки. Все было просто и вполне «объяснимо». Царь ценил в Мандте то, что всегда высоко ценил и во всех прочих людях: откровенность суждений и неугоднический характер. Но выше всего ставил то, что на современном языке определяется термином «профессионализм».
Трудно усомниться в том, что обвинения Мандта в «цареубийстве» есть всего лишь злонамеренная сплетня. Никаких реальных поводов для таких подозрений не существовало. Лейб-медик выполнял свои обязанности безукоризненно, прекрасно осознавая, какая на нем лежит ответственность.
В роковую ночь с 17 на 18 февраля ему доставили записку фрейлины графини А. Блудовой, питавшей симпатию к Мандту, где ясно было сказано о необходимости вовремя предупредить Императора, чтобы тот успел причаститься. Графиня предрекала: «Вы иностранец, и вся ответственность падет на вас».
Перед лицом неотвратимого хода болезни врач был бессилен: в ту эпоху, когда никаких антибиотиков не существовало, пневмония почти неизбежно означала летальный исход.
Именно Мандту после очередного осмотра и прослушивания легких ночью с 17 на 18 февраля пришлось сообщать Императору, что его положение безнадежно. Лейб-медик не знал, как приступить к разговору, и начал беседовать на отвлеченные темы. Сам Николай Павлович, всегда деликатный и внимательный, понял затруднение доктора и облегчил тому задачу: «Скажите же мне, разве я должен умереть?»
Мандт подробно описал свое состояние в тот момент. «Эти слова прозвучали среди ночного уединения как голос судьбы. Они точно будто держались в воздухе… Три раза готов был вырваться из моих уст самый простой ответ, какой можно дать на такой простой вопрос, и три раза мое горло как будто было сдавлено какой-то перевязкой; слова замирали, не издавая никакого понятного звука. Глаза больного Императора были упорно устремлены на меня. Наконец, я сделал последнее усилие и отвечал: „Да, Ваше Величество!“»
Николай Павлович, любивший во всем ясную определенность, тут же задал следующий вопрос: «Что нашли вы вашими инструментами? Каверны?» Ответ не оставлял надежды: «Нет, начало паралича».
Врач был поражен самообладанием Самодержца и хотя знал его многие годы, но в этих обстоятельствах оно приобретало особое звучание. «В лице больного не изменилась ни одна черта, не дрогнул ни один мускул. И пульс продолжал биться по-прежнему!»
Мандт произнес еще несколько фраз, и умирающий, не перебивая, внимательно смотрел глазами, принявшими «кроткое выражение». Лейб-медик признавался, что сначала «выдерживал его взгляд, но потом у меня выступили слезы и стали медленно катиться по лицу. Тогда Император протянул мне правую руку и произнес простые, но навеки незабвенные слова: „Благодарю вас“».
Пошли последние часы царствования Николая I. История его ухода при отсутствии какой-либо внешней пафосности потрясает своей великой душевной простотой. Это была смерть благочестивого христианина, и каждая деталь здесь наполнена глубоким символическим смыслом. Как восклицала позже А. Ф. Тютчева в письме к мадемуазель де Гранси15, «каким величием и чистотой надо обладать, чтобы удостоиться такой кончины!»16.
Чтобы пресечь лживые слухи и осветить в подлинном свете всю историю болезни и смерти Императора, уже в апреле 1855 года публике была предложена специальная книжечка «Последние часы жизни Императора Николая Первого»17.
Автор ее неизвестен, но вышла она по «Высочайшему соизволению» и была напечатана в типографии Собственной Его Величества канцелярии. В ней подробно и достоверно перечислены все событийные обстоятельства ухода Николая Павловича. Книгу предваряет эпиграф – строка из последний книги Нового Завета – Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Слова в данном случае точные и уместные: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе»18…
В последний момент своего земного существования ярко проявились те высокие органические черты натуры Императора, которые далеко не всегда удавалось увидеть и оценить во времена иные.
В своих воспоминаниях Мандт заметил, что «с тех пор как я стал заниматься медицинской практикой, я никогда еще не видел ничего похожего на такую смерть; я даже не считал возможным, чтоб сознание в точности исполненного долга, соединенное с непоколебимой твердостью воли, могли до такой степени господствовать над той роковой минутой, когда душа освобождается от своей земной оболочки, чтоб отойти к вечному покою; повторяю, я считал бы это невозможным, если б не имел несчастья дожить до того, чтоб все это увидеть».
Самодержец умирал в самой простой обстановке во дворце, являвшемся одной из самых великолепных европейских монархических резиденций. Вокруг же него никакого архитектурно-интерьерного великолепия не существовало. Он находился в небольшой, в два окна, комнате на первом этаже Зимнего дворца, с видом на Неву, единственным украшением которой являлся мраморный камин.
Простая металлическая кровать, застеленная матрасом с соломой; вместо одеяла – солдатская шинель. Стол, несколько стульев, а на окнах не было даже занавесок. В этой непритязательной обстановке не существовало ничего нарочитого; шла война, армия терпела тяжелые лишения, и любые проявления роскоши и удобства для Солдата-Императора были недопустимы.
Фрейлина А. Ф. Тютчева, увидевшая все это вскоре после кончины Императора, написала: «Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что его окружало, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати».
Выразительно эту спартанскую обстановку отобразил в своих записках один из самых известных сановников того периода граф Д. Н. Блудов (1785–1864)19: «Простота его привычек доходила до суровости. Он имел скромный кабинет, маленькую спальню с узкой кроватью, на которой обыкновенно укрывался своею военной шинелью. Лица, имевшие честь поклониться его священным останкам вскоре после кончины, видели Императора лежавшим на этом спартанском ложе. На неостывшем еще теле была наброшена его шинель – его обычный наряд и единственная роскошь»…
Первые признаки простуды – гриппа – проявились у Николая Павловича в конце января 1855 года. Но он, никогда не придававший серьезного значения своему здоровью, ничего не изменил в рабочем распорядке. Как всегда, день был строго расписан, и он неукоснительно выполнял программу. Не отменил даже уличных полковых смотров, хотя погода была ветреной и морозной.
9 февраля он был на смотре батальонов лейб-гвардии Измайловского и Егерского полков, а на следующий день принимал смотр лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Просьбы Наследника-Цесаревича и лейб-медиков «одеться потеплее» были оставлены без внимания.
Мандт настоятельно убеждал Монарха принять меры предосторожности: «Ваше Величество, мой долг предупредить Вас, что Вы очень рискуете, подвергая себя холоду в том состоянии, в каком находятся Ваши легкие».
Выслушав напутствие, Император ответил: «Дорогой Мандт, Вы исполняете Ваш долг, предупредив Меня, а Я исполняю Свой и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас».
Вечером того дня ему стало совсем плохо; резко поднялась температура, непрестанно мучил кашель, началась одышка. С 11 февраля Государь больше уже не выходил из своей комнаты. Там он встретил и начало Великого поста, в понедельник 14 февраля. В тот день он начал говеть. Но даже в состоянии крайней слабости вставал на молитву и, невзирая на просьбы протопресвитера В. Б. Бажанова (1800–1883), не позволял себе сесть.
Как сказано в «Последних часах», «но и в сем положении не прекращал, сколько то было возможно, трудов своих по делам управления. Он умирал на Троне».
В письме командующему Дунайской армией князю М. Д. Горчакову (1793–1861) в конце ноября 1854 года Император признался: «Буди воля Божия, буду нести крест мой до полного истощения сил». Он выдержал обещание; только 12 февраля, когда наступило полное «истощение сил», по настоянию врачей передал Цесаревичу текущие дела по управлению Империей.
За день до кончины Императрица Александра Федоровна предложила Николаю Павловичу приобщиться Святых Тайн. Конечно, она не предвидела скорую смерть, невзирая на то что об этом уже вполне твердо говорили врачи. Она до самого конца отказывалась в это верить, но думала, что это вдохнет в обожаемого супруга силы.
«Хотя состояние здоровья твоего вовсе не опасно, но сколько примеров, что с принятием Святых Тайн Бог посылает страждущим облечение». Император, как всегда, ответил с полной определенностью: «Нет, я не могу приступить к такому великому таинству в постели, неодетый. Лучше тогда, когда я буду в силах совершить это приличным образом».
Императрица замолчала, на ее глазах выступили слезы. Император, который всегда с трепетной нежностью относился к жене, тотчас это заметил: «Ты плачешь?» Александра Федоровна пыталась взять себя в руки и в ответ почти прошептала: «Нет, это от насморка».
Через несколько минут, когда Император, как казалось, задремал, она тихо начала читать молитву «Отче наш». Тут же последовал вопрос больного: «Ты читаешь молитву? Зачем?» – «Я молюсь о твоем выздоровлении». – «Разве я в опасности?» Ее ответ был «нет», но мрачные предчувствия последние дни Александру Федоровну не оставляли. Видя расстроенное состояние супруги, Император попросил ее «пойти отдохнуть». Она вышла из комнаты, не чувствуя под собой ног.
Вечером 17-го врачи предупредили Цесаревича и Императрицу, что положение не просто «угрожающее», но что оно – «безнадежно». В ту ночь в Зимнем дворце творилось что-то невообразимое. Весть о состоянии Императора быстро стала достоянием обитателей дворца: членов Императорской Фамилии, дежурных офицеров, фрейлин, камеристок, лакеев, горничных. Никто почти не спал, все находились в состоянии страшного волнения, некоторые из дам – в состоянии, близком к обмороку. Атмосферу той ночи запечатлела в своем дневнике А. Ф. Тютчева:
«Было два или три ночи, но во дворце никто уже не спал. В коридорах, на лестницах – всюду встречались лица испуганные, встревоженные, расстроенные, люди куда-то бежали, куда-то бросались, не зная, в сущности, куда и зачем. Шепотом передавали друг другу страшную весть, старались заглушить шум своих шагов, и эта безмолвная тревога в мрачной полутьме дворца, слабо освещенного немногими стенными лампами, еще усиливала впечатление испытываемого ужаса»…
После того как Государю стал известен категорический диагноз, он попросил Мандта позвать к нему Наследника. Ждать долго не пришлось, Цесаревич находился в соседнем помещении, спать не ложился. Царь сам сообщил сыну Александру о скором уходе и просил того «беречь Матушку».
Потом был вызван духовник В. Б. Бажанов для приобщения Святых Тайн, которого и привел Цесаревич. К этому времени в комнату вернулась Императрица. Когда духовник начал читать предшествовавшие исповеди молитвы, Николай Павлович благословил жену и старшего сына, которые после этого оставили помещение.
Далее состоялась исповедь. После исповеди Николай Павлович громким и ясным голосом произнес молитву перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую», а затем, перекрестившись, произнес: «Молю Господа, чтобы Он принял меня в Свои объятия». Доктор Мандт зафиксировал точное время, когда завершился Священный обряд: на часах была половина пятого утра.
О последующем в «Последних часах» говорится: «Воздав Божье Богови, наш Кесарь обратился на несколько мгновений к делам земного своего Царства: приказал дать знать по телеграфу в Москву, Варшаву, Киев, что Император умирает, как будто говоря уже не от своего имени, и прибавил: прощается с Москвой. Он сделал несколько распоряжений о своем погребении: велел положить возле гроба маленький образ Богородицы Одигитрии, который получил при Святом Крещении от Екатерины Великой…»
Император позвал близких: Императрицу, детей, невесток и внуков. Каждому он сказал несколько слов, всех благословил, а затем произнес прощальное напутствие: «Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни: оставайтесь дружны». Затем семье, теснившейся у изголовья, сказал: «Теперь мне нужно остаться одному, чтобы подготовиться к последней минуте».
Почти все, обливаясь слезами, вышли, остались лишь Цесаревич, Императрица и Мандт. В это мгновение нервы Александры Федоровны не выдержали. Она упала на колени, обхватила мужа руками и почти возопила: «Оставь меня подле себя; я бы хотела уйти с тобою вместе. Как радостно было бы вместе умереть!»
Ответ, тихий и строгий, образумил Императрицу: «Не греши, ты должна сохранить себя ради детей, отныне ты будешь для них центром. Пойди соберись с силами, я тебя позову, когда придет время».
Затем, обратившись к Наследнику, произнес свое монаршее прощальное слово: «Ты знаешь, что все мои попечения, все усилия стремились к благу России, я хотел продолжать трудиться так, чтобы оставить тебе государство благоустроенное, огражденное безопасностью извне, совершенно спокойное и счастливое, но ты видишь, в какое время и при каких обстоятельствах я умираю. Видно, так угодно Богу. Тяжело тебе будет».
В ответ Цесаревич, обливаясь слезами, вымолвил: «Ежели уже суждено мне тебя лишиться, то я уверен, что ты там будешь молиться Ему о России, о нас всех, о святой Его мне помощи понести тяжелое бремя, Им же на меня возлагаемое». Ответ умирающего не оставлял сомнений: «Да, я всегда молился Ему за Россию и за всех вас, буду молиться и там».
Все последующие часы, с небольшими перерывами, Цесаревич провел на коленях перед кроватью отца, держа в руке его руку…
К одру умирающего Монарха были вызваны высшие должностные лица Империи: начальник Третьего отделения Собственной Его Величества канцелярии граф А. Ф. Орлов (1786–1861), министр Императорского Двора граф В. Ф. Адлерберг (1791–1884) и военный министр князь В. А. Долгоруков (1804–1868). Император всех поблагодарил за преданную службу, просил так же служить и сыну.
Цесаревичу и Адлербергу высказал свою волю насчет похорон. Назвал зал на первом этаже в Зимнем дворце, где должен быть выставлен для прощания гроб с его бренными останками, и указал место в Петропавловском соборе, где надлежит похоронить. При этом особо пожелал, чтобы погребение было совершено как можно более скромно, без пышного катафалка, «без всяких великолепных в зале и церкви убранств».
Свою волю о похоронах Император Николай I выразил еще в своем духовном завещании, написанном первый раз в 1831 году, а затем несколько раз дополнявшемся и редактировавшемся (последние дополнения были сделаны в 1845 году). Там было сказано, что похороны должны быть устроены как можно проще, без длинного траура20, и выражена воля «быть похороненным за Батюшкою у стены, так, чтобы осталось место для Жены подле меня»…
Вслед за сановниками к одру Императора были приглашены дворцовые служители, которых он всех поблагодарил и попрощался. Следом отправлены были прощальные телеграммы в действующую армию, в Москву и в Берлин – брату Императрицы Александры Федоровны Королю Фридриху-Вильгельму IV (1795–1861; Король с 1840 года).
Попросил Цесаревича попрощаться за него с гвардией, со всей армией и особенно с защитниками Севастополя. «Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где мне это не удавалось, это случалось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня».
Над Петербургом занималась заря; тот день оказался для февраля на редкость солнечным и тихим. Во дворце же царила напряженная и безрадостная атмосфера. Все находились в состоянии оцепенения.
Сюда, в этот последний уголок, где угасал Повелитель величайшей Империи, были устремлены мысли и взоры множества людей со всего света: новость о смертельной болезни Русского Царя утром 18 февраля с быстротой молнии облетела европейские столицы. Телеграмма в Берлин пришла еще затемно, а оттуда весть быстро достигла Вены, Парижа, Лондона.
Кто-то понимал, но большинство тогда лишь чувствовало, что в Петербурге совершается великий исторический перелом, что происходит встреча настоящего и будущего. Каким оно будет, это будущее? Ответа не было, но ясно было одно: оно станет другим.
Император не боролся за продление земного существования, он готовился к встрече с Всевышним. Мандту задал два последних вопроса: «Потеряю ли я сознание?» Лейб-медик стал уверять, что, как он надеется, этого не произойдет. Второй вопрос «Когда все это кончится?» остался без ответа, да он уже и не требовался.
Государь оставался в твердом сознании почти до самого конца, его глаза то открывались, то закрывались, но взгляд был осознанный, но вместе с тем уже какой-то потусторонний. Находившиеся рядом замечали, что время от времени его губы шевелились; было видно, что он произносит молитвы. Когда духовник стал читать Отходную, Император внимательно слушал и все время крестился. После того Бажанов благословил его, осенив крестом, Император поцеловал у него крест и произнес: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно».
Александра Федоровна, как и Цесаревич, все последние часы была рядом. Держа ее за руку, Николай Павлович произнес ей последние благодарственные слова: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем, с той минуты, когда я впервые увидел тебя, и до моего последнего часа». И он тоже всегда был для нее ангелом-хранителем, и когда его «последний час» истек, Императрица закрыла глаза своему бесценному супругу.
Александра Федоровна проявила удивительное присутствием духа и изумительную стойкость. Придворные были поражены ее самообладанием. Еще недавно она представлялась такой хрупкой, слабой, болезненной и беззащитной; теперь же, в минуты тяжелейших испытаний, она – только воля и сила. Она должна была успокаивать детей, которые плакали навзрыд за дверями спальни отца. Особенно в тяжелом, почти истерическом состоянии находилась тридцатипятилетняя дочь Мария (1819–1876).
Мать считала такое проявление безудержных чувств недопустимым и сказала ей то, что подействовало отрезвляюще на Марию Николаевну: «Не плачь, напротив, надо благодарить Бога за то, что Он избавит Государя от предстоящих ему испытаний и горя. Это ли не доказательство, что Господь любит твоего отца!»
С каждой минутой положение Императора становилось все хуже и хуже, дыхание затихало, становилось прерывистым, пульс понижался. Около одиннадцати часов Император впал в забытье. Перед самым уходом он вдруг открыл глаза, его взор прояснился, он сжал руку Цесаревича и произнес, как заклинание: «Держи всё, держи всё». Что ему открылось, там высоко, на границе двух миров – мира людей и Царствия Небесного, – навсегда осталось тайной.
Это последнее, то ли мольба, то ли стон, невольно вызывают предположение, что, может быть, Императору увиделось трагическое будущее, которое ждало его сына. Царь Александр II, обуреваемый прекраснодушными мечтами, пошел на уступки европейской моде, проводил разнообразные реформы, но все-таки не сумел «удержать всё». И погиб насильственной смертью от рук злодеев, покушавшихся и на Царя, и на весь многовековой уклад жизни России…
Душа Православного Царя Николая I отошла к Богу; на земле начались траурные церемонии. Панихиды служились по всей России, а в Зимнем дворце – у тела усопшего, в его неказистом кабинете-спальне. Протопресвитер В. Б. Бажанов признавался после кончины Николая Павловича: «По долгу моего звания, многих умирающих, в том числе и известных своим благочестием, напутствовал я Святыми Таинствами и молитвами; но никогда не видал такого умилительного и величественного торжества Христианской Веры над смертью».
Вечером 19 февраля Императора Николая Павловича перенесли в так называемый «Белый зал с колоннами». Через день последовало Высочайшее приказание: разрешить «впускать ежедневно на поклонение почившему Государю Императору от 8 до 11 часов утра и от часу до шести пополудни всех без различия классов и состояний».
«Белый зал» когда-то относился к покоям второй дочери Николая Павловича Великой княжны Ольги Николаевны, которая, выйдя в 1846 году за принца Вюртембергского Карла (Карла-Фридриха-Александра, 1823–1891; с 1864 года – Короля Вюртембергского), в России бывала редко, от случаю к случаю. В этом зале раньше устраивались светские вечера, проводились балы, искрились молодость и веселье; теперь же – только грусть, печаль, слезы и слезы без конца.
Рядом с этой обителью скорби текла жизнь, она продолжалась, невзирая на смерть «отца России», на безрадостные похоронные настроения близких людей.
В День кончины Николая I в Зимнем дворце приносили присягу новому Императору, Александру II, высшие должностные лица Империи и гвардия.
На следующий день, 19 февраля, появился Манифест о восшествии на Престол. В главной резиденции состоялся большой съезд сановников, офицеров, приносивших присягу, а дипломаты удостоверяли свои «симпатии». Эта неуместная по человеческим меркам помпезность для Вдовствующей Императрицы, как и для нового Императора и Императрицы, являлась нестерпимой мукой. Траур и праздник происходили в одном доме, в одних и тех же стенах! Через двадцать шесть лет подобная фантасмагория почти точь-в-точь повторится, когда последует смерть Александра II…
Бесстрастный закон и имперская традиция требовали неукоснительного исполнения ритуала. Обе Императрицы и новый Император выдержали это душераздирающее раздвоение. Утром стоять в траурном черном платье у гроба с молитвой о упокоении души, а потом чуть не бегом бежать облачаться в парадные туалеты и мундиры и следовать на прием, где сияли позументы, аксельбанты, ордена, где господствовали улыбчивые лица и любезные фразы. Для соблюдения публичного благолепия Монарх отдал приказ войскам и караулу: «В барабаны не бить и музыку не исполнять».
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе