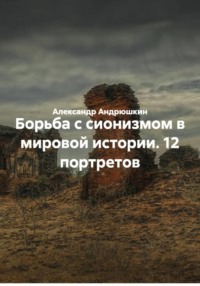Читать книгу: «Борьба с сионизмом в мировой истории. 12 портретов», страница 2
Не совсем так было у греков. (Хотя у греков и это тоже было.) Но можно ли представить себе, чтобы Александр Великий так уж стремился к триумфу в своей родной Македонии, которая представлялась ему захолустной и провинциальной после тех блестящих завоеваний, которые выпали на его долю? И Птолемеи, и Селевкиды отнюдь не стремились «домой», рассматривая в качестве своей новой родины покорённые земли. Дело было в том, что греки сразу (и почти неожиданно для самих себя) захватили, действительно, очень много новых земель и народов. В этом смысле завоевания Александра Македонского были сродни варварским захватам, в ходе которых дикари покоряют цивилизованную страну, но отнюдь не «присоединяют» её к своей далекой племенной родине, а наоборот, сами предпочитают поселиться в захваченных богатых дворцах и на богатых землях.
Эллинизм можно рассматривать так, а можно всё-таки в качестве цивилизаторско-окультуривающей миссии; как уже сказано, он был и тем, и другим сразу. Быть может, эллинизм нёс на себе отпечаток личности Александра Македонского – умершего в разгар подготовки к новым походам, человека, достигшего, быть может, больше чем кто-либо ещё в истории, но в то же время ещё молодого, который, следовательно, не совершил всего, что мог бы совершить.
Если так смотреть на эллинистические государства, то они были прежде всего перевалочной базой, промежуточной ступенью, опираясь на которую, греки могли бы, – и, действительно, пытались, – завершить покорение Средней Азии, Индии, а там, как знать, быть может, настал бы черед и более отдаленных земель…
Часто можно встретить утверждение, что двумя главными эллинистическими государствами были держава Птолемеев с базой в Египте и держава Селевкидов. Однако последняя была государством значительно более крупным чем держава Птолемеев, к тому же именно держава Селевкидов, – которую по праву можно назвать империей, – была по-настоящему многонациональной. Индийские владения, правда, были потеряны Селевкидами, но в их империю входили Мидия, Персида, Месопотамия, Северная Сирия, часть Малой Азии. Именно держава Селевкидов была и наследницей Вавилонского царства.
Селевкиды вели длительные войны с Птолемеями за южную Сирию. Около середины III века до н.э., во время царствования Антиоха II, от державы Селевкидов отложились восточные области – Бактрия и Парфия, хотя управлялись они по-прежнему греками.
Одним из ведущих специалистов-историков, исследовавших государство Селевкидов, был, уже в советское и пост-советское время, Г. А. Кошеленко.11 Особый интерес представляет его исследование механизмов и процессов греческой колонизации Востока.
Свой анализ хозяйственного уклада в государстве Селевкидов Г. А. Кошеленко начинает с описания «царских» (т.е. принадлежавших династии Селевкидов) земель и с исследования жизни «посаженных» на эти земли греческих колонистов. Эти земли и эти колонисты и были основой основ государства, т.к. именно из этой категории населения набирались солдаты в армию, и сами эти колонисты были, в массе своей, «ветераны», т.е. закончившие срок службы солдаты. Выйдя в отставку, эти солдаты-греки получали участки стандартной величины (таких стандартных размеров участков было несколько, по меньшей мере, три, и наделы включали, как правило, пахотную землю и землю для сада и виноградника), а вместо них в ряды вооруженных сил вступали их дети – представители следующего поколения греков-колонистов. Армию свою Селевкиды составляли преимущественно из греков (македонян), избегая полагаться на местные этнические войска.
Именно эти греческие поселения, рассыпанные по всем сатрапиям империи Селевкидов, и были связующим её цементом. Призываемые в ряды войска, предводителем которого был сам царь, эти люди были заинтересованы в сохранении державы, следовательно – в подавлении этнических восстаний и волнений и в отражении нападений извне.
Внутренняя организация этих поселений напоминала структуру греческого полиса, а размещались они либо вблизи уже существовавших восточных городских центров, либо в новых местах, и тогда вокруг них могли вырастать новые, уже вполне греческие города. Например, Антиох IV основал город, названный им Антиохией, на побережье Персидского залива; там же чеканилась и монета, этими деньгами обеспечивалась масштабная торговля с Индией. Выход державы Селевкидов к Средиземному морю находился в северной Сирии, где и расположилась столица империи – Антиохия на Оронте.
…Индия, как уже сказано, была потеряна; но через такие области своей державы как Парфия (Иран) и Бактрия (Средняя Азия) греки организовали торговлю с Китаем. Именно на время расцвета империи Селевкидов пришлось возникновение «Великого шёлкового пути». Правда, как также уже отмечалось, Парфия и Бактрия от державы вскоре откололись, поскольку местная греческая элита считала, что ресурсы этих областей слишком эксплуатируются для войн, ведущихся, в основном, в районе Средиземноморья.
Как было сказано, земля, на которой селились колонисты, была «царской», т.е. не переходила в собственность колонистов, а сдавалась им в аренду. С другой стороны, и местное, этническое население покорённых стран (в основном, сельское) также называлось «царскими людьми» и облагалось податями. Отдельными «субъектами внутренней жизни» державы Селевкидов были так называемые «храмовые общины», т.е. хозяйственные комплексы, существовавшие вокруг храмов восточных религий. Земля, в основном, оставалась в собственности этих храмовых общин, сами же эти культы и их служители рассматривались Селевкидами, быть может, поневоле, скорее как союзники чем как объекты управления.
Тут-то, возможно, и крылась одна из главных опасностей для империи. Видимо, можно считать правилом, что, если местная религия не выкорчевывается и не уничтожается бесследно, то она раньше или позже становится знаменем сопротивления и, при всей своей якобы «неотмирности», наиболее действенным оружием освободительной борьбы.
Эта проблема стояла и в государстве Селевкидов: эллинизация. Но не просто распространение греческого языка, а приобщение азиатских народов к своей национально-культурной, в том числе, религиозной, идентичности. Эллинизация финикийцев – жителей средиземноморских городов шла неплохо и, ко времени появления там римлян, финикийцы, фактически, слились с греками, переняв греческий язык, культуру и религию.
Как будто бы такой же процесс шел и в Палестине, где селилась масса греческих торговцев и другого грекоязычного населения и где многие образованные иудеи тоже переходили на греческий язык. Однако существовало и мощное религиозное сопротивление иудеев эллинизации.
Как уже сказано, Антиох IV был сыном Антиоха III, умершего в 189 до н.э., и во время правления своего старшего брата Селевка IV (189–175 до н.э.) находился в Риме в качестве заложника. Однако в 175 году Селевк IV согласился обменять брата на своего собственного сына Деметрия, и в том же году был убит узурпатором Гелиодором, которого, в свою очередь, ликвидировал вернувшийся из Рима Антиох IV.
Так Антиох получил, а точнее, захватил власть, оттеснив законного наследника, Деметрия. Но, хотя само по себе это является весьма непростым сюжетом, всё-таки в нашу тему – борьба Антиоха с сионизмом – это не входит, потому интересующихся этими деталями правления Антиоха IV я отсылаю к специальной литературе о нём.12
Смутным временем захвата власти Антиохом IV попытались воспользоваться давние соперники Селевкидов, Птолемеи, предъявившие требования на часть Сирии, Палестину и Финикию, которые завоевал Антиох III. Как египетская сторона, так и Антиох IV апеллировали в этом вопросе к Риму, но сенат остался нейтральным.
В 173 до н.э. Антиох IV закончил выплачивать Риму остатки контрибуции, наложенной договором от 188 до н.э., и далее, опередив египтян, вторгся в Палестину, а затем и в сам Египет. Он разгромил войско египтян под Пелузием, захватил город Пелузий, а в 169 до н.э. уже контролировал весь Египет, за исключением столицы, Александрии.
Соправителями Египта были тогда два Птолемея: Птолемей Филопатор и Птолемей Фискон, который занимал позицию более враждебную к Антиоху IV. Птолемей Филопатор, племянник Антиоха IV, сын сестры Антиоха IV Клеопатры, был согласен на то, чтобы дать Антиоху IV статус опекуна. Это устраивало Антиоха, который не хотел полного низложения династии Птолемеев, что привело бы к столкновению с Римом. Пока Антиох IV вроде бы обеспечил себе контроль над Египтом…
Однако в его тылу усиливались беспорядки, и это заставило его вернуться назад, в Палестину, хотя в Пелузии он оставил сильный гарнизон.
В это время, напомню, разгоралась «Последняя македонская война», и грекоязычный мир, казалось, ещё мог разбить римлян в военном поединке и даже перейти в контрнаступление. Рим громил греческие царства поодиночке, и, когда римляне воевали с Антиохом III, их поддержал македонский царь Филипп. Однако, после разгрома Антиоха III, Филипп ничего не получил от римлян, понял, что был обманут, и сам начал готовиться к войне с Римом. Он восстановил в Македонии порядок, благосостояние и военную силу: собрал и обучил армию, а военных запасов и денежных средств накопил столько, что хватило бы и на трехгодичную упорную войну.
Во время этих приготовлений Филипп умер в 179 до н.э., но наследовавший ему сын Персей был в курсе всех его дел, продолжал их и, наконец, объявил Риму войну. В 171 до н.э. римский флот появился у берегов Македонии, а сухопутная армия римлян высадилась у Аполлонии. Эта армия под командованием Публия Лациния Красса под Лариссой потерпела полное поражение, и было её счастьем, что македоняне позволили ей отступить к морю.
Все три года этой войны, 171–169 до н.э., перевес в военных действиях был скорее на стороне греков, но война шла вяло, потому что и вяло действовали римляне (пока не поставили во главе войска Луция Эмилия Павла), и греки никак не могли объединиться. Царь пергамский был на стороне Рима, что же касается Антиоха IV, то он получал от Персея просьбы о поддержке, но открыто становиться на его сторону избегал – быть может, отчасти это было местью за поддержку римлян отцом Персея, Филиппом, а кроме того, гигантскую контрибуцию, наложенную Римом на государство Селевкидов, Антиох IV только что полностью закончил выплачивать. Так зачем ему была новая война с Римом?
Скорее всего, Антиох IV был также прямым ставленником Рима, т.е. в той или иной форме был «завербован» римлянами в период своего заложничества. (Да и могло ли быть иначе?) Наверняка, имелись какие-то тайные условия и обязательства, в обмен на которые Рим и согласился, чтобы этот царь-заложник стал «настоящим» царем.
Но, каковы бы ни были секретные обязательства Антиоха перед Римом, он также имел теперь на руках гигантскую державу, которую правильнее было бы назвать (как это уже сделано выше) империей, которая, кстати, и по численности населения превосходила тогдашний Рим со всеми его подконтрольными территориями. Антиох IV был занят, как уже говорилось, строительством новых городов, обустройством грекоязычных колонистов, разрешением проблем, связанных с самоуправлением храмовых общин…
* * *
Словом, от открытой поддержки Персея Антиох уклонился. Вместо этого, возвращаясь из Египта в Сирию, он напал на Иерусалим и разграбил Иерусалимский храм.
В то время в Израиле боролись за власть несколько первосвященников – и это для Израиля имело такое же значение, как для других народов – борьба за царский престол. Напомним, что за время «вавилонского пленения» израильское общество превратилось в религиозную общину с первосвященником во главе. (А до «вавилонского плена» Израилем управляли светские цари, не очень отличающиеся от царей других народов.)
Должность первосвященника теперь в Израиле была наследственной и пожизненной, и он был как духовной, так и светской высшей властью, хотя и правил вместе с Синедрионом (советом старейшин). Две противоборствующие партии среди тогдашних иудеев были сторонники традиционной религии (их возглавлял первосвященник Хоньо III) и сторонники эллинизации – их чаянья выражал брат Хоньо III, Иисус, который взял себе греческое имя Ясон и сместил Хоньо с поста первосвященника. Вскоре Хоньо III был убит.
Вообще-то замену Хоньо на Ясона санкционировал Антиох IV – Ясон пообещал ему увеличить выплату податей, построить в городе гимнасий, эфебий, а впоследствии даже намеревался переименовать Иерусалим в Антиохию. Переименование не состоялось, но многое в эллинистическом духе было сделано, главное, в Иерусалиме возник, по примеру греческих городов, религиозно-спортивный центр.
Ясон оставался первосвященником в 174–171 до н.э., но затем Антиох заменил его на этом посту Менелаем, который был или, по крайней мере, объявлял себя ещё более последовательным эллинизатором. Взяв перед Антиохом ещё более серьёзные денежные обязательства чем Ясон, Менелай добился отстранения Ясона. Ясон, однако, не оставил попыток удержать первосвященство и даже взял штурмом Иерусалим, низложил Менелая и на время вернул себе первосвященство.
Это произошло, правда, уже во время второго похода Антиоха на Египет… Вообще, в отношении этих двух походов Антиоха IV в Египет и двух штурмов им Иерусалима существуют некоторые неясности. Оно и понятно: события следовали одно за другим с промежутком в год или два, многое повторялось, поэтому можно даже назвать простительным, если историки то, что произошло в 170 до н.э., переносят на 168 до н.э. и наоборот.
Антиох IV вовсе не был заинтересован в том, чтобы и римляне, и египтяне, и иудеи точно знали, где он находится и что намеревается делать. Во время второго его отступления из Египта распространился даже слух (быть может, им самим пущенный), что царь умер. Кроме того, путаница и противоречивость свидетельств усиливались из-за соперничества Ясона и Менелая. Большинство историков сходятся на том, что во время первого отступления из Египта в 170 до н.э. Антиох взял штурмом Иерусалим, устроил резню и ограбил Иерусалимский храм, причём в последнем деянии ему помогал Менелай. (По крайней мере, так утверждали сторонники Ясона).
Помимо всего прочего, жестокое обращение Антиоха IV с Иерусалимом было неким предметным уроком Египту, а косвенно и Риму. Вообще почти все действия этого царя, как мы это увидим позже, были двусмысленными и содержали как прямое, так и некое скрытое значение. «Посмотрите, вот так же я мог бы поступить и с Александрией» – как бы говорил Антиох Птолемеям и тем египетским царедворцам, которые подталкивали Птолемеев к войне с ним. Есть основания считать, что Египет этот урок принял к сведению…
Итак, в 170 до н.э. Антиох IV берет штурмом Иерусалим, уничтожает тех евреев, которые ему сопротивлялись, врывается и в Иерусалимский храм и захватывает его богатства. Надо думать, были конфискованы и богатства иудейских домовладений. Из богатств, конфискованных в главном храме, немецкий историк Эмиль Шюрер упоминает три золотые чаши, золотой алтарь для воскурений, золотой семисвечник и золотой жертвенный стол. Приводит Шюрер и большое количество ссылок на историческую литературу: около десяти историков древности и раннехристанского времени писали об этих событиях.13
Таков был первый «погром» Антиоха в Иерусалиме. То, что последовало позже, было куда более опасным для иудеев…
* * *
Теперь о том, что же за личность был царь Антиох IV.
Наиболее подробные описания царя донес до нас Полибий в своей «Всемирной истории». Речь в нижеприведенном отрывке идет о годах пребывания Антиоха в Риме в качестве заложника:
«Названный Эпифаном («Славный», “Illustris” – А.А.), Антиох… иногда без ведома придворных своих скрывался из дворца и бродил там и сям по городу на виду у всех в сопровождении одного-двух товарищей. Наичаще можно было видеть его у серебряных и золотых дел мастеров, как он болтал с резчиками и иными рабочими и расспрашивал их об их мастерстве. Потом он заводил знакомства и разговоры с первым встречным из простонародья и бражничал с беднейшими из чужеземцев. Если бывало прослышит, что где-нибудь собрались молодые люди на пирушку, он без всякого предупреждения является к ним в шумном сообществе, с чашей в руке и с музыкой; собравшиеся в смущении от такой неожиданности поднимались с мест и убегали. Тоже нередко случалось, что он снимал с себя царское одеяние и в тоге соискателя на должность эдила или народного трибуна обходил рынок, пожимал руки одним, обнимал других, убеждая подавать голоса за него. По избранию на должность он, согласно обычаю римлян, садился в кресло из слоновой кости, выслушивал споры, какие происходили на рынке, и решал дела с большим вниманием и усердием. Такого рода действиями царь приводил людей рассудительных в большое недоумение: одни видели в нем человека простодушного, другие безумца, ибо таков он был и в подарках: одним дарил козьи игральные косточки, другим финики, третьим золото. Кроме того, при случайных встречах с людьми, которых раньше никогда не видел, он неожиданно предлагал подарки. Однако в жертвенных приношениях городам или в способах чествования Богов он превосходил всех царей. В этом можно убедиться по святилищу Зевса Олимпийского в Афинах14 или по изображениям у дельфийского жертвенника. Антиох ходил мыться в народные бани, когда они бывали переполнены простонародьем, и велел вносить за собой кувшины с драгоценнейшими маслами. Однажды в бане кто-то сказал ему: «Хорошо вам, цари, что вы умащаете себя такими ароматными маслами». Ни слова не сказал на это Антиох; только на другой день подошел к тому месту, где мылся человек, обратившийся с такими словами, и велел вылить ему на голову наибольший кувшин превосходнейшего масла, называющегося стактою. Все купальщики при виде этого кинулись туда же, чтобы натереть себя маслом, но среди смеха падали на скользком полу. Скользил и смеялся и сам царь».15
Данное описание, включенное в XXVI книгу Полибия, это единственное, что сохранилось от этой книги до наших дней, и, думается, этот факт может служить своеобразным подтверждением поговорки «рукописи не горят» – т.е. то, что представляет собой настоящую ценность, каким-то образом спасается от гибели.
XXVI книга Полибия соответствует, вероятнее всего, периоду времени до 175 года, так как речь в этом отрывке, как уже сказано, идет ещё о пребывании будущего царя в Риме. Но, хотя Антиох и был заложником, всё-таки он был царственным заложником, и это в приведенном отрывке чувствуется. С другой стороны, чтобы его отпустили из Рима, обменяв на Деметрия, он должен был убедить римлян:
а) в своей рациональности и послушности им (при этом он, наверняка, принял какие-то секретные условия римлян, о чем уже говорилось);
б) убедить их также в своей, если не полной невменяемости, то – в никчёмности. Для этого и предпринимались им всякие поступки типа пьянок с бедняками и бродягами и т.д. Если бы римляне видели в нем сильного человека, они бы не посадили его на трон; следовательно, он должен был убедить их, что он – кто-то вроде шута…
* * *
Несмотря на большие лакуны, труд Полибия в основных частях всё-таки уцелел, и некоторые события из жизни Антиоха IV дошли до нас в подробном изложении, например, есть весьма ценное описание праздничных игр, устроенных Антиохом в 166 до н.э. Однако об этом – позже, а сейчас – о втором походе Антиоха в Египет.
Как уже было сказано, зимой 169-168 до н.э. Персей Македонский напрасно просил Антиоха IV примкнуть к нему в борьбе с римлянами. Антиох IV отказал ему – возможно, это было частью его, Антиоха, «контракта» с Римом.
Сам Антиох IV продолжал укреплять свою власть на Востоке. Не исключено, что он надеялся на некий раздел сфер влияния: держава Селевкидов будет контролировать весь Восток (включая Египет), а материковая Греция и Рим поделят между собой Европу.
Пока флот Антиоха IV одержал победу над флотом Птолемеев под Кипром (принадлежавшим до этого Птолемеям), и губернатор Кипра сдал Антиоху IV остров. Далее Антиох IV вновь (168 до н.э.) вторгся в Египет, потребовал формального закрепления передачи ему Кипра и Пелузия, занял нижний Египет и стал лагерем неподалеку от Александрии. Здесь-то, под Александрией, его и застала печальная для всех греков весть о том, что в Македонии римляне разгромили Персея…
Ещё до этого, однако, был предпринят ряд новых дипломатических маневров (и Птолемеями, и самим Антиохом IV) с целью склонить римлян на свою сторону (в войне Селевкидов с Птолемеями) и договориться между собой при посредничестве других греческих государств. Дадим слово Полибию:
«…В то время, когда Антиох завладел Египтом, явились к нему послы, отправленные [из Эллады] для мирных переговоров. Он принял их ласково и в первый же день позвал на великолепное пиршество, а на следующий допустил к переговорам и предложил им объяснить цель посольства. Первыми говорили послы от ахейцев, за ними Демарат от афинян, за Демаратом милетец Эвдем… Никому из послов царь не возражал и, добавив ещё кое-что от себя в том же направлении, перешёл к защите своих исконных прав… в заключение он отверг состоявшееся, по словам александрийцев, соглашение между недавно умершим Птолемеем и Антиохом, отцом теперешнего Антиоха, по которому Птолемей должен был получить в приданое Келесирию, когда брал в замужество Клеопатру, мать нынешнего царя. Этою речью Антиох убедил собеседников в правоте своих требований, в чём и сам был убежден, и затем отплыл в Навкратис. Там он милостиво обошелся с жителями, дав каждому из тамошних эллинов по золотому, и продолжал путь в Александрию…
…Приостановив осаду Александрии, Антиох отправил послов в Рим… вместе с ними он послал полтораста талантов, из них пятьдесят на венок для римлян, остальную сумму на подарки нескольким городам Эллады».16
«Узнав, что Антиох утвердился в Египте и чуть не завладел Александрией, и почитая дальнейшее усиление этого царя неудобным для Рима, сенат отправил к нему посольство с Гаем Попилием Ленатом во главе, которому поручено было привести войну к концу…»17
«…Когда Антиох пришел к Птолемею ради захвата Пелузия и уже издали приветствовал римского военачальника и протягивал ему правую руку, Попилий подал ему табличку с начертанным на ней определением сената, которую держал в руках, и предложил Антиоху прочитать тотчас. Поступил так Попилий, как мне кажется, потому, что не желал отвечать знаками дружбы Антиоху до того, как узнал, друга ли он имеет в собеседнике, или врага. (Скорее: верного ли «агента» Рима или уже «вероломно» расторгнувшего «секретный агентский договор» – А. А.) Когда царь по прочтении таблички сказал, что желает обсудить с друзьями полученное требование сената, Попилий совершил деяние, на мой взгляд, оскорбительное и до крайности высокомерное, именно: палкой из виноградной лозы, которую держал в руках, он провел черту кругом Антиоха и велел царю, не выходя из этого круга, дать ответ на письмо. Царя поразила такая дерзость; однако после непродолжительного колебания он обещал исполнить всё, чего требуют римляне. Теперь Попилий и его товарищи поздоровались с царем и все с одинаковым радушием приветствовали его. Письмо гласило: «Прекратить немедленно войну с Птолемеем». Посему через несколько дней, в определенный срок, Антиох, недовольный и огорчённый, увел обратно свои войска в Сирию; но тогда необходимо было покориться. Устроив дела в Александрии, преподав царям совет жить в согласии… Попилий с товарищами отплыл к Кипру: они желали возможно скорее и этот остров очистить от находившихся там войск Антиоха. По прибытии на остров римские уполномоченные увидели, что военачальники Птолемея побеждены и что Кипр весь разграблен, сирийскому войску они велели поскорее покинуть страну и оставались на острове до тех пор, пока войска не возвратились в Сирию. Таким-то образом римляне спасли почти что уничтоженное царство Птолемея, ибо судьба так направила дела Персея и македонян, что Александрия и целый Египет, которые дошли до последней крайности, воспрянули снова благодаря тому, что раньше решена была участь Персея. Не будь этого события и не будь оно достоверно известно Антиоху, он, мне кажется, не подчинился бы требованиям, ему предъявленным».18
Итак, мы прочли изложение того знаменитого эпизода, который вошёл, кажется, во все, даже самые краткие жизнеописания Антиоха IV: римский полководец очерчивает палкой круг вокруг него, и Антиох, «посрамлённый» и «униженный», подчиняется…
Однако не надо быть выдающимся экспертом в политике чтобы знать, что оскорбительными и вызывающими жестами порой сопровождаются весьма осторожные поступки, и наоборот… И, если этот «агент Рима», Антиох, всё-таки решил не выполнять тех обещаний, которые он наверняка дал римлянам в обмен на царство, то что мог Рим поделать с ним теперь, когда царство было уже у него в руках?..
* * *
Как бы то ни было, Антиох вторично отступает из Египта. И вот здесь-то вторично и происходит разгром Иерусалима и уже гораздо более жестокие преследования иудеев.
Распространяется слух, будто царь умер; поверив в этот слух, иудеи Иерусалима поднимают восстание; но только этого, возможно, и ждал Антиох IV, как предлога напасть на них. Антиох IV отдает приказ своему военачальнику Аполлонию полностью эллинизировать Иерусалим. «Иерусалим должен был стать с тех пор греческим городом».19 Иудейское население, если не бежало само, изгонялось силой. Мужчин убивали, женщин и детей продавали в рабство. Чтобы впоследствии не возникало сопротивления, стены города Иерусалима было приказано срыть. Однако цитадель заново укрепили, и в ней теперь постоянно размещался греческий (сирийский) гарнизон.
Забегая вперёд, скажем, что гонения Антиоха вызвали восстание Маккавеев, но оно поначалу больших успехов не достигло, торжество же Антиоха, на первый взгляд, было полным…
Уничтожение иудейского населения города Иерусалима было лишь одним из шагов на пути к главной цели, которую поставил Антиох. Главная его цель состояла в том, что по всей стране должна была быть выкорчевана иудейская религия и установлено поклонение греческим богам. Соблюдение любых иудейских обычаев, включая субботы и обрезания, было запрещёно под страхом смерти; иудейские богослужения тем более были запрещены. Во всех городах Израиля должны были приноситься жертвы греческим богам. За выполнением этого царского распоряжения следили специальные наблюдатели, посланные во все населенные пункты. Там, где иудеи не подчинялись постановлениям добровольно, применялось принуждение. Регулярно проводились обыски, и в отношении тех, у кого находили иудейские богослужебные книги или утварь, тех, кто обрезал детей и т.д., – смертный приговор приводился в исполнение.
Наконец, как писал советский историк Г. М. Лифшиц, «стремясь к нивелированию пёстрых азиатских народностей под флагом единой религии, Антиох Эпифан распорядился заменить все местные религии и культы одним культом Зевса Олимпийского. В соответствии с этим распоряжением началось в декабре (25 кислева) 168 года до н.э. богослужение перед огромной статуей Зевса Олимпийского, установленной (15 кислева) на алтаре Иерусалимского храма».20
* * *
Открывая богослужения, Антиох лично заколол жертвенную свинью у алтаря Зевса… Многие иудеи, разумеется, даже не думали отказываться от религии предков и продолжали практиковать её втайне. Как уже сказано, вспыхнуло восстание Маккавеев. Силы были слишком не равны, и восстание поначалу имело вид партизанской войны. Восставшие укрывались в горах и пустынях и наносили партизанские удары. В 164 году, уже после смерти Антиоха IV, они заняли Иерусалим, затем были возобновлены и иудейские богослужения в храме. Было ли это победой восстания Маккавеев?
Дело в том, что восставшие заняли не весь Иерусалим, но в части его (а именно – в цитадели) оставался греческий гарнизон. Об этом, например, пишет Шюрер, подтверждая свой вывод целой страницей примечаний и ссылками на литературу – туда я и отсылаю интересующихся.21 Шюрер пишет: «Этот гарнизон, несмотря на все успехи Маккавеев, продолжал контролировать город и сохранять в нём власть сирийских царей. Лишь через 26 лет (142-141 до н.э.) Симон впервые взял штурмом цитадель и таким образом закрепил независимость Иудеи». 22
Что ж, как известно, после окончания той или иной войны или поединка почти всегда находятся желающие оспорить результаты и доказать, что выиграла на самом деле не та сторона, которую все считают победившей. Но вернемся к Антиоху Эпифану. Он продолжал проводить свою линию, и, кстати, возможно, то, что он не спешил всей силой подавить восстание Маккавеев, тоже могло иметь свой, скрытый, «аллегорический» смысл. (Как и первое ограбление Иерусалима, о чём я уже писал.)
Долго тянущееся восстание Маккавеев, возможно, было в интересах Антиоха IV, так как это был способ устрашения Рима.
Если первый разгром Иерусалима, как я уже говорил, имел целью запугать, главным образом, Египет («вот что может быть сделано с Александрией»), то затяжное восстание Маккавеев уже было способом предупредить Рим («вот в чём вы запутаетесь, если попробуете вторгнуться в пределы государства Селевкидов»).
…Антиох Эпифан продолжал «гонку вооружений», продолжал обмен символическими угрозами между руководимой им державой Селевкидов и Римской республикой…
* * *
Важную роль в этом противостоянии Антиоха с Римом сыграло представление, устроенное Антиохом в 166 до н.э. – чаще всего его называют спортивными играми, иногда – военным парадом. Как увидит читатель, это было и то, и другое, и ещё кое-что вдобавок.
Но вначале нужно вновь вернуться к характеристике общей обстановки тех лет. Рим торжествовал победу над Македонией и над всей греческой нацией. В битве при Пидне в 168 до н.э. сошлась прославленная македонская фаланга и римские легионы, и легионы победили, царь Персей был разгромлен. Как писал Страбон, «по словам Полибия, Павел разорил 70 городов эпирских после разгрома Персея и Македонского царства; города эти принадлежали большею частью молотам. Он же продал в рабство полтораста тысяч населения».23
Рим торжествовал; и многие римляне понимали, что победа была бы невозможна без раздробленности греков, без их несогласованности, а зачастую просто враждебности друг к другу. Именно насмешка над греческими усобицами и была основным смыслом представления, устроенного в Риме в то время и описываемого историками следующим образом:
«…Луций Анций, тоже римский военачальник, победитель иллирийцев, вел за собою пленного Генфия и детей его, а на играх, устроенных им в честь победы в Риме, дозволил себе забавнейшие шутки, как рассказывает Полибий в тридцатой книге, именно: он пригласил из Эллады знаменитейших артистов и, соорудив в цирке огромнейшие подмостки, вывел на них сначала всех флейтистов вместе. Это были беотиец Теодор Феопомп и лисимахиец Гермипп, – все знаменитости. Он поставил их на передней части сцены вместе с хором и велел играть всем разом. Лишь только музыканты начали играть, сопровождая игру приличествующими движениями, Луций послал сказать, что играют они дурно, и лучше сделают, если затеют состязание друг с другом. Музыканты были в недоумении. Тогда один из ликторов показал, как они должны выйти друг на друга и устроить подобие битвы. Быстро сообразив, чего от них хотят, флейтисты дозволили себе вольные движения, отвечавшие обычно их распущенности, и тем произвели на сцене величайшую сумятицу. Средние части хоров они обратили против крайних, а сами под дикую разноголосицу флейт то сходились, то расходились. Под звуки музыки топали ногами хористы и, приводя в сотрясение сцену, неслись на своих противников и снова отступали, оборотив тыл. А когда кто-то из хористов опоясался, внезапно отделившись от хора, и замахнулся как в кулачном бою на несущегося против него музыканта, зрители разразились восторженными рукоплесканиями и криками одобрения. Правильная битва ещё продолжалась, когда два плясуна под звуки флейт введены были в орхестру, а четыре кулачных бойца взошли на сцену с трубачами и горнистами. Зрелище всех этих состязаний получилось неописуемое. Что касается трагических актеров, прибавляет Полибий, то мои слова покажутся глумлением над читателем, если я вздумаю что-нибудь передать о них».24
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе