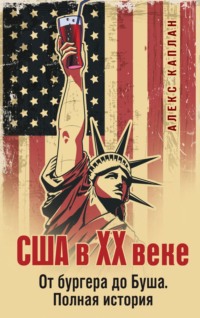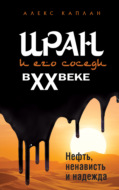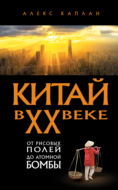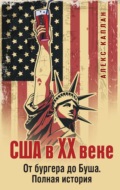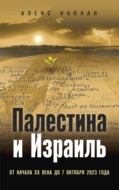Читать книгу: «США в XX веке. От бургера до Буша. Полная история», страница 3

Большой каньон
Помимо всего прочего, Теодор Рузвельт являлся большим любителем и ценителем природы. Он стяжал славу заядлого охотника, грамотного натуралиста и страстного путешественника. В истории Соединенных Штатов он также известен как первый политик, озаботившийся вопросом защиты окружающей среды, и на этом поприще он достиг впечатляющих результатов. Может показаться, что тогда вопрос этот еще не набрал актуальности, ведь каких-то полвека назад весь континент представлял собой абсолютно дикую, заселенную лишь коренными жителями местность, в отдаленные уголки еще не ступала нога человека, а обширные территории Дикого Запада только предстояло освоить. Покоряя эти необъятные просторы, люди не гнушались ничем. Так за каких-то полвека в США уничтожили практически все поголовье бизонов. Эти величественные животные в начале XIX века являлись символом Америки, таким же как индейцы или Ниагарский водопад. Никто толком не мог посчитать, сколько их тогда мирно паслось на широких просторах прерий, но речь шла о десятках миллионов животных – бизонов в Америке проживало больше, чем людей. К концу века их на континенте практически не осталось – под защитой государства уцелело лишь несколько сот самых больших парнокопытных, водившихся на североамериканском материке. Осуществить массовое убийство таких крупных и совершенно безвредных животных за малый промежуток времени даже по тем временам было делом непростым и абсолютно варварским. Железнодорожники отстреливали бизонов тысячами, чтобы они не мешали движению поездов. Ковбои убивали их исключительно ради шкур, из которых изготавливали одеяла. Затем к убийству бизонов приобщились индейцы, узнав, что белые платят хорошие деньги за их шкуры. Однако исключительным образчиком дикости стали пассажиры поездов, путешествовавшие по бескрайним просторам Америки. Они стреляли в бедных животных из окон вагонов исключительно забавы ради – попал, не попал. Поезд не спеша кряхтел на пути из Нью-Йорка в Сан-Франциско, и скучающие граждане, имевшие при себе револьверы или даже винчестеры, не упускали случая продемонстрировать попутчикам мастерство, расстреливая мирно пасшихся вдоль железнодорожных путей бизонов. Такие вот тогда были в стране нравы. Под угрозой оказались даже американские леса – и это на совсем еще девственном материке. Сотни тысяч лесорубов выискивали самые ценные породы деревьев. И если никому не было дела до бессовестных монополистов в сталелитейной или нефтяной промышленности, то что уж говорить о дровосеках в глухих дебрях, безжалостно рубивших национальное достояние под корень. Зачастую лес уничтожали даже не древесины ради, а лишь для расчистки земель под сельскохозяйственные угодья. К началу XX века на территории США вырубили почти половину лесов, еще столетие назад стоявших в девственной неприкосновенности, а ценные породы деревьев и вовсе могли повторить судьбу американских бизонов. Президент Рузвельт занялся вопросом защиты окружающей среды с куда большим рвением, чем устанавливал контроль над монополистами. Природу, казалось, он любил больше, чем людей. Один законодательный акт следовал за другим, и миллионы акров американской земли оказывались заповедной территорией, строго охраняемой государством. Величайшие природные достопримечательности США – Большой каньон и Йосемитский национальный парк – сохранили свою первозданную уникальность благодаря Теодору Рузвельту, великому ценителю прекрасного.
Помимо всего прочего, Теодор Рузвельт известен еще и тем, что стал первым американским президентом, серьезно заявившим о себе на мировой политической арене. Президент Мак-Кинли в 1898 году с большой неохотой и не самым большим умением начал войну с Испанией – больше под давлением сложившихся обстоятельств, чем по собственному желанию. Теодор Рузвельт в корне изменил направление внешней политики Соединенных Штатов – герой войны с Испанией, он видел США исключительно в роли доминирующего игрока на мировой политической сцене. Поскольку слова президента с делом не расходились, он активно использовал любую возможность для продвижения американских интересов. Первой крупной победой на этом поприще стало поражение французов в Панаме, где они много лет безуспешно пытались построить канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Начатый французами еще в 1881 году проект терпел одну неудачу за другой, чему виной были как неточности в расчетах, так и финансовые махинации, приведшие впоследствии к громкому скандалу и долгому разбирательству. Помимо прочего, природные условия в зоне строительства канала оказались нестерпимо тяжелыми – рабочие тысячами умирали от желтой лихорадки, малярии и иных тропических болезней. Идея строительства Панамского канала принадлежала знаменитому французскому дипломату Фердинанду де Лессепсу, к тому времени уже прославившемуся строительством Суэцкого канала в Египте. Окрыленные колоссальным финансовым успехом, французы решили осуществить еще один столь же масштабный проект – на этот раз в Америке. Протяженность Панамского канала была вдвое меньше канала Суэцкого, и строителям казалось, что дело пойдет легко, в особенности учитывая тот факт, что у французов, единственных в мире, имелся уникальный опыт претворения в жизнь столь сложного проекта. Однако они жестоко ошиблись. К началу XX века на месте некогда грандиозного строительства остались лишь несколько сот рабочих, следивших за сохранностью вкопанного в землю оборудования, включая уникальные и крайне дорогие на то время экскаваторы. В попытке спасти лицо и вернуть хоть малую часть колоссальных средств, потраченных на погибшую стройку века, французы стали искать покупателя на недостроенный канал. Выбор был невелик, чему виной стала пресловутая Доктрина Монро. Президент США Монро еще в 1823 году – вскоре после ухода Испании и Португалии из Южной Америки – заявил, что Соединенные Штаты не потерпят вмешательства европейских государств в дела Южной и Центральной Америки. Однако Франция, начавшая строительство Панамского канала в 1881 году в расцвете своего колониального могущества, на тот момент была не по зубам Соединенным Штатам, опасавшимся претворить в жизнь Доктрину Монро. Но уже в начале XX века ситуация кардинально поменялась, и у Парижа фактически не оставалось иного выхода, кроме как продать проект Панамского канала американцам. Вашингтон не преминул воспользоваться таким положением вещей, и заявленная французами стоимость проекта быстро опустилась со 100 миллионов долларов, и без того не окупавших всех расходов, до ничтожных 40 миллионов – на этой финансовой ноте стороны ударили по рукам. С этого момента в дело строительства канала вмешались политики – сначала колумбийские, так как Панама являлась провинцией Колумбии, а затем и американские. Правительство в Боготе при поддержке местного парламента обозначило свои права на канал, неожиданно отказав американцам в приобретении участка земли для продолжения грандиозной стройки. Противоречия носили исключительно финансовый характер – Богота намеревалась продать свою территорию как можно дороже, но столь естественное стремление вызвало приступ негодования у Теодора Рузвельта, который часто выходил из себя, встречая на пути неожиданные препятствия. Он счел действия Колумбии мелким шантажом, в чем, вероятно, был прав, однако ответ его оказался несоизмерим по масштабам с мелкими финансовыми шалостями Боготы. Теодор Рузвельт ворвался на международную арену, размахивая «большой военно-морской дубинкой». При этом фраза про дубинку была его любимой. Он говорил, что корни выражения берут начало то ли в западноафриканском, то ли в южноафриканском фольклоре, но хорошо знавшие президента современники склонялись к мысли, что он его придумал сам, а про африканские корни упомянул, дабы подчеркнуть свои начитанность и широкий кругозор. Звучала фраза эта так: «Говори тихо, но держи в руках большую дубину – и ты далеко пойдешь». «Идеология большой дубины» – так стали называть первый внешнеполитический курс, который взял президент Рузвельт на международной арене. В Панаме, расположенной на самом колумбийском отшибе, вели активную деятельность некие повстанцы, выступавшие против центрального правительства. Тогда подобные группировки существовали во всех уголках Южной Америки, но судьба их могла пойти резко в гору только в том случае, если они могли оказать услугу кому-то из сильных мира сего. Одним из командиров панамских повстанцев был французский авантюрист, одновременно являвшийся акционером французского предприятия, владевшего недостроенным каналом. Естественно, он был лично заинтересован в успешном завершении сделки с американским правительством и намеревался во что бы то ни стало получить свои деньги. Он отправился в Вашингтон, где у него состоялась встреча с президентом США. Вскоре в Панаме разгорелось всенародное восстание против колумбийских узурпаторов, победу в котором всего за 48 часов одержали повстанцы. Залогом столь успешного завершения панамской революции послужил американский военно-морской флот, заблокировавший побережье, – Колумбия могла доставить свои войска в Панаму исключительно по морю. Американцы этому помешали. Правительство нового государства Панама немедленно подписало документы, разрешавшие США начать строительство канала. Однако страна Панама получилась не совсем независимой – де-юре до 1939 года она являлась протекторатом США, а затем обрела независимость, но де-факто так и осталась американским протекторатом по сегодняшний день.

Президент Рузвельт сидит за рулем экскаватора на строительстве Панамского канала. 1906 год
Строительство Панамского канала сыграло важную роль в деле продвижения Соединенных Штатов на мировой политической сцене. В результате победы над Испанией в 1898 году Америка получила контроль над Карибским бассейном, что стало ключом к стратегическому выходу в Атлантический океан. После этого США заняли место одной из ведущих держав в Атлантике, где их достойным соперником могла выступать только дружественная Великобритания. Между тем Соединенные Штаты имели два побережья – Восточное и Западное – и омывались двумя океанами. Восточное побережье стало колыбелью американской цивилизации, а потому было куда более освоенным, нежели побережье Западное. Атлантический океан, омывающий это самое Восточное побережье, в силу исторических и географических причин можно назвать внутренним морем США, ведь именно по нему суда из Англии попадали сначала в североамериканские колонии, а позже в обретшие независимость США. Дела на Западном побережье, омываемом Тихим океаном, в начале века обстояли иначе. Освоение Дикого Запада к тому времени только завершилось, и американское присутствие на Западном побережье было все еще довольно слабым. Сердце страны билось на Востоке, а на Западе простирались почти неосвоенные земли, оттого и американское присутствие на Тихом океане было еще в зачаточном состоянии. И все же США овладели Гавайскими островами, a по итогам войны с Испанией в 1898 году под американский протекторат попали Филиппины. Панамский канал мог самым радикальным образом изменить баланс военно-морских сил в мире. Дело в том, что большая часть американского флота базировалась на Восточном побережье – то есть ВМС США оставались флотом атлантическим. При этом протяженность морского пути от Нью-Йорка до Сан-Франциско без Панамского канала была равна 22 тысячам километров, в то время как строительство Панамского канала давало возможность сократить расстояние до 8 тысяч километров, а также обеспечивало маневренность флота, который при необходимости мог свободно курсировать между Атлантическим и Тихим океанами. Таким образом, Соединенные Штаты обретали уникальную возможность занять господствующую позицию сразу на двух океанах. В политическом и коммерческом плане это открывало путь в Азию – и в первую очередь в Китай, на тот момент остававшийся последним крупным государством, все еще не поделенным между колониальными державами. Азиатские рынки на протяжении многих веков представляли огромный интерес для западных держав, и для их освоения США требовалось покорить Тихий океан.
Очередной возможностью укрепить свои позиции на мировой арене стала для США Русско-японская война 1904–1905 годов. Если в Атлантике у США имелся лишь один достойный соперник – Великобритания, давно являвшаяся союзным государством, то в Тихом океане таких соперников насчитывалось два, при этом оба не проявляли дружественных чувств. Речь идет о Японии и России, которые, по счастливому для США стечению обстоятельств, в феврале 1904 года вступили друг с другом в жестокое противостояние. Для обеих стран война оказалась довольно изнурительной, и, хотя Японии удалось одержать победу, ее потери в живой силе оказались выше, чем у соперника. Россия, на то время значительно превосходившая Японию в военном плане, потерпела поражение по ряду нелепых случайностей, главной из которых стала начавшаяся в стране революция, приведшая к тому, что в 1905 году русских войск в Польше дислоцировалось в три раза больше, чем на японском фронте. Волнениями в большей или меньшей степени были охвачены многие города и регионы огромного государства, что грозило поставить крест на царской власти. Как бы то ни было, но для США такой расклад сил в Восточной Азии оказался крайне удачным. Россия не только потерпела позорное поражение, но главное – лишилась флота и своего основного форпоста на Тихом океане – военно-морской базы Порт-Артур. Для США это означало, что одним соперником на Тихом океане стало меньше. Что же касается Японии, то за свою победу она заплатила очень высокую цену и вышла из войны ослабленной. К тому же небольшой остров с населением в 40 миллионов человек без каких-либо природных ресурсов представлялся США менее опасным конкурентом, нежели огромная империя с населением в 150 миллионов человек. Исходя из этих соображений, уже в самом начале Русско-японской войны президент Рузвельт занял откровенно прояпонскую позицию. Несмотря на свои военные успехи, Япония первой приступила к изысканию возможностей для начала мирных переговоров – война оказалась слишком значительной нагрузкой для ее экономики. Однако начать переговоры оказалось делом крайне непростым, так как ни одна из стран не желала терять лицо на мировой политической арене, запрашивая мира первой. Нужен был подходящий посредник – и тут в игру вступили США, чье посредничество на тот момент выглядело наиболее желательным и нейтральным с точки зрения обеих сторон. Для Рузвельта подобное дипломатическое вмешательство предоставляло отличную возможность эффектно выйти на мировую политическую сцену. На определенном этапе Токио уже согласился на переговоры, но Петербург продолжал упорствовать. В царском военном окружении никак не могли поверить, что потерпели поражение от азиатского государства, и считали неудачное положение дел на фронте состоянием временным, которое можно было изменить, перебросив достаточное количество войск на Дальний Восток. Вскоре, однако, случилась Цусима – и весь цвет Российского флота ушел на дно Японского моря. Через два дня царь дал согласие на начало мирных переговоров, местом проведения которых был выбран американский город Портсмут. Первая встреча делегаций России и Японии состоялась на президентской яхте за завтраком, где Рузвельт произнес длинную миролюбивую речь. Несмотря на предпринятые США усилия, переговоры шли с большими трудностями, ведь обе стороны отличались крайней несговорчивостью и завидным упрямством. Не раз весь процесс оказывался под угрозой срыва, но президент США Теодор Рузвельт неустанно подталкивал стороны к нахождению компромисса. Таким образом, можно сказать, что без его посредничества достичь урегулирования конфликта мирным путем было бы практически невозможно.
Усилия США принесли результат через три недели. В торжественной обстановке стороны подписали Портсмутский мирный договор – война, ознаменовавшая начало нового века, завершилась. За свое участие в мирных переговорах президент США Теодор Рузвельт получил Нобелевскую премию мира 1906 года, став таким образом первым американским гражданином, удостоенным новой престижной международной награды. Участие Рузвельта в решении конфликта на Дальнем Востоке увенчалось успехом и сделало его политической фигурой мирового масштаба. Одновременно с этим положение Соединенных Штатов в Тихоокеанском бассейне, равно как и в Восточной Азии, значительно укрепилось – один из двух противников оказался повержен, а другой – сильно ослаблен. Лучшего результата нельзя было и желать, но дальновидный Теодор Рузвельт уже тогда увидел в Японии потенциальную угрозу американским интересам на Тихом океане, о чем и предупредил последующее поколение политиков.

Почтовая открытка 1905 года, на которой изображены русский царь, японский император и президент Рузвельт в центре. Надпись сверху – Портсмутская драма
К 1907 году правление Рузвельта достигло зенита популярности. Он был признанным на международной арене политическим авторитетом, а всенародная любовь внутри страны казалась неколебимой. С 1904 по 1907 год в Соединенных Штатах происходил неудержимый экономический рост, и благосостояние американских граждан неуклонно увеличивалось. Президент пребывал в приподнятом состоянии духа и все чаще предавался своим любимым занятиям – охоте и природоохранным мероприятиям, открывая новые национальные парки и заповедники. Осенью 1907 года Рузвельт отправился на охоту в Луизиану. Пока он стрелял там белок и медведей, на фондовой бирже в Нью-Йорке разразился кризис, и началась всеобщая паника. Крушение фондовой биржи в Соединенных Штатах всегда означало экономическую катастрофу – депрессию или рецессию, что зависело лишь от глубины падения биржи. Журналисты, примчавшиеся в Луизиану, чтобы взять у президента интервью, были обескуражены его реакцией. Казалось, он даже не слышал о том, что происходило на бирже. Рузвельт с удовольствием шутил и рассказывал о своих охотничьих приключениях, перечисляя длинный список подстреленных животных, съеденных все до единого, кроме дикого енота. Однако никто не смеялся – журналисты были напуганы тем, что страна очутилась на грани катастрофы, а президент знать об этом ничего не желал. И действительно, Рузвельт не очень любил заниматься экономикой. Фондовую биржу он просто ненавидел, поскольку считал ее грязным казино, где кучка мошенников проворачивала бесчестные аферы. В этом он, вероятно, был прав, но другой финансовой системы у Соединенных Штатов на то время просто не существовало. События в Нью-Йорке развивались с невероятной быстротой. Акции на бирже потеряли почти половину своей стоимости. Затем лопнул один из крупнейших нью-йоркских трестов, после чего по всей стране начались набеги на банки – люди спешили забрать свои сбережения. Учетные ставки мгновенно взлетели до небес, а стоимость капитала стала недосягаемой. Не выдержав турбулентности и массового наплыва вкладчиков, желавших получить свои деньги, один за другим начали лопаться коммерческие банки. Возникли проблемы на промышленных предприятиях. В экономике началась рецессия, которая грозила обернуться полномасштабной и продолжительной депрессией. Президент тем временем беспомощно надувал щеки, делая вид, что ничего особенного в стране не происходит. Удивительным образом страну в те страшные октябрьские дни спас главный банкир США Джон Пирпонт Морган – тот самый, которого Рузвельт в начале своего политического пути сделал показательным козлом отпущения в деле борьбы с олигархами. Морган из своего кармана влил крупные финансовые средства в биржу и убедил ряд влиятельных банкиров сделать то же самое. Совместными усилиями им удалось предотвратить полный крах американской финансовой системы. Падение на бирже приостановилось, и стоимость акций постепенно стала подниматься. Банкам удалось стабилизировать свою работу, а стоимость капитала снизилась. Морган и группа выступавших с ним заодно банкиров оказались героями дня, а вот репутация Рузвельта сильно пошатнулась. С этого момента и до окончания срока правления судьба президента катилась только по наклонной вниз. Дело было не только в том, как неудачно он справился с финансовым кризисом, но еще и в том, что многие политики, включая членов Республиканской партии, недолюбливали дерзкого ковбоя и все эти годы его боялись. Теперь же, в конце 1907 года, Рузвельт стал «хромой уткой» – так в Америке называют президента, досиживающего свое время на должности и не имеющего шанса остаться в Белом доме на следующий срок. Дав злополучное обещание не баллотироваться впредь на выборах, Рузвельт пожинал горькие политические плоды своих ошибок, отвергнутый одной из самых жестоких элит на планете. И кто только теперь не пытался пнуть его побольнее, уже не опасаясь быть сурово наказанным за такую дерзость. Обиженные сенаторы наперебой упрекали Теодора Рузвельта в авторитарном стиле правления, в необузданной любви к абсолютной власти, в попрании демократических принципов и основ государственности и т. д. и т. п. Значительная доля правды в их словах все же имелась. Теодор Рузвельт действительно был невероятно властолюбивым политическим деятелем, однако, с другой стороны, он стал тем человеком, кто заставил уважать пост президента США как внутри страны, так и на международной арене. Он укрепил фундамент американского государства, что оказало крайне благотворное влияние на уровень жизни в стране. Хоть и не всегда либеральным путем, Рузвельт внес огромный вклад в развитие страны, возглавив список президентов – выходцев из прогрессивной среды. Последний год в Белом доме Рузвельт провел, яростно сражаясь в конгрессе co своими многочисленными врагами. В своем мировоззрении он дал серьезный крен влево и пытался наверстать упущенное, внося на рассмотрение один законопроект за другим, – и каждый последующий был левее предыдущего. Закон о восьмичасовом рабочем дне, о запрете детского труда, о рабочей компенсации. Если в начале своего президентского пути Рузвельт был прогрессивистом умеренным, считавшим, что существовавшую на тот момент систему требовалось реформировать, а не громить, то в последний год на посту он стал прогрессивистом радикальным. Он говорил о вещах, уместных скорее для американских анархистов и социалистов, нежели для руководства Республиканской партии, к которому он и принадлежал. Требование ввести в стране восьмичасовый рабочий день уже двадцать лет являлось главным лозунгом именно левых сил, но никак не республиканцев. Рузвельт между тем заявлял, что развитие прогрессивного движения радикальным способом является лучшим лекарством от назревающей в стране революции. Однако попытки президента внести в конце своей политической карьеры особый вклад в прогрессивное дело разбились в конгрессе о скалу непонимания. Все выдвинутые им законопроекты были отклонены, что только добавило горечи в политический закат одного из величайших президентов США. В 1941 году на горе Рашмор в штате Южная Дакота открыли огромный барельеф, работа над которым велась долгих 16 лет. В гранитной скале были высечены гигантские скульптурные портреты четырех величайших президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и… Теодора Рузвельта.

Паника на бирже 1907 года. Уолл-стрит
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе