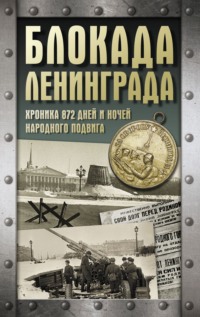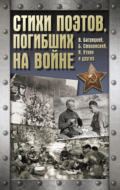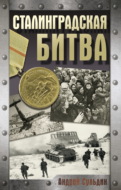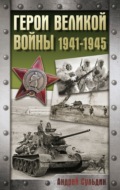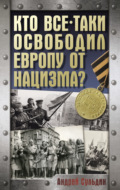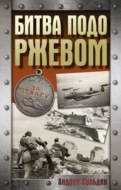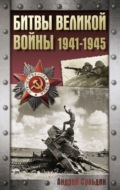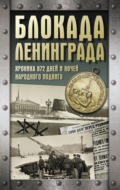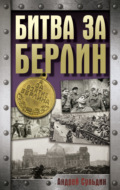Читать книгу: «Блокада Ленинграда. Хроника 872 дней и ночей народного подвига», страница 4
13 ноября
Утром у деревни Морозово политрук Николай Трофимович Гатальский поднял в контратаку свое подразделение, отбив очередное наступление немцев… Когда бой утих, на снегу, в окружении черневших трупов фашистов, бойцы нашли погибшего политрука. Похоронен на Октябрьском военном кладбище в Волхове. Накануне он написал письмо родным:
«г. Волхов
Здравствуй, моя дорогая жена Станислава, дочь Валенька и мама!
Простите, что я плохо пишу: пишу на коленях, на клочке бумаги. Спешу сообщить, что я жив, скоро вступаем в бой.
Может быть, это письмо будет и последним, мои дорогие. Дорогая жена, смотри дочь и досмотри мою мать. Если от меня больше весточки не получишь, то знай, что я отдал свою жизнь честно за вас и за свою любимую Родину.
Будьте счастливы – ваш муж и отец».
14 ноября
В разрушенном до основания пятиэтажном доме (набережная Фонтанки, 113) чудом уцелела одна стена. Она накренилась и угрожала обвалом. Но из-под обломков был слышен голос ребенка. Чтобы спасти малыша, бойцы Гусев, Гордин, Привалов и Козлов, рискуя жизнью, ценой нечеловеческих усилий сделали восьмиметровый лаз. Потом им пришлось углубиться на два метра вниз. Когда задыхавшегося мальчика спасли, он сказал, что ниже находятся его мать и сестренка. Их тоже удалось спасти.
В Финском заливе на мине подорвалась советская подводная лодка Л-2. Погиб почти весь экипаж, в том числе и лейтенант, штурман Алексей Алексеевич Лебедев (1912–1941), выпускник Ленинградского военно-морского училища. Он любил поэзию силы, действия, стремительности и дерзания, его стихи отмечены энергией выражения и обостренным чувством матросского долга.
Мы попрощаемся в Кронштадте
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду серый катер,
Раскалывая рябь винтом,
И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас —
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать, —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.
15 ноября
Прекратилась навигация на Ладоге. С первых дней ноября в Ленинграде и области наступили холода. Зима установилась ранняя, снежная и морозная. Полузамерзшее Ладожское озеро стало непригодным для судоходства, но лед еще не был настолько крепок, чтобы пустить по нему транспорт. С 12 сентября по конец навигации в блокадный город было доставлено 24 тыс. тонн зерна, муки и крупы, 1130 тонн мясных и молочных продуктов, значительное количество боеприпасов, горючего. Доставленные 25 с небольшим тысяч тонн продовольствия растянули на 20 дней. Подходило к концу топливо в городе; перестал ходить городской транспорт, рабочим и служащим приходилось идти до места работы пешком несколько километров по глубокому снегу. Вечером они едва добирались до дома. Рабочий завода имени Кулакова Л.М. Белоусов вспоминал: «Сбрасываю одежду, ложусь, вытянув тяжелые ноги. Несмотря на холод, сон налетает мгновенно, но беспрестанно прерывается. Утром едва-едва поднимаюсь. Ночь не укрепила силы. На работу прихожу усталый и сразу к токарному станку. Нужна сила, а где ее взять? Питание становится все хуже и хуже». К голоду прибавился и холод. Жилые дома подтапливались чуть-чуть – так, чтобы не лопнули трубы. Самым ходовым товаром стали буржуйки: на них готовили (бытовой газ в квартирах уже был отключен), подсушивали мокрый, как глина, блокадный хлеб, сушили одежду. У многих еще были дрова, но некоторые уже начали отправлять в буржуйки книги, мебель, паркет. Буржуйка мгновенно раскалялась докрасна, но так же быстро и остывала. Спали все под одеялами в пальто, шубах. Впереди была суровая и страшная зима.
16 ноября
Из дневника 16-летней ленинградки Елены Мухиной:
«150 грамм хлеба нам явно не хватает… самочувствие неважное. Все время внутри что-то сосет… Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю кило черного хлеба, кило пряников, пол-литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю, потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала…»
20 ноября
В Ленинграде в пятый раз были снижены нормы выдачи продовольствия по карточкам: по карточке рабочего стали отпускать 150 г хлеба в день, по карточкам служащего и иждивенца – 125. Были снижены продовольственные нормы и для войск, защищавших Ленинград: боец первой линии стал получать 500 г хлеба в день, боец тыловых частей – 300.
Ленинград вступал в суровую и трагическую зиму 1941–1942 годов. Про этот период жизни Ленинграда Анна Ахматова написала:
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.
И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.
Начался розыгрыш первенства Ленинграда по шахматам. Впервые после длительного перерыва возобновились оперные спектакли. В Госнардоме дан «Евгений Онегин».
В городе резко возросло количество краж, убийств с целью завладения продуктовыми карточками. Начались налеты на хлебные фургоны и булочные. В пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера. Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень.
Строки из писем, изъятых военной цензурой:
«…Наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и покойников. Трамваи давно не ходят, света нет, топлива нет, вода замерзла, уборные не работают. Самое главное – мучает голод».
«…Мы превратились в стаю голодных зверей. Идешь по улице, встречаешь людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Мы уже привыкли к таким картинам и не обращаем внимания, потому что сегодня они умерли, а завтра я».
«…Ленинград стал моргом, улицы стали проспектами мертвых. В каждом доме в подвале склад мертвецов. По улицам вереницы покойников».
Деньги были, но ничего не стоили. Ничто не имело цены: ни драгоценности, ни картины, ни антиквариат. Только хлеб и водка – хлеб чуть дороже. В булочные, где выдавались по карточкам дневные нормы, стояли огромные очереди. Иногда между голодными людьми происходили драки – если хватало сил. Кто-то умудрялся вырвать у полумертвой старушки хлебный талон, кто-то мародерствовал по квартирам. Но большинство ленинградцев честно работали и умирали на улицах и рабочих местах, давая выжить другим.
25-летие встретил русский поэт Михаил Александрович Дудин (1916–1994), участник советско-финляндской и Отечественной войн, ставший затем Героем Социалистического Труда.
22 ноября
Начала функционировать ледовая трасса – «Дорога жизни» – на Ладожском озере. Лед был хрупок; двухтонные грузовики везли по 2–3 мешка, тем не менее несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикреплять сани, что позволило уменьшить давление на лед и увеличить количество груза. Помогли и морозы – если 25 ноября в город завезли 70 тонн продовольствия, то через месяц уже 800 тонн. За это время затонуло 40 грузовиков. Ледовая дорога действовала до 24 апреля 1942 года. Всего по ней в Ленинград было доставлено 360 тыс. тонн грузов, из которых почти 80 % составляло продовольствие. Из осажденного города по Ладоге были эвакуированы в тыл сотни тысяч человек и промышленное оборудование.
Перерезать «Дорогу жизни» немцы стремились постоянно. В первые недели работы трассы немецкие летчики безнаказанно расстреливали с бреющего полета автомашины и бомбами разбивали лед на трассе. Для прикрытия «Дороги» жизни командование Ленинградского фронта установило прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пулеметы, а также привлекло истребительную авиацию.
«Дорога жизни» была под особым контролем, но и на ней не обходилось без преступлений. Водители ухитрялись сворачивать с пути, расшивали мешки с продуктами, отсыпали по несколько килограммов и вновь зашивали. На пунктах приема хищения не обнаруживали – мешки принимали не по весу, а по количеству. Но если факт кражи доказывался, то водитель немедленно представал перед военным трибуналом, который обычно выносил смертный приговор.
26 ноября
После встречных боев, проходивших с переменным успехом, инициатива действий под жизненно необходимым Ленинграду Тихвином перешла к советским войскам. 54-я армия пошла на освобождение города.
Газета «Правда» опубликовала сообщение Совинформбюро о военных потерях. Утверждалось, что за 5 месяцев войны германские войска потеряли 6 миллионов убитыми, ранеными и пленными, а Красная армия – 490 тыс. убитыми, 1112 тыс. ранеными и 500 тыс. пропавшими без вести (всего 2122 тыс. человек). В плен, судя по сообщению, не попал ни один красноармеец. По утверждению Совинформбюро, немцы также на Восточном фронте потеряли более 15 тыс. танков, около 13 тыс. самолетов, до 19 тыс. орудий; наши же потери составили 7900 танков, 6400 самолетов, 12 900 орудий. Совинформбюро попутно изобличало германские «фальшивые и смехотворные данные» о советских потерях: «Вот эти нелепые данные. За период с 22 июня по 20 ноября немецкие войска якобы взяли в плен 3 725 600 пленных, разбили 389 большевистских дивизий. Советские войска потеряли якобы 8 миллионов солдат, 22 тысячи танков, 27 тысяч орудий, 15 454 самолета, большое количество военных и торговых кораблей». И та и другая сторона завысила потери противника и занизила свои потери. Но данные немцев были ближе к истинному положению вещей.
Фугасная бомба разрушила здание общежития студентов ЛГУ. Убито 52 человека, 36 получили тяжелые ранения.
29 ноября
Советские войска отбросили противника в районе города Волхов к югу от железной дороги Волхов – Тихвин.
Солдаты первой линии Ленинградского фронта начали получать в сутки 300 г хлеба и 100 г сухарей, солдаты второй линии – 150 г хлеба и 75 г сухарей.
35-летие встретил будущий классик советского документального кинематографа, режиссер, оператор, сценарист и педагог Роман Лазаревич Кармен (Корман, 1906–1978), в годы Великой Отечественной руководивший группой фронтовых кинооператоров, а после войны возглавлявший команду операторов, фиксировавших на пленку Нюрнбергский процесс. В 1975 году выпустил главную работу своей жизни – 20-серийный фильм «Великая Отечественная», который триумфально прошел по телеканалам США и Европы под названием «Неизвестная война». Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
30 ноября
С 4 сентября по 30 ноября немцы с захваченного ими плацдарма в районе Стрельны, Урицка, Пушкина и Дудегофа подвергли Ленинград 272 обстрелам из батарей тяжелой и сверхтяжелой артиллерии. На многих домах города были вывешены таблички: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Блокадники называли обстрелы «Пронеси, господи». В одну из ноябрьских ночей с Аничкова моста сняли скульптурные группы П.К. Клодта и зарыли их в саду Аничкова дворца. На пьедестале одной из конных групп, где сохранились сколы от осколков снарядов и бомб, была после войны установлена мемориальная доска. В ноябре, когда из-за отсутствия электроэнергии не работали газодобывающие установки, резко сократилось количество аэростатных постов ПВО. И хотя о тросы аэростатов разбилось крайне незначительное число немецких самолетов, баллоны мешали немцам пикировать, затрудняли им прицельное бомбометание, оказывали психологическое воздействие как на немецких летчиков, так и на ленинградцев.
Ленинградцы стали умирать от голода уже после четвертого (13 ноября) снижения продовольственных норм. Всего в ноябре 1941 года в блокадном городе от голода умерли 11 тыс. человек. Первыми гибли мужчины преклонных лет. Они, в отличие от женщин того же возраста, оказались менее стойкими к голоду. Однако вскоре голод уравнял всех. В декабре смерть косила людей независимо от пола и возраста.
В советской прессе, разумеется, не сообщалось об истинном положении дел в Ленинграде, не писали даже о том, что город-то – окружен. За разговоры о ленинградском голоде давали срок как за распространение панических слухов. Официально о факте блокады сообщили только в январе 1944 года, когда она была прорвана. «Правда» 26 ноября 1941 года безмятежно писала: «Число трудовых подвигов ленинградцев трудно пересчитать… На N-ском заводе более 100 человек стало за последнее время работать на нескольких станках и совмещать профессии. На другом предприятии ученик ремесленного училища Андреев за месяц работы обогнал старших товарищей, стал давать по три нормы. Молодой коммунист станочник Соколов выполнил недавно свою норму на 3,5 тысячи %…»
Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов. Замерзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды – теперь ее можно было брать только из Невы. Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в домах погас свет, внутренние стены квартир покрылись изморозью. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. Но подобного топлива хватило ненадолго. К декабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом, закрывшим первые этажи домов.
1 декабря
С 23 ноября по 1 декабря (за 9 дней) в блокадный Ленинград по «Дороге жизни» удалось завезти всего 800 тонн муки – меньше 2-дневного расхода. При этом затонуло 40 грузовиков. 1 декабря хлеба в городе осталось на 6 дней. Сокращать далее нормы было невозможно – люди умирали от голода. Ленинградцы понимали, что продовольствия в городе мало, но об истинном положении вещей знали всего 7 человек из руководства города и фронта.
Эпидемий в городе нет, но смертность колоссальная. Стали рядовыми случаи открытого грабежа продовольственных карточек и хлеба. В булочных люди хватают хлеб с весов, с прилавка и даже не бегут, а просто на месте его пожирают. На улице рискованно нести хлеб открыто в руках.
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Николай Тихонов
45-летие встретил великий русский полководец Георгий (Егор) Константинович Жуков (1896–1974), ставший Маршалом Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза. Он был разным и далеко неоднозначным человеком. Мог перед строем расстрелять нескольких трусов и паникеров, а мог перед тем же строем наградить храбреца, сняв с мундира свой орден. Перед большим внезапным наступлением, когда не было времени на разминирование и нельзя было привлекать внимание вылазками саперов, Жуков приказывал пускать по минным полям пехоту: солдаты, подрываясь, своими телами указывали, где есть проход. Затем уже шли танки. Но авторитет был колоссальный: если на фронт прибывал Жуков, все оживлялись: предстоит наступление, и наступление победоносное. Жуков – единственный из военачальников, который осмеливался возражать Сталину и отстаивать свою точку зрения. Сталин снял его за это 30 июля 1941-го с поста начальника Генштаба, но после того, как Жуков провел первую удачную в Великой Отечественной войне и стратегически важную операцию по ликвидации Ельнинского выступа (в сентябре), стал бросать его на спасение самых уязвимых участков фронта. В то же время Жуков вывез из поверженной им Германии несколько вагонов трофеев (194 предмета мебели, 323 шкурки ценных мехов, 44 ковра и гобелена, 20 уникальных охотничьих ружей, 4000 метров тканей, 713 предметов столового серебра, 820 предметов столовой и чайной посуды, 60 музейных картин и т. д. и т. п.), что стало поводом для Сталина, сняв его с постов, услать за Урал. Жуков мог в записке Жданову написать, что вещи куплены им для оформления Домов офицеров, а остальное подарено друзьями. Он мог в период массовых репрессий горячо «поддерживать линию партии» и подсказывать имена «недобитых врагов», а мог и вступиться за невинно арестованного. Но ничто не способно умалить роль его личности в советской истории.
2 декабря
Советские войска оставили базу Ханко. 9 конвоев сумели эвакуировать в Ленинград и Кронштадт более 23 тыс. человек, вооружение, продовольствие.
Эта сложнейшая операция проведена четко и организованно. Но не обошлось без жертв. Больше всего их было на турбоэлектроходе «И. Сталин», подорвавшемся на трех минах. Из 5589 человек, находившихся на судне, спасти удалось только 1740.
3 декабря
Войска 54-й армии Ленинградского фронта перешли в наступление в районе Войбокало, что западнее города Волхов, и потеснили противника в южном направлении.
5 декабря
Ольга Берггольц написала стихотворение «Разговор с соседкой»:
…Дарья Власьевна, еще немного,
день придет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.
И такой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна…
Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино…
Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть – Россия.
Стой же и мужайся, как она!
6 декабря
Хорошие новости, как дополнительная пайка хлеба, вселяют надежду. В этот день в контрнаступление под Москвой (рубеж западнее Свердлова – Дмитров – Красная Поляна – река Нара) перешли войска Западного фронта – всего 100 дивизий. Фронт контрнаступления составлял уже 900 км – от Калинина на севере и до Ельца на юге.
Многим ленинградцам разрешили на свой страх и риск выбираться из города по льду Ладожского озера. Но до 22 января такая эвакуация шла неорганизованно: тысячи людей тащились через озеро пешком, и многие из них умерли, не дойдя до его южного берега.
Финляндия объявила недействительным договор с СССР 1940 года. 30 ноября 1939 года СССР напал на Финляндию. Через 3 месяца, путем больших потерь, сопротивление Финляндии было сломлено, и был подписан мирный договор, по которому к СССР отходил весь Карельский перешеек с Выборгом и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье Ладожского озера и еще некоторые территории. Финляндия выступила на стороне Гитлера в надежде вернуть утраченные земли. В ожидании решительной и молниеносной победы над СССР в финскую армию было мобилизовано практически все мужское население, способное носить оружие, и через полгода это начало тяжело отражаться на экономике страны. Поняв, что война принимает затяжной характер, финское командование уволило из армии значительное число людей и основной задачей войск стало считать удерживание фронта северо-западнее Ленинграда – то есть отобранной по договору финской территории. Денонсировав договор 1940 года, Финляндия официально заявила свои права на эти земли и фактически выбыла из Второй мировой войны: немногочисленные финские войска только держали оборону по старой границе, а с начала 1943 года финское правительство начало вести переговоры с СССР о заключении сепаратного мира. Перемирие было подписано 10 сентября 1944 года.
Исполком Ленинградского Совета депутатов трудящихся принял постановление о снабжении населения кипятком. Топлива не хватает, и людям порой не на чем даже вскипятить чай. Вот почему во всех районах города предложено оборудовать кипятильники.
7 декабря
Соединения 4-й армии Ленинградского фронта, наконец, прорвали оборону противника западнее Тихвина.
Советские войска оставили остров Гогланд.
8 декабря
В блокированном Ленинграде из-за нехватки электроэнергии полностью прекратилось трамвайное и троллейбусное движение.
Зафиксированы первые случаи каннибализма. По данным УНКВД по Ленинградской области, за употребление человеческого мяса были арестованы в декабре 1941 года 43 человека, в январе 1942-го – 366, феврале – 612, марте – 399, апреле – 300, мае – 326, июне – 56. Затем цифры пошли на убыль. С июля по декабрь 1942-го взяты с поличным всего 30 людоедов. Людоедов военные трибуналы приговаривали к расстрелу с конфискацией имущества. Приговоры были окончательными, обжалованию не подлежали и немедленно приводились в исполнение.
9 декабря
Наши войска штурмом овладели Тихвином и оттеснили немцев за реку Волхов. Это означало спасение населения города и войск. Уже на следующий день уполномоченный ГКО по снабжению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта Д.В. Павлов приехал в Тихвин, чтобы определить, как скоро можно будет начать завозить продовольствие. Вокзал и железнодорожные пути оказались не разрушенными, но пришлось срочно восстанавливать взорванные мосты на перегоне Тихвин-Волхов.
В Ленинград с фронта свозили раненых. Не хватало крови для переливания: то есть желающих было много, но с переходом на голодную норму давать кровь без ущерба для здоровья доноры уже не могли. Сначала донорам давали карточки по группе рабочих. С 9 декабря для них стали дополнительно выделять 200 г хлеба, 30 г жиров, 40 г мяса, 25 г сахара, 30 г кондитерских изделий, 30 г крупы и пол-яйца на день.
10 декабря
Защищая «Дорогу жизни», летчик-истребитель Семен Горгуль сбил одного врага, но и сам был тяжело ранен. Приземлившийся на лед Ладоги «ястребок» гитлеровские летчики с бреющего полета стали расстреливать и подожгли. Тело погибшего героя нашли потом на льду рядом со сгоревшим самолетом. Раненный в обе ноги, он истек кровью. Рядом с ним лежал открытый блокнот с неоконченной предсмертной запиской, написанной кровью: «Прощайте, ленинградцы. Победа за нами…»
12 декабря
2850 человек, мобилизованных на заготовку топлива 10 декабря, оказалось мало. Дополнительно мобилизовано на лесозаготовки и торфоразработки 1400 человек.
14 декабря
С 22 июня по 14 декабря заводы Ленинграда изготовили 318 самолетов, 713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов, 52 бронеплощадки, свыше 3 тыс. артиллерийских орудий, 10 тыс. минометов, свыше 3 млн. снарядов и мин, было достроено 84 корабля разных классов и переоборудовано 186 кораблей.
17 декабря
Из дневника 17-летней ленинградки Лены Мухиной:
«Хлеба мало: рабочие получают 250 гр., служащие и иждивенцы по 125 грамм. 125 грамм, маленький кусочек, это очень мало… Учиться в школе очень трудно. Школа не отапливается, в некоторых классах замерзли чернила, хорошо еще, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа».
Героем Советского Союза стал выдающийся советский летчик Александр Петрович Силантьев (1918–1996), участник войны, совершивший к декабрю 1941 года 203 боевых вылета. В 35 воздушных боях сбил 8 вражеских самолетов. На ЛаГГ-3 воевал на Ленинградском фронте. После войны, окончив две военные академии, служил заместителем главкома ВВС.
21 декабря
В городе разорвались в этот день 124 снаряда, 4 из них – в районе Сытного рынка – убили 55 человек и ранили более 40. Восемь пострадавших – дети.
22 декабря
По «Дороге жизни» в Ленинград доставили 700 тонн продовольствия, на следующий день – 800 тонн. Завоз стал несколько превышать дневной расход. Однако город и фронт не имели никаких запасов, и при малейшей заминке в доставке нельзя было избежать катастрофы.
На заседании бюро горкома ВЛКСМ решено направить на работу в продуктовые магазины и столовые 3500 комсомольцев. В условиях блокады очень важно, чтобы за прилавками магазинов и в столовых работали честные люди. Решено также создать комсомольские контрольные посты, которые обязаны следить за правильным расходованием и распределением продуктов.
Из дневника ленинградского школьника Миши Тихомирова:
«Настроение не очень веселое, т. к. сводки еще не слышал, во всем теле и особенно в ногах сильная слабость. Ее чувствуют все. Сегодня узнали в школе о смерти учителя черчения. Это вторая жертва голода… Уже не ходит в школу преподавательница литературы. Папа говорит, что это следующий кандидат. Многие учителя еле-еле ходят. Жить было бы можно, если бы получали вовремя наш маленький паек. Но это очень трудно».
23 декабря
В постановление Ленгорисполкома об организации детских новогодних елок включен пункт, что маленьких участников этих торжеств разрешается кормить обедами «без вырезки талонов из продовольственных карточек». «Организация новогодних елок допускается в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами на количество детей, присутствующих на елке».
25 декабря
В Ленинграде, несмотря на нестабильную обстановку с подвозом продовольствия, было принято решение выдавать больше хлеба: рабочим – на 100 г, а служащим, иждивенцам и детям – на 75 г. Рабочие стали получать 350 г хлеба в день, иждивенцы и дети – 200 г.
Строки из писем, изъятых военной цензурой:
«…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди начинают пухнуть, так как едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной пыли, которой раньше клеили обои, уже нигде не достанешь».
«…В Ленинграде жуткий голод. Ездим по полям и свалкам и собираем всякие коренья и грязные листья от кормовой свеклы и серой капусты, да и тех-то нет».
«…Я был свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения лошадь, люди прибежали с топорами и ножами, начали резать лошадь на куски и таскать домой. Это ужасно. Люди имели вид палачей».
26 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР рабочие и служащие (мужчины и женщины) военной промышленности и смежных с ней производств, не подлежащие призыву, объявлены мобилизованными на весь период войны и закреплены для постоянной работы на этих предприятиях. Самовольный уход с предприятия приравнивался к дезертирству, что каралось 5–8 годами тюремного заключения. Были введены обязательные сверхурочные работы, все отпуска на время войны отменялись. Рабочий день увеличился до 10–12 часов, а в городах, где было объявлено чрезвычайное положение, например, в Ленинграде, Туле, рабочий день предела не имел. Поскольку фронт забрал мужчин, то на производство призвали женщин и подростков, им пришлось трудиться на физически тяжелых работах.
28 декабря
О действии голода на людей рассказывают по-разному. В большинстве случаев люди умирали с чувством покорности судьбе, оставшиеся в живых продолжали сохранять надежду: освобождение Тихвина и незначительное повышение продуктовых норм с 25 декабря подбодрили ленинградцев. Тем не менее врачи отмечали многочисленные случаи «психической травмы», вызванной голодом и холодом, немецкими бомбежками и артиллерийским обстрелом, а также гибелью множества родных и друзей. Точных данных о числе умерших от голода детей нет, однако считают, что смертность среди детей была относительно невысокой, хотя бы потому, что родители часто отдавали им свои собственные жалкие порции.
30-летие встретил участник советско-финляндской и Отечественной войн, советский военный летчик Евгений Петрович Федоров (1911–1993), участвовавший в разгроме гитлеровцев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, ставший затем дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации.
29 декабря
Президиум ВС СССР принял указ «О военном налоге». Он взимался со всех граждан СССР, достигших 18 лет. От налога освобождались военнослужащие и члены их семей, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также пенсионеры, не имеющие других источников дохода. Налог составлял 7–10 % заработной платы у рабочих и служащих; крестьяне платили от 150 до 600 рублей в год с каждого члена семьи. Для граждан, подлежавших по возрасту призыву на действительную военную службу или по призыву по мобилизации, но не мобилизованных или освобожденных от призыва, налог увеличивался на 50 %. За годы войны налог дал в бюджет 72,1 млрд рублей.
30 декабря
В декабре в Ленинграде созданы комсомольско-молодежные бытовые отряды. Молодые люди, сами шатаясь от голода, обходили квартиры, оказывали посильную медицинскую помощь, уход за истощенными, сообщали о найденных в квартирах умерших, забирали в детские дома детей, оставшихся без родителей. Открыли десятки пунктов по ремонту обуви и одежды.
Из Ленинграда на фронт выехало 18 концертных бригад для выступлений перед бойцами с праздничными новогодними концертами.
31 декабря
К 31 декабря Красная армия с начала войны потеряла 2 993 803 человека убитыми и 1 314 291 ранеными (всего 4 308 094 человека). В плен попало, по одним данным, 2 млн человек, по другим – 3,9 млн. Погиб практически весь первый стратегический эшелон – наиболее подготовленные кадровые войска. Кроме того, Красная армия лишилась более 6 млн единиц стрелкового оружия (67 % того, что имелось на 22 июня 1941 года), 20 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (91 %), 100 тыс. орудий и минометов (90 %), 10 тыс. самолетов (90 %), общие потери боеприпасов составили 24 тыс. вагонов.
Немцы за этот же период потеряли на Восточном фронте 750 тыс. (по другим данным – 830 тыс.) убитыми и ранеными.
В блокадном Ленинграде в декабре от голода умерли 55 881 человек (в ноябре 11 085 человек) – столько, сколько до войны умирало в год. Умирали старые и молодые, мужчины и женщины. У людей слабели руки и ноги, смерть настигала везде. На улице человек падал и больше не вставал. В квартире ложился спать и засыпал навеки. Хоронить было трудно: уже давно не работал транспорт. Первое время тела вез на кладбище кто-нибудь из семьи посильнее через весь город на саночках. Хоронили без гробов, обернув в простыню или одеяло. Но вскоре живые уже были не в состоянии отдать последний долг своим близким: рыть в одиночку мерзлую землю было нереально. Умерших оставляли на кладбищах, у моргов, а то и просто на улицах, когда не хватало сил. Работники коммунального хозяйства ежедневно объезжали город, подбирали трупы на улицах и отвозили их на грузовых машинах на Серафимовское, Большеохтинское, Смоленское, Богословское кладбища. Но больше всего увозили на окраину города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой, – в самое безопасное место, туда, куда не долетали снаряды и где не было заводов, которые могли бы бомбить немцы. Так образовалось Пискаревское кладбище. Команды МПВО взрывали промерзшую землю и опускали в братские могилы десятки, а иногда и сотни трупов, не зная имени умерших.
В конце декабря у районных карточных бюро в Ленинграде стали скапливаться толпы за получением карточек взамен утерянных. Узнав об этом, секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданов попросил дать ему справку о потерях. Выяснилось, что в октябре было выдано 4800, в ноябре 13 тыс., а в декабре – 24 тыс. карточек взамен утерянных. Жданов пригласил к себе члена военного совета Ленинградского фронта А.А. Кузнецова, председателя исполкома Ленсовета П.С. Попкова, секретаря Ленинградского горкома Я.Ф. Капустина и уполномоченного по снабжению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта Д.В. Павлова и просил высказаться, как поступать дальше. Кузнецов и Павлов предложили не выдавать карточек взамен утерянных. Павлов вспоминал: «Хотя эта мера суровая, жестокая, но в сложившихся условиях только она может пресечь утечку продовольствия, заявили мы». Капустин и Попков сказали: карточки нужно выдавать, так как Ленинград находится в исключительном положении и человек, потерявший карточку, ни за какие деньги не сможет приобрести продукты питания. Жданов решил: «Если крутыми мерами не пресечь потерю карточек, то катастрофа может коснуться не отдельных людей, а многих. Выдача карточек взамен утерянных – это широкие ворота для утечки продовольствия. Их надо закрыть. Городскому бюро следует разрешить выдавать карточки лишь в исключительных случаях и то под строгим контролем». Как писал Павлов в своей книге «Стойкость», «потери» карточек прекратились, в чем позволим себе с ним не согласиться: карточки продолжали красть, они продолжали пропадать, только в Ленинграде все меньше и меньше людей обращались с просьбами восстановить их: утрата даже 3-дневного, пусть мизерного пайка, в ту зиму означала верную смерть. Кошек, собак и птиц блокадники съели еще осенью. В городе работали несколько рынков, где на обручальное кольцо можно было выменять полкило хлеба. В те дни многие коллекционеры за буханку хлеба расставались с бесценными произведениями искусства. Какие-то личности продавали на рынках пирожки с мясом, но большинство ленинградцев боялись их покупать: поговаривали, что мясо – человеческое. Слухи эти подтвердились после 1991 года, когда были открыты некоторые архивы КГБ. Действительно, в блокадном городе действовало несколько банд, воровавших и детей на улицах, не гнушавшихся и замерзшими телами умерших. Но надо отметить, что, хотя на почве голода многие блокадники сходили с ума, случаев каннибализма среди населения отмечено немного.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе