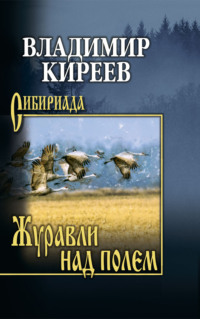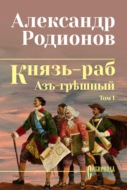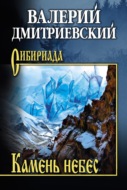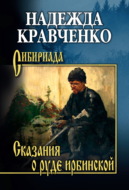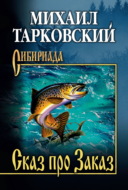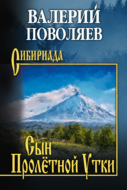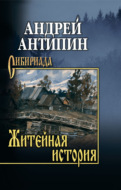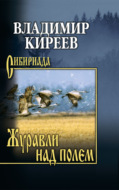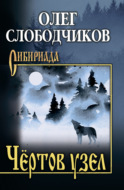Читать книгу: «Журавли над полем», страница 4
– А это, Вася, возможно у нас на станции или это только твои мечты, прожекты?
– Нет, Прасковьюшка, я не прожектер. Наша станция расположена в уникальнейшем природном месте, где самой природой определены такие климатические условия, которые свойственны большей части Сибири. И полученный здесь, на нашей тулунской земле, новый сорт будет одинаково пригоден для многих климатических зон. Ведь, прежде чем учредить здесь опытную ферму в 1907 году, добрый десяток лет специальная группа ученых исследовала многие климатические зоны Восточной и Западной Сибири и для подобных ферм определено было из них лишь самое малое количество, в том числе и это, где располагается ныне наша Тулунская селекционная станция. А перенеси ее опытное поле в другую зону, хотя бы, к примеру, в Куйтун или Нижнеудинск, и эффективность работы селекционеров потеряется. Поэтому мы с тобой живем в великом месте, откуда уже начинают идти и будут дальше идти по нашей советской Сибири такие сорта пшеницы, каких не было никогда. И не только пшеницы, но и других зерновых культур, кормовых трав, картофеля, овощей. А люди, наше сельское хозяйство получат урожайные сорта семян, которые обеспечат хлебом миллионы и миллионы людей. Отсюда будет происходить и богатство государства. Это вот надо понимать и ценить больше всего. А понимая и ценя, надо работать с удвоенной, утроенной силой, забывая обо всем на свете, кроме своей работы.
– И о нас с Тамарочкой забывая? – спрашивала, сильнее прижимаясь к плечу мужа.
– Вы – моя подпора, моя тихая гавань, мои свет, тепло и привет, – отвечал он тихо.
И в голосе его слышались такие близкие Прасковье нотки, что она уже не могла ревновать любимого к науке, умолкала и слушала дальше.
Их внутреннюю гармонию нарушала лишь одна постоянно тревожащая Маркина дума о родных, что остались в станице Расшеватской. Когда он уезжал в свой Краснодарский институт и сразу после его окончания колхозное движение только набирало силу и за крестьянами оставался кое-какой выбор. По крайней мере, под дулом винтовки в колхоз не загоняли, но раскулачивание происходило повсеместно. Накатила и накрыла волна раскулачивания и станицу Расшеватскую – Маркин в тот год уже работал на Тулунской селекционной станции.
В 1934 году Василий получил письмо от отца, в котором тот описал, как сельсоветовские агитаторы увели со двора обеих лошадей, корову, овец, свиней, собрали в мешок кур, вымели подчистую амбар, и семье нечем стало жить. Из станицы пока не выселили, но грозились отправить в Сибирь на поселение. Спасибо, подмогают родственники – братовья его и матери.
«Сынок, – писал отец, – ежели надо будет сказать о сродственниках, то скажи, что у тебя никого нету на всей земле. Боюсь я, что докопаются и тебе жизни не дадут. А мы с матерью как-нибудь перемогем-переживем напасть и встанем на ноги. Тока повременить надо маненько, переждать бурю».
Письмо Маркин всегда носил с собой в кармане, не показывая его никому и никому же не рассказывая, даже Прасковье – зачем беспокоить близкого ему человека. Горю все равно не поможешь. Но боль за родных не утихала, и он старался загрузить себя работой, чтобы забыться и не думать. Работы же не убывало во всякое время года.
В июле, в пору сенокосную, поселок будто вымирал – все уходили на заготовку сена. Вместе со всеми шел с косой в руках по прокосу и Василий Маркин. Валки ложились тугие и ровные, а косить Василий Маркин умел сызмальства. Умел отбить и направить литовку, насадить черенок, правильно установить косовище. Иной раз к нему подходила какая-нибудь женщина из занятых на покосе и просила отбить литовку, что он и проделывал с удовольствием, а счастливая женщина потом рассказывала всем подряд, какой Маркин мастер, как резала траву отбитая им литовка и что она в тот день ни капельки не пристала.
В июльский день с утра стояла прохлада, к обеду солнце прогревало землю, и работа косарей прекращалась – до появления вечерней прохлады.
Жаворонки летали высоко в небе, разливаясь звонким пением. Скошенная трава начинала томить сенным духом – скоро надо было браться за грабли и вилы. Но вот из-за леса выкатывалась тучка, задувал ветер, качая кроны деревьев, какой-нибудь издерганный надвигающимся ненастьем мужичонка не выдерживал и загибал матом.
Душу отводили в сумерках возле землянки. Рядом, по обе стороны стола, сидели Мусатов, Маркин, бригадир заготовителей сена Петр Казимирович Костыро – все хорошо знаемые, все свои: кто сенокосил, кто трудился до пота, теперь сходились под вечер к Петру Ивановичу Иванову, который сидел во главе стола.
Сидели под соснами, тянули кто самокрутки, кто папироски – шутили, задирали друг дружку, а больше перетряхивали жизнь – и свою, и поселковую, и страны, и всей планеты.
– Что ты судишь в масштабах целой страны? – бросал в запальчивости Мусатов Филиппу Омеличу. – Тут бы в своем разобраться, а большая политика нам, сельским людям, ни к чему. Не мы ее делаем и не нам о ней судить. А лясы точить – это уже совсем пустое. Пусть бабы точат, они в том мастера, тебе, по крайней мере, за ними не угнаться.
– Эт уж точно, – поддержал Мусатова Костыро. – Тут особая школа нужна, особая выучка, которую наши женщины проходят на лавочках у своих домов, а потом оттачивают мастерство на своих мужьях.
– А чё? – отпихивался от нападавших Омелич. – Газеты мы тож читам, радио слушам… И потом, мы все теперь – Его Величество Рабочий Класс. Хозяева страны.
– Таких хозяев, как ты да еще дурачок Кеша, только и спрашивать, что делать да как быть.
– Это я-то дурачок? – начинал злиться Омелич. – Я тебе, польскому каторжнику, счас рожу-то поправлю, не посмотрю, что ты старше меня!
– Ну-ну, петухи, разошлись, будто в курятнике, – останавливал спорщиков Иванов. – Я вот с вас обоих сниму прогрессивку, так посмотрю потом, как закукарекаете.
Петр Костыро и вправду происходил от польского ссыльного Казимира Казимировича Костыро, пришедшего в кандалах в Сибирь в середине девятнадцатого века, о чем Петру время от времени напоминали поселковые мужики.
– А чё он в самом деле – каторжник да каторжник… Чё в том плохого? – обижался Костыро. – Его вить сюда пригнали не по его воле. Поляков тогда гнали в Сибирь тысячами. Теперь и в России произошла революция, выходит, отец-то мой был тоже большевик, только на свой, польский, лад. И он сказывал, что, когда их гнали по этапу, на пересыльных пунктах они пели «Марсельезу».
– Не обращай внимания, Петр Казимирович. Болтуны в России никогда не переводились.
Ничего нового для Василия в этих словесных кипениях не было. Да и не любил он чесать язык попусту – в своем бы деле селекционном преуспеть, не потерять время. А здесь, в сенной избушке, ему хотелось подумать об отце-матери, о сестрах, братьях, которых, кажется, не видел вечность.
Еще ему хотелось думать о своей Паране, о доченьке Тамарочке, о Быкове, Ермакове, Зиновьеве – обо всех тех людях, которые были дороги сердцу.
Он выходил на воздух, думал о своем.
Однажды, когда страсти особенно раскалились, Болоткин, поглядывая по сторонам, заметил:
– Вы бы потише маленько, мужики. Вишь, даже сосны перестали шуметь – видать, в жизни ничего подобного не слыхивали.
Мужики на мгновенье притихли, осматриваясь. Молчание нарушил Зиновьев, который в такое время года любил бывать на народе:
– Не скажи, парень, слыхивали и не такое, когда к нам в Сибирь царское правительство политических ссылало. В Тулуне в девятьсот шестом году двадцать пять человек таких-то было.
– Это ссыльных-то двадцать пять человек было в Тулуне? – переспросил Омелич. – Чё-то ты, дед, загибашь, не могло быть такого, чтобы аж двадцать пять человек. И чем же они занимались?
– Да тем же, что и все, – неспеша отвечал Зиновьев, с легкой улыбкой на морщинистом лице оглядывая собравшихся послушать мужиков.
Косари подсели поближе к Тимофею Захаровичу, приготовились слушать. Легкая, чуть приметная улыбка в другой раз тронула впалый рот старика, и он заговорил, неспешно подбирая слова:
– Я ить уж в года входил и, помню, тож побаивался их речей.
– Крепко высказывались?
– Крепко. Бо-ольшой замах был. А зимой, када их словесные костры разгорались с особенной страстью, можно сказать, даже пот выступал на лбе и мурашки бежали по спине.
– Так уж и бежали? – недоверчиво переспрашивал Омелич.
– А чё ты думашь? И бежали. За ими догляд был со стороны властей сурьезный. Кажный шаг отслеживали, де без толку. Они вить не вместях ходили, чаще поодиночке, а где по двое иль по трое. Иные семьи заводили, ежели были не женаты. Оседали и бросали свою политику. Но таких-то было мало – чаще крутились средь рабочих железной дороги, потому как хрестьяне плохо поддавались их агитации. А иных сажали за решетку иль отправляли куды подальше, хотя куды ж подальше, ежели и у нас здесь тьмутаракань.
– А вы, Тимофей Захарыч, лично были с кем-нибудь из них знакомы, может, и дружбу водили? – допытывался Филипп.
У моего тяти, Захара Демидовича, к тому времени пасека была лучшая во всей округе, ну и я при нем глядел за пчелками. А пасека, известное дело, всегда на виду, что твой проходной двор, не обойдешь, не объедешь. Вот и забредали к нам людишки на огонек: медку взять, побалакать, новости рассказать. Заходили и эти политические шатуны, случалось – ночевали, народец-то этот был не какой-нибудь воровской, чужого не тронет. Помню, любили картузы на головах носить кожаные, в хромовых сапогах – в опчем, не таки уж бедные. Это я потом узнал, что из государевой казны им подкидывали деньжонок. А тогда думал, что из зажиточных они были. Даже завидовал. А толковали складно, все про чижолую жись хрестьянина, боле – прольятарията. Хлебом не корми – дай языком помолоть. Я думаю, что к работенке, даже самой пустячной, они были неспособны – тока людей смущать.
– Но ведь они-то и сделали революцию, и теперь сам народ в стране – хозяин. Вот и мы здесь работаем общей массой, а раньше – каждый на своей полосе, на своем единоличном покосе. Что ж тут хорошего? – вставил свое Мусатов. – И сорта новые мы выводим для всех людей, а не для какого-нибудь богатея в отдельности. Разве раньше такое было возможно?
– Верно, парень, революцию сделали такие, как они, а сколь народу положили в революцию – это вот кто-нибудь считал? Истинных хрестьян положили, трудящих хрестьян. Что до новых сортов, то и при царе-батюшке было опытное поле, и денежки из казны государевой отпускались. Многие тыщи отпускались.
– Так уж и тыщи? – недоверчиво спрашивал кто-то.
– Именна тыщи. Помнится, Писарев Виктор Евграфович говаривал, что до восемнадцатого году аж полсотни тыщ было отпущено Тулуновскому опытному полю. Потом с восемнадцатого по двадцать первый выживали, как могли: продавали хрестьянам семена, на то и жили. Но своей селекционной работы не бросали и дело вели по всей строгости и науке. Правда, и вредили им тож немало.
– Кто ж вредил?..
– Колчаковцы вредили, белочехи грабили: то коней отымут, то хлебушко выметут – хорошо, хоть сортовое зернецо успевали припрятать. Да и свои бандюги зорили – много всего бывало в те года, ой много всякого худа… Селекционеры-то не походили на голытьбу, как вот вы счас, – штанов добрых не на ком нету, сапоги кирзовые носите, – продолжил, помолчав. – Раньше-то на какого ученого любо-дорого было поглядеть. Идет, бывало, хоть тот же Виктор Евграфович Писарев, а ему хрестьяне со всей уважительностью: здрасте, мол, благодетель наш, Виктор Евграфович. И с поклоном ладошку к шапчонке прикладывали в знак уважительности-то. Понимал народ-то, откуда может прийти к нему достаток в семью.
– С поклоном, Писареву? – изумлялся Болоткин. – С чего б это кланяться – вот нужда приспичила.
– Ты, парень, и воопче-то помолчи, када старшие говорят. А ежели приспичило, дак беги в кусты. Ты еще ничё не видел в жизни, а туды же, наперед батьки в пекло. Люди-то друго воспитание имели, нежели счас. Плюнете на кого и мимо пройдете, не заметите. Уважительный ране народ был, становой, правильный.
– Ерунда это все, – не унимался Болоткин. – Я чё, лодырь какой али без уважения к другому человеку? Я место свое знаю и работаю так, как дай бог каждому.
– А никто и не говорит, что ты тунеядец какой-нибудь. Ты парень трудящийся, тока без головы. Голова-то нарастет с годами, а пока помолчи.
«Ну тебя, Петька, – шикали со всех сторон на Болоткина мужики. – Чё дальше, чё дальше-то было?» – торопили рассказчика, и Зиновьев продолжал:
– Виктор Евграфович завсегда ходил в кожаной тужурке и при халстуке. На ногах по теплу носил яловые сапоги, зимой – белые бурки. Иной раз и в косоворотке, но это тада, када работал в поле. Работы он не чурался: и косу мог взять в руки, и серп, только у него был свой возчик, который возил его в ходке. Для селекционеров еду готовила отдельная кухарка. И в домах они жили добрых – лучших во всем поселке. Отчего, скажите мне, подобное происходило?
– Отчего? – не сдерживался очередной слушатель.
– От того, что власть ценила – это первое. Второе в том, что содержание позволяло. И третье в том, что уважительность была в людях – вот, – ставил точку в затянувшемся разговоре старый пасечник.
– Мы, Тимофей Захарыч, не баре и нам особых условий создавать не надо, – как бы подводил итог молчавший доселе Иванов. – Мы и в кирзовых сапогах походим, только чтобы дать такие сорта, зерном от которых можно было заполнить все закрома страны. А там и тужурки кожаные наденем, и яловые сапоги. И мы дадим народу такие сорта.
– Дадите, конечно, все вы, гляжу, молодые, да ранние. И рвения вам не занимать, оттого я и толкую с вами, а так бы и рта раскрывать не стал, – обиделся Зиновьев. – А в опчем, живите как знаете. Просили рассказать, вот я и рассказал, тока, вижу, не в коня корм.
– Не обижайтесь, Тимофей Захарыч, и корм в коня, и дело вы говорили, и народ нынче другой – все так. Для того и сказ, чтобы думали головами – это у кого они есть. А нет, так и спроса нет. Давайте спать. Завтра раненько опять за сено браться, – вставал Иванов, а за ним и другие.
Скоро стан засыпал. Июльская темень заполняла все пространство земли, а небо высвечивалось большими и совсем еле приметными звездами, и мало-помалу все усиливающаяся прохлада заставляла косарей натягивать на себя фуфайчонки, шубейки, шинельки. И те несколько часов, что оставались до рассвета, люди спали крепким сном, какой всегда приходит к тем, кто много потрудился минувшим днем.
6
Вот и закончились последние дома поселка электроремонтного завода, где в тридцатых годах был льнозавод. Были и льносовхозы в Тулунском районе – «Тулунский» и «Сибиряк». Они-то и обеспечивали льнозавод сырьем.
Перед тем как подняться в гору и выйти к первым домам уже поселка селекционеров, Маркин еще раз присел, чувствуя не столько телесную, сколько душевную усталость, какую испытывал разве что только в своих колымских скитаниях по лагерям.
Сердце стучало ровно, и ноги пока еще несли бывшего селекционера, а вот мысли путались, гнетущие воспоминания следовали одно за другим, и не было сил унять ту боль душевную, с какой он возвращался туда, где ему было по-настоящему хорошо и откуда началось его восхождение на голгофу.
* * *
В небольшом, мрачноватом своими стенами и высоким потолком, помещении едва теплилась электрическая лампочка, отчего создавалась иллюзия глухого подвала. Посредине помещения стоял ничем не покрытый стол, захватанный и затертый многими руками и локтями, и привинченная к полу массивная табуретка. Здесь и происходил допрос подследственных. Сухопарый, белогубый, с постоянно красными глазами, следователь не спеша ходил перед сидящим на табурете Василием Маркиным, изредка останавливаясь, чтобы, затянувшись папироской, выпустить клубы синего дыма прямо в лицо человека, который целиком был в его власти.
Время тянулось невыносимо медленно, а Маркин все еще не знал, что же ему вменялось в вину, потому с нетерпением ждал первых по его делу вопросов, надеясь попытаться объяснить, что здесь он случайно и что никакой он не враг народа, а отдающий всего себя работе законопослушный гражданин.
Однако следователь не торопился спрашивать, и оттого на душе становилось все тоскливей и тоскливей, все больше хотелось напрямую спросить, что же от него хотят и зачем он здесь.
Задаваемые следователем вопросы казались ему до дикости нелепыми, относящимися не к нему, Маркину Василию Степановичу, а к кому-то другому, находящемуся, может быть, в соседнем помещении или еще где-нибудь, только не рядом с ним.
Белогубый следователь по фамилии Окунев спрашивал и, не дожидаясь ответа, задавал новые вопросы, будто наслаждался произведенным на подследственного впечатлением.
И он достигал цели: Маркин недоуменно глядел в лицо этого некрасивого, с бледным отечным лицом человека, начиная уставать от гнетущей невозможности ответить, объяснить, сказать – просто открыть рот и быть услышанным.
– Кто тебя завербовал? – спрашивал, подступая, Окунев.
Затем следовала очередная затяжка папиросным дымом, отчего фигура подследственного постоянно находилась как бы в голубом тумане. Не дожидаясь ответа на один вопрос, бил наповал другим:
– На разведку какого иностранного государства работал? Назови имена сообщников… А?.. Что молчишь?.. Может, подмочь вспомнить?..
– А вы даете мне время ответить? – не выдержал Маркин. – Вы же спрашиваете и спрашиваете и, похоже, знаете заранее ответы.
– Так ты еще и с гонором?.. – ехидно протянул, остановившись напротив Маркина, следователь. – Ну, гонор-то мы умеем вышибать. Всякого добра вражьего повидали… Так будешь отвечать или нет?
– Я не понимаю, о чем речь. Ни о каких иностранных разведках не слышал и никаких сообщников у меня нет и не было, – наконец пробормотал Маркин, начиная понимать, что ему действительно надо приготовиться к худшему.
– Все вы так говорите. До поры до времени. Но ничего, не таких раскалывали. Отвечай, пока спрашиваю человеческим языком.
«И впрямь Окунь», – неприязненно думал Маркин, одним движением глаз наблюдая за своим мучителем. (Заключенные так и прозвали этого следователя – Окунем, от настроения которого они все здесь зависели.)
– Ну, что там Окунь? – всякий раз спрашивал нетерпеливо кто-нибудь у вернувшегося с допроса сокамерника. – В настроении?..
Хорошо, если вернувшегося на своих ногах, чаще приносили охранники и бросали прямо у порога камеры стонущее, избитое тело очередного несчастного.
Следователь продолжал расхаживать по кабинету, останавливался, искоса взглядывал на Маркина, затягивался папиросой, приступал все с тем же вопросом:
– Ну-ну, шевели мозгами, пока не вышибли. Потом нечем будет шевелить.
– Я не понимаю, о чем идет речь, – как затверженное, повторял и повторял Маркин, в самом деле не понимая, чего же от него хотят.
– Не понимаешь по-доброму, поймешь по-худому.
Следователь слегка постучал по перегородке, за которой, видимо, кто-то был и только ждал сигнала. Так оно и случилось: в комнату явились два молодца в военной форме, сбили Василия с ног и стали бить ногами. Он не помнил, как очутился в камере, только слышал, как склонившийся над ним человек, разглядывая побои, произнес:
– Вот это и есть сила диктатуры пролетариата.
– Какого уж там пролетариата – здесь сила и власть над всеми нами только одного Окуня. – Это кто-то находящийся так же рядом с Маркиным и кого он пока не видел, не согласился с наклонившимся над ним.
Маркин разлепил глаза, но разглядел только заросшее щетиной синюшное лицо и разбитые опухшие губы.
«Видно, и этого недавно били», – вяло шевельнулась в голове мысль.
– Ты, парень, учись отвечать на вопросы следователя правильно, иначе скоро превратишься в мешок с переломанными костями, – продолжал между тем этот бог весть откуда взявшийся сочувствующий. – Окунь большой специалист по мордобою.
– Как это – правильно? – спросил, недоумевая.
– А так. Спросили: на какую иностранную разведку работаешь, отвечай, что на все сразу.
– Не понимаю.
– Тут и понимать нечего. Тут никто ничего не понимает и ни от кого понимания не требуется. Тут – дик-та-ту-ра кулака и дубинки.
– Не понимаю. – в другой раз прошептал действительно ничего не понимающий Маркин, которому хотелось только одного – чтобы оставили его в покое.
– Отдыхай пока, – словно понял его состояние склонившийся над ним сочувствующий. – Силы тебе еще понадобятся.
Допросы продолжались несколько дней. Василий поначалу пробовал отвечать, потом замолчал и только постанывал от все новых и новых ударов. На последних допросах уже ни о чем не спрашивали, а сразу начинали бить, и то была, видно, только прелюдия к чему-то главному, к чему следовало подготовиться, а может быть, даже и привыкнуть. Хотя привыкнуть к подобному было невозможно, и это он тоже хорошо понимал.
Вскоре с группой арестованных Маркина отправили в иркутскую тюрьму. Василий вздохнул с облегчением, но скоро убедился, что вздохнул рано, а надо было бы просто попридержать дыхание, приготовившись к новым испытаниям. Издевательства с избиениями продолжились и в иркутской тюрьме. И чем дальше, тем изощреннее.
Здесь эстафету от Окуня принял мужчина лет сорока – сорока пяти, от которого всегда пахло спиртным. Красное широкое лицо с веселыми слезящимися глазками на нем и похожим на пуговицу носом, маячило перед подследственным, придвигаясь и отстраняясь в зависимости от того, как реагировал на вопросы пока еще сидящий на табурете арестант. А когда уж падал на бетонный пол, то мог бы заметить, как следователь по фамилии Пухлый достает из потертого кожаного портфеля бутылку и льет водку в граненую рюмку.
Дальше Пухлого уже не интересовало состояние подследственного, который целиком как бы передавался во власть двух охранников. Эти били с остервенением, и для них работа кулаками и ногами, видать, входила в служебные обязанности.
Наконец, дошли и до истинной причины ареста, и Маркин вдруг действительно почувствовал облегчение, по крайней мере теперь он мог говорить о том, что знает и что могло касаться сути дела.
– С Ермаковым Сергеем Алексеевичем знаком? – спрашивал Пухлый.
– Знаком. Он работает агрономом по сортоиспытанию Иркутского областного зернового управления.
– Работал, – уточнил Пухлый и заиграл слезящимися глазками, что не предвещало подследственному ничего хорошего. – Гражданин Ермаков арестован и обвиняется по статье 58, пункты 10, 11.
– Что это значит? – спрашивал Василий.
Уголовный кодекс со временем и ты изучишь, – отвечал с ехидцей в голосе следователь Пухлый. – Что касается Ермакова, то он занимался контрреволюционной деятельностью и шпионажем в пользу немецкой и японской разведок.
– Такого не может быть, – опешил Василий.
– У нас все может быть. Где и когда завербовал тебя Ермаков?
– Гражданин следователь, я ничего не понимаю. Меня никто не вербовал. С Ермаковым у меня были отношения, связанные с работой. Я в какой-то мере подчинялся ему, а приезжая в Иркутск, сдавал ему отчеты.
Ермакову и тебе предъявлено еще одно обвинение, оно состоит в том, что вы оба, находясь в сговоре, не указали в отчетах, что некоторые сорта пшеницы после многолетнего испытания по вашей обоюдной вине оказались бесхозными, так как вами двоими не были указаны районы, где они могли бы высеваться. Кроме того, в 1936–1937 годах вами же не была проведена апробация сортовых семян, и эти семена оказались не обеспеченными сортовыми свидетельствами, чем воспользовались работники «Заготзерна», чтобы освободить себя от лишних хлопот по их особому хранению. В результате такой совместной вашей деятельности сорвано выполнение поставленной пятилетним планом задачи – довести сортовые посевы до семидесяти пяти процентов от всех площадей зерновых культур.
«Это то, о чем хотел меня предупредить Ермаков, подсовывая статью академика Лисицина», – подумал Маркин, вслух же сказал:
– Я знаю, что Ермаков был категорически против того, чтобы запускать в производство недостаточно проверенные новые сорта пшеницы. И в этом я с ним был согласен, потому что существует заложенный природой цикл, не считаться с которым мы не имеем права.
– Вот ты и признался в своей подрывной деятельности в сговоре с означенным Ермаковым, – злорадно протянул Пухлый. – Надеюсь, тебе о чем-то говорит имя Ивана Владимировича Мичурина?
Следователь взял со стола открытую, вероятно, приготовленную специально для допроса книгу, стал читать:
– «Плодоводы будут правильно действовать в тех случаях, если они будут следовать моему постоянному правилу: „Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача“». Кстати, о том же говорит и академик Лысенко, который доказал, что новый сорт можно получить всего за два с половиной года. Вы же с Ермаковым предлагаете – за пять лет.
На какое-то мгновение Маркину показалось, что с ним ведут какую-то непонятную игру, и он в той игре должен исполнять определенную роль, только надо было понять, какую, и тогда все пойдет как нельзя лучше: его перестанут бить, и он сможет внятно ответить на все вопросы следователей. Ответить и вернуться к себе на селекционную станцию. Но так только показалось Маркину, что он тут же осознал. Следователь же не хотел ждать, пока этот сидящий перед ним худой, с отросшей клочковатой бородой и синюшным от постоянных побоев лицом, подследственный сообразит, что ответить, – бил своими вопросами наповал:
– Ты объяснишь мне, почему за пять лет, а не за десять, например, можно получить новый сорт пшеницы, а, вражина? И чем тебе не нравится Иван Владимирович Мичурин, с которым, как я понимаю, ты не согласен?
– Мне Иван Владимирович нравится, это был действительно великий ученый-плодовод. У нас на станции есть его сорта черемухи, яблони, так это просто замечательные сорта.
– Так в чем же дело? Если Мичурин для тебя не авторитет, то кто же? Ермаков?..
– Утверждение Мичурина нельзя понимать в буквальном смысле, – едва шевелил языком Маркин. – Мичурин тем самым призывал плодоводов и селекционеров работать не жалея сил, чтобы вывести более продуктивные сорта, применимые для всех областей страны. Мнение же академика Лысенко пока практикой не подтверждено, и значит, спорное, о чем говорят в своих статьях другие ученые, как, например, академик Лисицын.
– И Лисицина ты читал?.. Понятно… А ты знаешь, где сейчас этот Лисицын?
– Я обязан был читать специальные статьи других селекционеров, чтобы быть в курсе их работы и того, что происходит в селекционной науке вообще.
Маркин понял, что ему не следует ссылаться на других ученых, по крайней мере живых, а так хотелось сослаться хотя бы на того же Писарева. Нет, он не даст повода подозревать других.
Много лет спустя Маркин в семье другого заключенного – Павла Семеновича Попова, который в 1913 году был назначен помощником Писарева, прочтет в письме последнего к Попову такие строчки: «Очень виноват, что долго Вам не отвечал, я жил за городом и одновременно проходил курс лечения сердца. Его испортила мне сталинская тюрьма – 7 месяцев в одиночке с непрерывными, в течение ночи, неоднократными вызовами к следователю. Ну а потом еще около года за проволокой в концлагере – вот сердце и поскользнулось»…
Тогда в письме Писарева его поразило только одно слово: поскользнулось. Сердце поскользнулось.
Выйдя от Поповых, он все повторял и повторял про себя это только одно слово и тут же спрашивал себя самого: а где поскользнулся он? Как так случилось, что его, Маркина, в самом расцвете сил взяли и вышибли из той жизненной колеи, в которой он надеялся быть до конца своих дней? Как так произошло и кто в том виноват, что жизнь его, Маркина, оказалась изломанной тюрьмами, исковерканной, по сути, совершенно случайными людьми, какими были все те окуневы, пухлые и иже с ними, которые его допрашивали и до которых нельзя было достучаться хотя бы уже потому, что все они были далеки от селекционной науки и от земли вообще?
Василий Степанович помнил известную формулу писателя Федора Достоевского, часто повторяя ее про себя: все виноваты во всем.
Все виноваты во всем. Не больше, но и не меньше.
Вот так: все виноваты во всем.
Ведь были же конкретные живые люди, которые написали на него донос. Были и такие, которые потом подтверждали тот донос, дополняя его новыми деталями, чтобы донос тот казался правдоподобней. И люди эти жили рядом с Маркиным. Работали рядом с Маркиным. Он доверял им, делился с ними чем-то сокровенным, сидел за одним праздничным столом, выпивал за здравие сидящих, говорил о науке, о необходимости служить ей и быть верным до конца своих дней. Он улыбался им, и они улыбались ему. Он жал им руку, и они отвечали пожатием. Он приходил к ним домой, чтобы тем самым засвидетельствовать свое особое к ним расположение, и они приходили к нему. Покойная жена-страдалица Прасковья собирала на стол, они сидели и мирно беседовали обо всем, что могло всех их интересовать.
Они его и предали. Да, именно они – те, кому он более всего доверял.
Нет, они его не предали, потому что он не был врагом своего государства, своего народа. Они его о-го-во-ри-ли!
Размышляя обо всем, что с ним случилось, Маркин вспоминал и другую формулу другого известного советского писателя – Владимира Солоухина: невиноватых не было.
Если верить Солоухину, то и он так же был виноват в том, что его взяли в том зловещем, урожайном на подлость и предательства тридцать седьмом.
Значит, где-то потерял бдительность и допустил близко до себя эту подлость и это предательство в человеческой плоти и крови. Значит, работал так безоглядно и так самоотверженно, что породил в ком-то воистину звериную зависть, а вместе с тем и ненависть, вылившуюся в донос. Значит, не так жил, как надо было бы жить, чтобы в этой своей жизни исключить зависть и ненависть к себе. Значит.
Выходит, одни виноваты были в том, что строчили доносы на других, а другие виноваты были в том, что были излишне доверчивы и наивны – не могли же в самом деле оказавшиеся за колючей проволокой миллионы и миллионы невинных людей одновременно быть врагами народа. Народа, из которого они происходили, как происходят дети от матери и отца. Плоть от плоти, кровь от крови, любовь от любви.
Однажды со словами: «Читай, что о тебе пишут твои же товарищи, гнида» следователь сунул ему в руки исписанный листок бумаги. Маркин, с трудом разбирая чужой почерк, прочитал о себе следующее:
«Вышеуказанный гражданин Маркин, занимая пост заведующего отделом пшеницы, во вредительских целях должным образом не хранил семенное зерно. Температурный режим в хранилищах не соблюдался, крыши не ремонтировались. В результате чего всхожесть посевов упала до семидесяти процентов. Также в августе месяце агроном Маркин дал распоряжение работникам выстирать мешки под зерно селекционного материала в растворе формалина, якобы для обеззараживания от вредителей. Постиранные в этом растворе мешки вывесили просушить вблизи картофельного хранилища, устроенного в скале на берегу реки Ия. Формалин нанес вред здоровью людей, которые работали там. Сгнил и весь урожай в хранилище».
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе