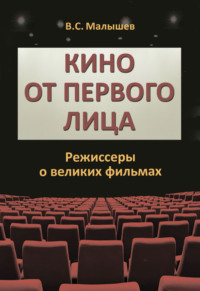Читать книгу: «Кино от первого лица. Режиссеры о великих фильмах», страница 3
Выживает. В самом конце фильма он, ушедший в народ, показан счастливым человеком… со стаканом портвейна на голове.

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Выжил? Мы не знаем. Не знает, повторюсь еще раз, и режиссер, но мы можем (а по моему разумению, и должны) все-таки решить, выжил он или нет. Дело ведь в том, что нет ни недописанных романов, ни оснащенных надежными ответами фильмов: романы дописывает читатель, а нужные, о т в е т н ы е, сцены доснимает зритель.
Мы ведь, господин читатель, все знаем, так ведь?
Да, но мы часто ошибаемся, потому что нам, гражданам еще недавно самой читающей страны в мире, нужен непременно с п р а в е д л и в ы й финал, а множество народа на всех континентах земли жить не может без помоечного, по определению Алексея Германа, «оскароносного» кино, которого не бывает без сладкого, как заменитель сахара, «Happy End».
Может быть, делаю я предположение д л я с е б я, человечество так устало от поисков истины, Бога, смысла, в конце концов, что создателям кино приходится, говоря порой серьезные вещи, заворачивать свое горькое лекарство в эту сладкую, беззаботно-радостных тонов эмоциональную упаковку счастливого конца? Так ли? Соглашусь ли?
Все-таки нет, не так. Потому что лекарство с нравственным витамином д о л ж н о быть горьким, иначе оно не действует. Если же художник уровня Бергмана или Германа пускается в длительный путь, то он всегда – по пересеченной и неизвестной местности, а никак не по комфортным расчерченным трассам, на ухоженных обочинах которых то и дело мелькают увеселительные заведения.
Более того, такого уровня художники – это своего рода сталкеры; полагаю, что ассоциация исчерпывающе полная. Совсем по другому поводу, но удивительно точно сказал Маяковский: «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» В нашем случае сталкеры – это открыватели новых территорий, познаватели новых (либо древнейших, вписанных в тайную строку ответственного за вечность кода хромосомы) свойств человека, находящегося в разной мере приближенности к Богу или отдаления от Него.

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Мне хочется поразмышлять вот по какому поводу: Герман называет Бергмана «режиссером старых людей, которые должны с этим миром расстаться через какое-то время». И говорит далее, что именно поэтому ощущает, что: «Он помог мне. Я почувствовал, что человек думает то же самое, так же страдает, так же боится. Так же мечтает о таком бергмановском рыцаре, вознесенном на небо, который будет в шахматы играть со смертью. И я вдруг почувствовал брата».
Не думаю, что вдруг. Герману нужно было творчество Бергмана еще в молодые годы, когда душа легкокрыла и когда эта легкокрылость может выразиться либо в беззаботном порхании, либо в напряженном, мучительном полете в зенит, где каждый метр высоты требует своей дозы крови.
Человеку не так просто определить, стар он или нет. Скажу парадоксальную на первый взгляд вещь: человек стареет в середине жизни, когда за спиной остается молодость. Он начинает понимать, что старение не только возможно, но и неотвратимо. Перейдя экватор жизни, личность уже не стареет – незачем ей это. Советское «не стареют душой ветераны» до краев наполнено смыслом. Трагедия старости, как известно, в том, что ее нет – душа остается молодой.
Потому и Бергман, и Герман – это художники и на все, скорее всего, времена, и на все возрасты, «покорные любви», – покорные любви к истине, к искусству и к жизни.
Много до нас было сказано о том, что Ингмар Бергман «обречен» был стать киноинтерпретатором идей экзистенциализма Кьеркегора. Не без внутренней усмешки вспоминаю в связи с подобными утверждениями следующие глубоко философские строки: «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет».
Философия (оно, разумеется, так) – королева наук, но, господа, кино ведь является важнейшим из искусств.
Не обрамляю цитату «самого человечного человека» кавычками для того лишь, чтобы выпустить мысль на волю, освободив ее от слишком тесной привязки к практическим нуждам идеологии.
Через творчество художник продляет свою жизнь, с п а с а е т душу, он, да простится мне это сравнение, проповедует с экрана и тем самым с п а с а е т нас, если, конечно, проповедь его ясна. Здесь вспомню преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Герман говорит: «Я объясняю связь именно с Бергманом почему… Как-то так просто, как-то так незатейливо, такая какая-то сказка, которая мне внедрилась в душу… будто я пошел и заснул, и мне это снилось, и стало легко и хорошо».
Сказано это о «Седьмой печати». Проповедь Бергмана сказавшему это, стало быть, ясна. И она была ясна еще в период творческой и жизненной молодости.
Потому – только ли старикам нужен Бергман с его, по определению Германа, промерзшей, северной душой? И почему тогда Герман говорит: «И я от этого подпрыгиваю!» – говорит после утверждения, что Бергман – это «режиссер старых людей».
А далее он сравнивает свое постижение Бергмана со свиданием с любимой женщиной, с тем состоянием, когда душа поет.
В чем тут дело? Откуда столь видимые, как кажется на первый взгляд, противоречия? Их, на самом деле, нет. Просто Герман верен своему способу творчества, в результате которого, по словам Петра Вайля, «глазу не охватить такое множество планов, привычно сосредоточившись лишь на переднем; ухо не улавливает многоголосый хор».

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Что же, надо превращать глаз в «широкоугольник», надо изощрять слух, чтобы внятно было многоголосье Германа.
Общим местом стали суждения о сложности киноязыка Алексея Германа. Но язык этот усложнялся со временем, и, например, «Проверки на дорогах», «Двадцать дней без войны» и «Мой друг Иван Лапшин» – вещи на нынешний день по языку совершенно прозрачные. Не делая сложное простым или (ни в коем случае) упрощенным, Герман делает свое суждение ясным.
К тому же стремится Бергман в «Седьмой печати»: сложнейшие для понимания вещи он говорит ясным языком притчи. Из нее же, мы знаем, каждый извлечет ту меру и смысла, и сложности, которая ему по силам, но несомненно тут одно: мера эта прибудет.
Вспомним вещие слова Екклезиаста: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Теперь подумаем, какая из этих работ труднее? Конечно, работа собирания. Она труднее работы разбрасывания, но она радостнее, если не сказать с ч а с т л и в е е.
Иногда, и чаще всего, камни эти разбросаны так далеко, что многие из них не видны. Но собирать – надо. Но ворочать их – надо. И напряжение становится мучительным, и когда рассказываешь об этой работе, то хочется, чтобы слушающий тебя почувствовал, каков он на самом деле – пусть счастливый, но тяжкий труд собирания камней.
Тогда и появляется мучительно трудный фильм «Трудно быть богом». Мучающий. Заставляющий не только сострадать, но и страдать.
Примем во внимание, в благодарное внимание, что нам досталось лишь видеть горький пот труженика-мастера, а пролил его великий Алексей Герман.
Он прошел свое испытание на дорогах, а потому, верю в это, счастлив в вечной жизни, как, тоже верю, счастлив в ней Бергман, как, уповаю на это, будем счастливы все мы, принеся Творцу мира не только свои грехи, но и свои камни.
Мир ведь продолжает строиться. Камни не собраны. Многого на земле нет, она (планета) «для счастья мало оборудована». Слишком уж старых зданий на земле тоже нет. Кроме самой земли все на земле – новодел.
Я решительно освобождаю это слово, по крайней мере в моем тексте, от пренебрежительного контекста; новодел – это молодо, это прекрасно, это потрясающе творчески дерзко.
Это то, что творится всегда молодой душой гения, душой, мудрой от рождения, от первой строчки, от первого кадра первого фильма.

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Мы продолжаем жить в моральном (а иногда и в материально-идейном – в некоторых районах мира) средневековье, если считать, а так оно и есть, что действительный век Просвещения – еще впереди. «Ода к радости» – она еще впереди. «Троица» Андрея Рублева – во всем ее бездонном смысле и в еще неосмысленном богатстве – еще впереди.
Мы в пути. Впереди нас по кремнистому пути идут гении.
Иногда удается пройти большой отрезок.
Ингмар Бергман
Мир, наверное, похож на огромный постоянно меняющийся узор – ты понимаешь, о чем я говорю? И точно так же должно существовать неограниченное множество реальностей, не только та реальность, которую мы воспринимаем нашими косными чувствами, а целое столпотворение реальностей, которые совмещаются, взаимопроникают, громоздятся поверх и вокруг друг друга. Только наш страх и наш здравый смысл заставляют нас считать, что они разделены непреодолимыми границами. На самом деле никаких границ нет. Ни для наших мыслей, ни для наших чувств. Мы просто боимся сами себя и сами возводим эти границы… Ведь когда ты играешь, например, медленную часть Двадцать девятой сонаты Бетховена, должна же ты чувствовать, что попала в мир, где нет никаких ограничений, что тебя влечет огромный поток движения, который ты не можешь ни разгадать, ни рассчитать».
Алексей Герман
Когда картина вышла, она прошла два странных этапа. Сначала все очень умилялись, и она поехала в Канн. В Канне все стали страшно плеваться. Практически никто ее и смотреть не стал, большинство людей встали и ушли. Газеты ставили нам «двойки» и «единицы», писали, что это гадость, и так далее. Я очень это дело переживал, конечно. Это было для меня непонятно. Тем более непонятно, что до этого всем нравилось. Президент фестиваля Жакоб совершенно официально и публично выступил с высказыванием, что это лучшее, что он видел за последние 20 лет, что это будет классикой через несколько лет. Мы взяли и улетели оттуда.
Как только я плюнул на все это, картина пошла в Париже. И вдруг как по мановению волшебной палочки 27 парижских газет в едином порыве (как будто большевики пришли) стали писать, что они не заметили фильм в Каннах, что это лучшее, что там было. А Liberation на первой странице извинилась, что не заметила фильм, что не заметила, как появился «северный Феллини», как не заметили «Тарковского» и все в таком духе.
Я абсолютно растерялся. Что, собственно, такого произошло, что все так развернулось? А произошло всего лишь то, что в который раз подтвердило знаменитое: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца.
Ингмар Бергман и Алексей Герман – сложнейшие мастера. Отношу себя к тому сообществу людей, которое любит и ценит их творчество именно за глубину и сложность, за напряжение мысли и чувства.
Георгий Данелия смотрит фильм
«Калина красная»

Какое все-таки наслаждение слышать и видеть эти монологи режиссеров о картинах, о других режиссерах. Иногда это разговор о товарище, о мастере своего же поколения, иногда о тех, кто давно уже в истории кино и кому «тесно» в этой истории в силу современности его творчества. Диалог, известно, не последняя вещь в кино. Что же тогда говорить о диалоге режиссеров! Мне представляется, что очень высок был заложенный в замысел коэффициент эффективности, насыщенности каждой ленты цикла «Фильмы нашей жизни».
В размышлениях Георгия Данелии о фильме «Калина красная» и о Василии Шукшине есть любопытный, метафорически насыщенный фрагмент: «…Мы стояли в коридоре с Сергиевской, это редактор, шел Шукшин, подошел. “Вы знакомы? Нет”. Мы познакомились. Потом как-то в другой раз я подошел, нас опять познакомили. Потом была игра такая: мы не здоровались никогда и каждый раз говорили, что мы незнакомы».
Вот это возобновляющееся, повторяющееся «знакомство» режиссеров (не только Шукшина и Данелии), вглядывание в творчество собрата по искусству – это и есть содержание их диалога в жизни и в творчестве. Отсюда переливы, перетоки смыслов, музыки, мысли, самого в е щ е с т в а кино, которые осуществляются на всем видимом протяжении самого светоносного ремесла в мире – кинематографа. Отсюда живой интерес и живое творческое соперничество в искусстве, где побеждает лишь подлинное мастерство.
Как, кажется, далеки они друг от друга: московский, при этом насквозь южный, теплый Георгий Данелия и суровый, при этом страстный, при этом внутренне деликатный, с сибирскими алтайскими корнями Василий Шукшин. Где «Не горюй!», а где «Калина красная»?
Рядом.
«Я записал (на магнитофон. – В.М.), – пишет Георгий Николаевич, – количество смеха на драме “Калина красная”. Я записал количество смеха на комедии “Афоня”. По времени смеха на “Калине красной” было больше».
В это трудно поверить, если исходить из обобщенного представления о творчестве Данелии и Шукшина, но это так. Здесь обнаруживается сплетение корней, системная общность творчески разного.
Игорь Масленников о картине «Не горюй!»: «Этот фильм, при всех его грузинских аксессуарах, при его воплощенном грузинском мире, на самом деле не грузинский. Этот фильм – ч е л о в е ч е с к и й, ложащийся на душу абсолютно любого человека. Не случайно фильм получал разные призы в разных городах и разных странах ».
И «Калина красная» – «наднациональный», хотя и бесконечно, органически русский фильм: по глубине страдания, по тоске о красоте жизни. И всемирно трагический, ведь смерть настигает начавшего наконец жить, а не мучиться человека. Это, да простится мне некоторая неловкость формулировок, происходит по всему миру и из века в век.
Фильм Данелии «Не горюй!». Прозвище Егора в «Калине красной» – Горе. Что-то есть, наверное, в русском языке, в русской жизни, что на материковом, глубинном уровне сводит лучи в фокус, рифмует внешне невидимой рифмой коды творчества.
Тем более что яркая, колоритная лента «Не горюй!» – она и о смерти, о смысле смерти и смысле жизни.
«Угнетай себя до гения», – говорил Шукшин. И еще: Говорят, когда хотят похвалить: «Писатель знает жизнь». Господи, да кто ж ее не знает! Ее все знают. Все знают и потому различают писателей – плохих и хороших. Но только по тому: талантлив и менее талантлив. Или вовсе бездарь. А не потому, что он жизни не знает. Все знают».
Все знают, да не каждый «угнетает себя». Снимаясь у Сергея Бондарчука в картине «Они сражались за Родину», Шукшин, это достоверно известно, решил полностью уйти в литературу. Это было осознание необходимого. Не был снят задуманный фильм «Я пришел дать вам волю».
К счастью, была снята великая картина – «Калина красная».
Слово Георгию Данелии
Выходит из колонии стро-гого режима вор-рецидивист по кличке Горе. У него была «заочница», с которой он переписывался. Заключенные любят переписываться, и, как правило, они коллективно сочиняют письма, и, как правило, сюжет этих писем одинаковый: я такой-то, бухгалтер, попал в тюрьму ни за что, я здесь страдаю, и так далее.
Девушка начинает отвечать, и вот длится эта переписка. Он попадает после колонии к «своим» в том городе, в который возвращается, но у них там неприятности, ему приходится бежать. А куда бежать? Он поехал к этой заочнице, с которой переписывался. А та действительно верила, что он бухгалтер, ни за что попал. Оказывается, чýдная женщина, несчастная судьба, муж у нее пьяница.

Режиссер Георгий Данелия. Среди его фильмов – любимые зрителем «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!»

Афиша фильма Василия Шукшина «Калина красная», 1974 год


Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная»
И в итоге она его полюбила, а он ее. И он хочет отойти от воровского мира, но этого ему не прощают, и его убивают.
Как ни странно, мне очень нравилось в кинематографе творчество Шукшина. Странно, потому что, ну полное различие. Я грузин, он русский. Я горожанин из горожан, москвич такой, я люблю асфальт. Я, когда попадаю на траву, неуютно себя чувствую. Он из Сибири, из деревни. И герои его оттуда. Но он настолько любил своих героев, они настолько интересны, что его литература и его фильмы мне очень близки.

На съемках фильма «Калина красная»
Я посмотрел «Живет такой парень», потом начал его читать, а я с ним не был знаком. И мы стояли в коридоре с Сергиевской, это редактор, шел Шукшин, подошел. «Вы знакомы? Нет». Мы познакомились. Потом как-то в другой раз я подошел, нас опять познакомили. Потом была игра такая: мы не здоровались никогда и каждый раз говорили, что мы незнакомы.
И вот звонок Сергиевской: «Приезжай, я тебя очень прошу. Будет худсовет, Вася в больнице, у него язва, он присутствовать не может, а очень важный худсовет – у него хотят закрыть картину». Я поехал на «Мосфильм», был показ двух пленок фильма «Калина красная», который пытались что есть мочи искорежить или вообще закрыть.
Посмотрел, вышел, а там, в коридоре в холодном, стоит Шукшин в больничной пижаме – он сбежал из больницы. Волновался, как пройдет просмотр. Я его обнял, прижал к себе, говорю: «Спасибо, спасибо». Он говорит: «Вот это особенно дорого, это особенно дорого».
Второй раз я пошел смотреть фильм с магнитофоном, я ведь один раз смотрел материал на «Мосфильме», а второй раз – фильм готовый. Я записал количество смеха на драме «Калина красная». Я записал количество смеха на комедии «Афоня». По времени смеха на «Калине красной» было больше.
Очевидно, вот это сочетание юмора с трагедией – я пытаюсь тоже, у меня не всегда получается – это очень трудно, но у него получилось блестяще. Очень много юмора в «Калине красной». Не зря он его нарядил в какой-то пиджак, брюки идиотские, короткие. До этого он был нормально одет: в куртке кожаной, в сапогах, он выглядел ладно. Из-под брюк носки видны, пиджак длиннее, чем надо, и кепка. Вот он и пошел искать себе возлюбленную в таком виде.
Посмотрев картину, я эмоционально настолько завелся… Я знал, мне Сергиевская сказала, что врагов много и картину хотят прикрыть. Я так агрессивно выступил, что они решили промолчать, чтобы не было скандала или крупного конфликта. Было видно по мне, что я готов горло перегрызть.
Почему придирались к этой картине, я не знаю. Там все сделано по схеме советской драматургии – если выходит на свободу вор, то он должен исправиться. Схема выдержана, схема советской драматургии…
Я же вырос в Москве, во время войны. Мои одноклассники почти все кончили свою жизнь в тюрьмах, в лагерях. Безотцовщина, голод, многие начали воровать, пошли по этому пути…
А отношение к этому герою – сколько в этом любви, сочувствия к его жизни, к биографии, а за его биографией встает биография страны. Вот эти несчастные крестьяне, которые голодали; эта история с коровой, которой вспороли живот.
…Вы знаете, как говорят: «У нас там застрелили одного, машина проезжала и застрелили. Сколько? Одного? Всего-то?» Мы привыкли, что бесконечно убивают по жизни: сидели в ресторане, стояли в очереди. Убили. Убили. Само слово «смерть», если оно не касается конкретного человека, с которым ты знаком, оно проходит мимо тебя. И поэтому те смерти на экране, которые мы смотрим, видим – мы реже, а кто-то чаще, – они не вызывают никаких эмоций. Потому что умирают те люди, которые вам безразличны, вам совершенно наплевать, убьют этого героя или останется он живой. А у Шукшина мы героя настолько полюбили, его так жалко, так хочется, чтобы он выжил.

Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная»

Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Вот она и вся разница. Мы не изменились, герои изменились на экране. Я читал, что у него герой ищет смерти все время, он хочет умереть. И поэтому, когда там опасность со стороны милиции, он берет всю погоню на себя. Он побежал, а остальные остались. Побежал, чтобы в него стреляли. Он сознательно хочет смерти. И когда приехали бандиты, он мог не вылезать из этого трактора, он мог уехать.
Если разобрать режиссуру отдельно, то по пятибалльной оценке я бы поставил четверку. Но в целом картина, она на пятерку с плюсом. Ведь что называть режиссурой? Ловкий монтаж? Хорошую игру актеров? Выстроенный четко сюжет? Иногда какие-то находки запоминающиеся? Или общее – попал в десятку человек или нет.

Кадр из фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Шукшин попал в десятку. То, что он хотел сказать, он сказал просто, доходчиво, и когда смотришь, то забываешь, что у фильма есть оператор, режиссер, костюмер, гример. А смотришь и следишь за героями: что с ними происходит, волнуешься за них, переживаешь. Смеешься над ними. Вот это все и есть главное. Потом, Шукшин – народный. Как его хоронили, Шукшина. Так еще Высоцкого…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе