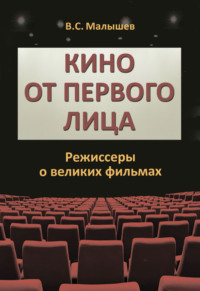Читать книгу: «Кино от первого лица. Режиссеры о великих фильмах», страница 2
Алексей Балабанов смотрит фильм
«Стрелочник»

Монолог о кино, «о времени и о себе» Алексея Балабанова заканчивается характерно и емко: «Правда в том, что ты живешь определенный промежуток времени с кинематографом и накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь».
В этом смысле кинозритель словно бы и равен кинорежиссеру, потому что тоже накапливает от фильма к фильму свой капитал впечатлений, мыслей, образов, нашедших отклик в душе. Накапливает в том числе свою кинозрительскую квалификацию. Кто-то остается приверженцем любимого жанра, кто-то из кинозала уходит к телевизору, а кто-то – и это, видимо, наиболее интересный для настоящего кино тип зрителя – растет в умении постигать и язык, и философию кино.
Продолжая вчитываться в монолог Алексея Балабанова (и вглядываться в человека в картине «Алексей Балабанов и “Стрелочник” Стеллинга»), продолжим курсивом избирательное цитирование с совсем краткими нашими комментариями.
«Я ходил смотреть все огульно – все, что выходило».
Кинозритель 1959 года рождения принадлежит к тому поколению, которое именно х о д и л о в кино, потому что тогда не было возможности посмотреть или просто даже насчитать в телепрограмме десятки фильмов в день, а в Интернете – тысячи. Это послевоенное по сути и ментальности поколение л ю б и л о кино. И если эта неизбежная любовь приходила к человеку ярко талантливому, каким был Алексей Балабанов, если после военно-переводческой службы на суше и на море хватило воли и зова уйти в кинематограф, то скажем, что повезло и Балабанову, и кинозрителям.
«В кино я находил те коды, которые любил в литературе…»
При этом только два первых полнометражных фильма Алексей Балабанов снял по мотивам литературных произведений Сэмюэля Беккета и Франца Кафки. Но ведь речь о тех кодах, которые подразумеваются изречением: «Вначале было слово». Это не преувеличение масштаба, потому что библейская истина никакими масштабами и линейками и не измеряется, к счастью.
«Когда коммерческий кинематограф достигнет какого-то этапа, когда люди объедятся им, тогда они будут искать какие-то другие формы. Когда наедятся сериалами… Важно, чтобы это была киноаудитория, чтобы эти люди ходили на наше кино».
«Чтобы люди ходили…», «Я ходил смотреть…».
Так замыкается круг, в центре которого человек поразительной режиссерской судьбы – абсолютно оригинальный, удивительно цельный талант, сумевший в кино с т а т ь с о б о й, сохранить собственную единственность – то, что глубже и полнее индивидуальности.
Подразумеваемый этап коммерческого кинематографа, время, «когда люди объедятся им», – наступит ли он хоть когда-нибудь? Гадать не будем. Важнее сказать, что Балабанов своими фильмами воспитал своих кинозрителей, привел их не в условный артхаус, к которому его иной раз причисляют, а именно в высокий дом искусства. Искусства кино.
Определенность почерка и стиля всегда лучше, чем усредненный «добротный уровень» с его уж слишком узнаваемыми приметами. Экран, скажем так, может постепенно блекнуть именно от фильмов среднего качества. Нужен яркий луч. «Балабанов шел по прямой… по лучу», – отмечал Никита Михалков.
Яркий талант смотрит окрест себя шире, чем смотрит мастеровитость. Потому, наверное, что сам с в е т и т. Свет этот проникает и в темные углы души и жизни человеческой, чтобы не болезненно любоваться ими, а исцелять горьким лекарством, ибо «сахар» в искусстве вреден.
Юрий Норштейн (говоря о фильме «Мы из Кронштадта») рассуждает словно бы и о творчестве Балабанова – в глубоком контексте: «Есть какая-то постоянная величина, она утоплена сейчас, но она существует, она есть. Это если шарахнут по музею, если окончательно перестанут читать настоящую литературу… то все равно это кончится. Кончится безумство. И вдруг увидят, что есть слово, – понимаете? Первым было Слово.
Не должно быть лубочности, не должно быть золотушности. Сегодня идет переедание “сахара”, и чувства, и мысли – и люди становятся золотушными. Вот в этом смысле не хватает трагизма. Человек должен получить трагизм, чтобы очиститься».
Сергей Сельянов, продюсер и друг Алексея Балабанова, назвал его русским гением. При жизни в высоких оценках из уст больших художников недостатка тоже не было. Не было недостатка в разных, иногда вразносных мнениях. Этот спектр – от восхищения до отторжения – сам по себе характерен для оценки яркого, огромного таланта, погруженного в творчество не только за сценаристским столом, но и на съемочной площадке.
Нам представляется, что именно этот процесс творчества и запечатлен в ленте «Алексей Балабанов и “Стре-лочник” Стеллинга».
Слово Алексею Балабанову
Давайте начнем с начала, со времени, когда живет человек. В свое время, когда я начал ходить в кино, я учился в институте в Нижнем Новгороде. Я ходил смотреть все огульно – все, что выходило. И «Стрелочника» я посмотрел, и там придумок очень много, а потом «Летучий голландец» – ну, это более серьезная картина.
Влияния нет, наверное, никакого, потому что я уже тогда, собственно говоря, все придумал. Режиссерский сценарий был готов, я знал, что и как буду делать. Мне понравилось, что этот человек в то время близко со мной «дышал» – раньше меня, похоже, скажем так.
Человек рассказывает об абсолютно вечных ценностях, очень простых и ясных, но при этом под очень странным углом. Интересно это, если учесть, что я очень люблю Сэмюэля Беккета, Франца Кафку… Ты сначала же читаешь книжку – так в моей молодости было, – ты находишь какие-то вещи в литературе, а потом обнаруживаешь их в кино. И тебе нравятся такие фильмы, потому что ты готов принять такую форму. Я пришел именно через литературу, а не через театр. Я театр как не любил, так и не люблю совершенно. Это совершенно чуждая кинематографу область искусства, скажем так.

Режиссер Алексей Балабанов, известный зрителю по фильмам «Брат», «Брат-2», «Груз-200» и «Морфий»


Кадр из фильма Йоса Стеллинга «Стрелочник»
В кино я находил те коды, которые любил в литературе, что отвечало моим пристрастиям. Абсолютно маргинальное кино, так же как и «Про уродов и людей», никогда не будет нравиться в нашей стране, а в Англии фильм с успехом прошел в кинотеатрах. Странно, но…
Люди, которые не смотрят сериалы и всякие программы, понимают, что мои фильмы ближе к реализму. Мера условности – в самой, скорее всего, истории, а не в пластике актеров, кто как двигается. Там странности есть – они ближе к фильму «Счастливые дни», чем к этой картине.
Странное поведение… Кажется, от человека ждешь в определенный момент вот такого поведения, а он почему-то поступает совершенно по-другому.
Про любовь, про таких людей странных… Они все странные, просто это мера условности, которую находит режиссер, и он потом в ней играет. Если бы подобный эпизод был в каком-нибудь нормальном фильме, скажем так, американском, всех бы дернуло, потому что это с определенной точки зрения идиотизм, а если все построено на этом уровне, то, приняв этот мир условностей, забываешь об этом – и все.


Кадры из фильма Йоса Стеллинга «Стрелочник»

Кадр из фильма Йоса Стеллинга «Стрелочник»
Я нерациональный человек. Мне бы не понравилось, если бы там не было чувства. Режиссер своих героев любит. Во всяком случае, он испытывает к ним какие-то добрые чувства, и это передается. Кино про любовь нельзя снимать без теплых чувств. Одно дело – когда ты снимаешь про каких-то бандитов, а другое дело – когда ты снимаешь про любовь. Совсем разные подходы: либо ты фиксируешь, либо ты вкладываешься.
Существуют подходы рациональный и эмоциональный. У Стеллинга подход скорее эмоциональный – хотя он хороший режиссер, у него все точно и ритмично, он считается классиком, наверно. Какая у него аудитория, я не знаю – может, у него фестивальная аудитория только. В нашей стране нет зрителя на такие фильмы, у нас нет арт-аудитории, потому что у нас пока недостаточно развита вот эта вот коммерческая кинематография. Если она будет развиваться дальше, то немедленно возникнет альтернатива – это естественный процесс, у нас он пока затормозился.

Кадр из фильма Йоса Стеллинга «Стрелочник»
Когда коммерческий кинематограф достигнет какого-то этапа, когда люди объедятся им, тогда они будут искать какие-то другие формы. Когда наедятся сериалами… Важно, чтобы это была киноаудитория, чтобы эти люди ходили на наше кино.
Если честно, то мне нравится огромное количество других фильмов, совершенно противоположных. Просто этот фильм выделяется из ряда других, которые мне нравятся. Мне нравится фильм «Гладиатор», как и большинству народа. Я люблю широкомасштабное кино. Вы просто спросили, кто нравится, – я сказал: Стеллинг.
Кто-то скажет: Эйзенштейн, «Стачка». Я, если бы придумал эту сцену с лошадью на мосту, был бы счастлив, наверное. Это круто.
Правда в том, что ты живешь определенный промежуток времени с кинематографом и накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь.
Алексей Герман смотрит фильм
«Седьмая печать»

Однажды заметил: три фильма Алексея Германа (здесь и далее речь идет об Алексее Германе-старшем) несут в названии пусть внешне случайное, но по-своему явное родство с фильмом «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. Это «Седьмой спутник», «Проверка на дорогах» и «Трудно быть богом». Второй фильм из этого краткого списка здесь вот почему: герои «Седьмой печати» тоже ведь проходят проверку на дорогах. Тех, что ведут, – куда?
К Богу, к смерти, к вечности, к спасению? К свету или к тьме? На земляничную поляну или на смертный костер?
О третьем же фильме – «Трудно быть богом» – разговор впереди. (Хотел бы здесь заметить, что это эссе не претендует на научный подход. О творчестве Ингмара Бергмана и Алексея Германа существует огромная литература, в этой сфере циркулируют как устоявшиеся концепции, так и новые оригинальные исследования и подходы. Моя задача достаточно локальна: я пишу о своих впечатлениях и излагаю мои мысли, не имея целью внести собственно научный вклад в исследование наследия выдающихся мастеров кино.)
Также впереди разговор и о фильмах «Двадцать дней без войны» (в «Седьмой печати» тоже обходится без войны) и «Хрусталев, машину!» (герой которой, назначенный продлевать жизнь временно великим мира сего, бежит от смерти – как бежит от нее, избегает ее тот, кого проницательная критика иногда называет действительным г л а в н ы м героем «Седьмой печати», – акробат, жонглер, проще говоря, а р т и с т Юф).
И фильм «Мой друг Иван Лапшин» мы как бы увидим в несколько новом, неожиданном, может быть, свете – в свете творчества Бергмана.
Бергман и Герман (и здесь созвучие) задают открытые вопросы, не давая очевидных ответов, – по той, думается, причине, что ответов этих столько, сколько как минимум людей видело их главные фильмы. Размышляя о творчестве великих мастеров кино, думаю, что фильмы эти, в качестве принадлежащих к высшим достижениям киноискусства, и есть вопрос, а не ответ. Так же как, например, литература – не лекарство, а боль.
Приходит на ум лукавое, совершенно некорректное сопоставление с социологией, в которой нужный (а не истинный) ответ можно получить, соответствующим образом формулируя вопрос. Эта практика существует, увы. Разница между режиссером и социологом в том, что режиссер и сам не знает, к а к о й ответ он хотел бы получить. Мы явно не можем, не имеем права упрощать наше суждение до элементарного или даже примитивного: режиссер отстаивает (защищает, изображает, создает) нравственные идеалы. Борется за них.
Оставим, повторюсь, этот по-своему комфортный, но, очевидно, пустозвонный уровень. Режиссер если что и создает, так это только фильм. Мы – люди в кинозале, люди в жизни – делаем нашу тяжелую работу у кого сколько сил хватает, по постижении идеалов. Мы творим идеал в нашем сознании, в нашем миропонимании, в нашем разговоре с вечностью.
Зачем тогда кино, зачем гениальные режиссеры и их бессмертные фильмы?
Затем, чтобы душа получила импульс к познанию. Душа болит у каждого, у кого она есть. Это нормально. Если душа спит, значит, человек нездоров. Спящая душа – мертвая душа. В медицине остановившееся сердце запускают мощным разрядом тока, тело при этом проходит через миг содрогания.
Гениальный фильм – это разряд животворного тока для души спящей, это громадный приток сил для души-труженицы, это сильные крылья для души, творящей полет за тем самым идеалом, о котором шла речь.
Гениальный режиссер вырабатывает этот ток. Он накладывает на кожу золотую клемму. Он подает напряжение. На теле после разряда остается видимый след – в нашей метафоре это память. А сердце после разряда начинает работать. Оно прошло свою трудную проверку на дорогах.
Режиссер дарит нам возможность прожить, принимая его героев, его образ мира, разные жизни. Зачем? Не единственный, но возможный ответ: чтобы мы могли осознать свое «Я» как часть всемирного «МЫ». Всемирное растворено, например (или сконцентрировано), в этике, в ее «золотом правиле», гласящем: «Как ты хочешь, чтобы обращались с тобой, так и ты поступай с другими». Всемирность правила подтверждается еще и тем, что независимо друг от друга его сформулировали Конфуций, греческие мудрецы, еврейские пророки, оно есть в Евангелии от Матфея, в Деяниях апостолов…
Всемирность правила и в том тоже, что нет на земле ни одного человека в ясном уме, взявшегося бы опровергать его. Но нам бесконечно интересны варианты отступлений от этого правила. Их изучением, собственно говоря, и занимается искусство. Искусство кино в нашем случае. Мы читаем историю моральных болезней мира, напряженно высматривая в ней рецепты верных лекарств.
Мысль моя сводится к тому, что режиссер есть строитель миров – внешне зыбких этих экранных миров, миров придуманных, отрепетированных, снятых на пленку, на «цифру», – миров как бы и не существующих, но вот именно что «как бы».
Я переверну смысл: как бы существующих.
И в завершение отброшу это «как бы».
Ибо эти миры действительно существуют, взаимодействуют, называются своими именами (мир Бергмана, мир Германа), и они настолько реальны, что в иные из них мы заходим не один и даже не два раза, а иные, единожды посетив после покупки билета в кино, забираем с собой в свой так называемый «внутренний мир».
На самом деле внутренний он настолько, насколько внутренней является сота в улье. Или струя в потоке. Или капля в ливне. Это не обидно, о капле. У воды, пишут ученые, столько чудесных и необъяснимых свойств. У человека их много больше, я убежден.
И то еще важно для верующих и неверующих, что у Бога все люди живы, все капли сочтены, и после дождя их жизнь – новая – длится. (Если есть среди моих читателей атеист, то пусть простит, а лучше – поймет меня. Он, возможно, считает, что и без Бога проживет. Вольному воля. Но в данном случае вопрос в том, что искусство занято Богом уже долгие века, случайно ли… Случайно?) Случайно ли о Боге и вере размышляли два великих мастера, о которых мы говорим?

Афиша фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать», 1957 год
Слово Алексею Герману
В принципе в первую половину жизни я ориентировался в кино на Бергмана, Куросаву и Феллини. Все, что у нас было, я заставлял группу смотреть по два раза. А потом мы работали в Репине, давно уже, и там была такая Люба Аркус, она занимается журналом «Сеанс», и у нее было много картин Бергмана. Я эти фильмы знал, и не то чтобы Люба мне что-то открыла, – я ведь был всегдашний посетитель организации под названием «Белые Столбы».
Перед каждой нашей большой картиной мы туда ездили и смотрели один и тот же набор: обязательно «Фанни и Александр», обязательно «Седьмая печать». Мы ездили каждый день; когда были молодые – на электричках, когда постарше – на автобусе. Поэтому я оттуда много узнал. Я не вгиковец, я кино не знал. А потом, позднее, я стал смотреть Бергмана, и он на меня совершенно по-другому подействовал. К старости мы все уравниваемся, и если Бог что придумал толкового (в целом мир весьма бестолковый), так это смерть. Потому что начинаешь об этом думать, начинаешь какие-то итоги подводить, начинаешь предполагать, что будет с тобой. Кого ты любишь, кого не любишь, что суета. Я вдруг стал понимать, что эти фильмы – их снимал молодой человек, – эти фильмы, они сейчас здорово мне созвучны. Тому, что я понимаю, что я ощущаю, тому, чего я боюсь.

Режиссер Алексей Герман («Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом»)

Ингмар Бергман на съемках фильма «Седьмая печать»
Для старых людей, которые задумываются о чем-то, требуется, наверное, промерзшая, северная душа Бергмана. Большой художник, он всегда соприкасается с Господом каким-то способом. Кто-то написал, что талант – это лужа, в которую плюнул Господь. Большой художник – это и есть та лужа, в которую плюнул Господь. Бог один, и во все эти штуки я не верю, что католический Бог – плохой, а наш христианский Бог – хороший.
Бергман – это режиссер старых людей, которые должны с этим миром расстаться через какое-то время… Может, я еще двадцать лет проживу – никто не знает. Но этим он меня и взял. И теперь это стал мой режиссер. Я в нем обнаружил какого-то старшего человека, который озабочен тем же, что и я.

И я от этого «подпрыгиваю». Знаете, когда ты идешь с женщиной, допустим (чего давно не происходило… Светлана… мы любим друг друга), и вдруг она высказывает то, о чем ты сейчас думаешь, и если ты еще и влюблен… И вот у меня с Бергманом эти отношения сложились. Он помог мне. Я почувствовал, что человек думает то же самое, так же страдает, так же боится. Так же мечтает о таком бергмановском рыцаре, вознесенном на небо, который будет в шахматы играть со смертью. И я вдруг почувствовал брата. Хотя он режиссер великий. От страха смерти никто не поможет. Такая мы песчинка на этом белом свете… Я объясняю связь именно с Бергманом почему… Как-то так просто, как-то так незатейливо, такая какая-то сказка, которая мне внедрилась в душу… будто я пошел и заснул, и мне это снилось, и стало легко и хорошо.
Про Господа думаешь, про идеал… Думаешь: что же ты делаешь, Господи? Думаешь: может, и Он не всем управляет?
Гоголя возьмем, хотя это совершенно другой жанр. Со смертью игра…
Когда касаешься высокого, жанров нет.
Если бы Бергман рассказал об этой картине… Она ведь легко смотрится. Поразительно легко. В ней та прелесть… как будто тебе кислородную трубку поднесли. Равных этому фильму нет. Если бы его разрекламировать… А сейчас кино для братвы и рекламные агентства «для братвы».
Послушайте, из вас делает дурака это кино. Драка, поймали, насильник бегает, клонирование. Шесть «Оскаров», семь «Оскаров»… Бросьте это, это помоечники вам дурачат голову.
Но Россия… Она была самая читающая страна, она была страна сравнительно умных людей. Мы были явно умнее американцев. Умный русский и умный американец – это одно и то же. Но там всерьез, допустим, врачи могут спорить, как Шварценеггер сыграл какую-то очередную…
В России – посмотрите, восстановите это для себя – великий мир искусства, великий мир Бергмана, великий мир Тарковского, великий мир Феллини. И попробуйте, хотя бы попробуйте, восстановить. Ведь от глупого человека родится глупый человек, а от него – еще более глупый, и так до уровня мышей мы дойдем.
Насильно здесь ничего не сделаешь, но надо смотреть хорошее кино.
Мысль простая и великая. Речь ведь не о том, чтобы объединить попкорн из кукурузы с кинопопкорном, речь – о «хорошем кино», а что такое для Алексея Германа хорошее кино, мы благодаря этому монологу ясно представляем. Речь о том, что, как говорится в пословице: «Помирать собрался, а рожь сей». Глядишь, и не умрешь, с рожью-то. Сей в душе, сей в разуме, хорошее кино – хороший сеятель.

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Перечитывая сейчас Германа, ловлю себя на том, что объединяю его с Бергманом в некое целое и что слова о Бергмане – это для меня слова и о Германе. Вот это: «Кого ты любишь, кого не любишь, что суета. Я вдруг стал понимать, что эти фильмы – их снимал молодой человек, – эти фильмы, они сейчас здорово мне созвучны. Тому, что я понимаю, что я ощущаю, тому, чего я боюсь».
Герман говорит о ясности, о «прелести» «Седьмой печати» – фильма, числящегося в сложнейших для постижения. Здесь нет противоречия: притчи всегда просты, всегда просты молитвы, но сокрытый смысл их – громаден. Истина всегда проста, путь к ней – сложен неимоверно, мучительно, иногда смертельно тяжел, не каждому по плечу. Не каждому человеку.
Не каждому режиссеру, в особенности взявшемуся сказать своим фильмом нечто о Боге. «Трудно быть богом», – говорит Герман.
На самом деле т р у д н о б ы т ь ч е л о в е к о м, сказал Герман. Трудно быть человеком в том адском мире, где действует его герой.
Трудно постичь Бога в тех мирах, которые даны героям Бергмана и Германа, – может быть, и невозможно, ибо в двух этих мирах люди, созданные Творцом по его образу и подобию, может быть, и имеют черты образа Творца, но в чем их подобие Творцу?
В страдании? В спасении?
Возможно, так. Ответа, повторюсь, большие художники не дают. Нам же легче найти различия между Творцом и его подобиями, и различия эти охватываются понятием греха. Творец безгрешен, и грехи людские Он берет на себя. А люди – грешны и лукавы.
Где их стремление к искуплению греха?
Его нет или исчезающе мало, потому и т р у д н о б ы т ь б о г о м, когда люди не хотят быть подобием бога.
Отправляя героев в последний поход, кого оставляет Бергман жить? Артиста Юфа, жену его Миу и сына их – маленького Микаэля. Безгрешных. Вот из сценария:
«Юф и Миа лежат, прильнув друг к другу, и слушают, как дождь барабанит по парусине, хлещет. Стучит, тише, тише, и вот уже падают только редкие капли.
Оба выбираются из укрытия. Фургон стоит на горе, под раскидистым деревом. Они смотрят вдаль, через горные гряды, леса, долины и море, сверкающее под солнечными лучами, выбившимися из-за туч.

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Юф показывает рукой на темные тучи, прошитые блестящими нитями молний.
Юф: Миа! Я их вижу! Вижу! Там, в бурном, грозном небе. Они там все вместе. Кузнец, и Лиза, и Рыцарь, и Равал, и Йонс, и Скат. И грозный Повелитель – Смерть – их приглашает на танец. Всем велит взяться за руки и вместе танцевать. И первым идет сам Повелитель с косой и песочными часами, а Скат упирается, он позади со своей лютней. Они танцуют, танцуют и уходят прочь от восхода в темную страну, и дождь умывает их лица и стирает соленые слезы со щек.
Он умолк. И опустил руку.
Сын его Микаэль выслушал его речь, а теперь он тянется к матери и забирается ей на колени.
Миа (улыбается): Ой, ну вечно ты со своими видениями».
Что же, Юф видит видения, мы смотрим видения, называя их словом «кино». Если мы верим тому, что видим, почему Юфу не верить тому, что видит он?
Есть вопрос и посложнее: почему у Бергмана Миа не видит видения танца со Смертью?
Бог или Бергман не омрачают ее безвинное счастье ужасной апокалипсической картиной?
Почему это делает Бог, мы знать не можем. Почему это делает Бергман?
Бог в этом фильме молчит. А если он молчит, то и вера в него слепа и глуха, это фанатизм на крови, на безумии и жестокости. Если он и проявляет себя, то лишь в мучительных размышлениях Рыцаря, в наказании Мародера Оруженосцем и в спасении Юфа, Мии и Микаэля.
Много это или мало?
Этого – достаточно.
Страшные, чудовищные миры двух гениев, создавших «Седьмую печать» и «Трудно быть богом», не случайно схожи. Это две интерпретации одной мысли: жизнь страшна, потому что ее такой именно устраивают страшные люди – люди греха.
Выводить их на свет, тянуть за волосы, спасать одного из миллионов – бессмысленно и преступно, говорит Герман, потому что они должны пройти свой путь сами.
И по дороге многих, говорит Бергман, заберет Смерть.
Но кого-то художники оставляют жить. Блаженную троицу оставляет Бергман, а Герман в другом своем фильме – «Хрусталев, машину!» – оставляет жить Юрия Кленского, едва не убитого сталинщиной врачевателя Сталина. В этом фильме, когда его смотришь, понимаешь, что Кленскому выжить никак невозможно.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе