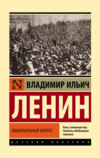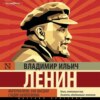Читать книгу: «Полное собрание сочинений. Том 30. Июль 1916 – февраль 1917», страница 5
7. Марксизм или прудонизм?
Нашу ссылку на отношение Маркса к отделению Ирландии польские товарищи парируют, в виде исключения, не косвенно, а прямо. В чем же состоит их возражение? Ссылки на позицию Маркса 1848–1871 гг. не имеют, по их мнению, «ни малейшей ценности». Это необыкновенно сердитое и решительное заявление мотивируется тем, что Маркс «одновременно» выступал против стремлений к независимости «чехов, южных славян и т. п.»23.
Мотивировка именно потому особенно сердита, что она особенно несостоятельна. У польских марксистов вышло, что Маркс был просто путаником, который «одновременно» говорил противоположные вещи! Это совсем не верно и это совсем не марксизм. Как раз требование «конкретного» анализа, которое польские товарищи выдвигают, чтобы не применять его, обязывает нас рассмотреть, не вытекало ли различное отношение Маркса к различным конкретным «национальным» движениям из одного и того же социалистического мировоззрения.
Как известно, Маркс стоял за независимость Польши с точки зрения интересов европейской демократии в ее борьбе против силы и влияния – можно сказать: против всесилия и преобладающего реакционного влияния – царизма. Правильность этой точки зрения получила самое наглядное и фактическое подтверждение в 1849 г., когда русское крепостное войско раздавило национально-освободительное и революционно-демократическое восстание в Венгрии. И с тех пор до смерти Маркса, даже позже, до 1890 года, когда грозила реакционная война царизма в союзе с Францией против не империалистской, а национально независимой Германии, Энгельс стоял прежде всего и больше всего за борьбу с царизмом. Поэтому и только поэтому Маркс и Энгельс были против национального движения чехов и южных славян. Простая справка с тем, что писали Маркс и Энгельс в 1848–1849 гг., покажет всякому, кто интересуется марксизмом не для того, чтобы отмахиваться от марксизма, что Маркс и Энгельс противополагали тогда прямо и определенно «целые реакционные народы», служащие «русскими форпостами» в Европе, «революционным народам»: немцам, полякам, мадьярам. Это факт. И этот факт был тогда бесспорно верно указан: в 1848 г. революционные народы бились за свободу, главным врагом которой был царизм, а чехи и т. п. действительно были реакционными народами, форпостами царизма.
Что же говорит нам этот конкретный пример, который надо разобрать конкретно, если хотеть быть верным марксизму? Только то, что 1) интересы освобождения нескольких крупных и крупнейших народов Европы стоят выше интересов освободительного движения мелких наций; 2) что требование демократии надо брать в общеевропейском – теперь следует сказать: мировом – масштабе, а не изолированно.
Ничего больше. Ни тени опровержения того элементарного социалистического принципа, который забывают поляки и которому всегда был верен Маркс: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы24. Если конкретная ситуация, перед которой стоял Маркс в эпоху преобладающего влияния царизма в международной политике, повторится, например, в такой форме, что несколько народов начнут социалистическую революцию (как в 1848 г. в Европе начали буржуазно-демократическую революцию), а другие народы окажутся главными столпами буржуазной реакции, – мы тоже должны быть за революционную войну с ними, за то, чтобы «раздавить» их, за то, чтобы разрушить все их форпосты, какие бы мелконациональные движения здесь ни выдвигались. Следовательно, вовсе не отбрасывать должны мы примеры тактики Маркса, – это значило бы на словах исповедовать марксизм, на деле рвать с ним – а из их конкретного анализа выводить неоценимые уроки для будущего. Отдельные требования демократии, в том числе самоопределение, не абсолют, а частичка общедемократического (ныне: общесоциалистического) мирового движения. Возможно, что в отдельных конкретных случаях частичка противоречит общему, тогда надо отвергнуть ее. Возможно, что республиканское движение в одной из стран является лишь орудием клерикальной или финансово-монархической интриги других стран, – тогда мы должны не поддерживать это данное, конкретное движение, но было бы смешно на таком основании выбрасывать из программы международной социал-демократии лозунг республики,
Как именно изменилась конкретная ситуация с 1848–1871 по 1898–1916 гг. (беру крупнейшие вехи империализма, как периода: от испано-американской империалистской войны до европейской империалистской войны)? Царизм заведомо и бесспорно перестал быть главным оплотом реакции, во-1-х, вследствие поддержки его международным финансовым капиталом, особенно Франции, во-2-х, в силу 1905 года. Тогда система крупных национальных государств – демократий Европы – несла миру демократию и социализм вопреки царизму12. И бонапартизм и царизм используют мелконациональные движения в свою выгоду, против европейской демократии.
13.
14. Гортер против самоопределения своей страны, но за самоопределение угнетенной «его» нацией Голландской Индии! Удивительно ли, что мы видим в нем более искреннего интернационалиста и более близкого к нам единомышленника, чем в людях, которые так признают самоопределение – так словесно, так лицемерно признают самоопределение, как Каутский у немцев, Троцкий и Мартов у нас? Из общих и коренных принципов марксизма безусловно вытекает долг бороться за свободу отделения наций, угнетаемых «моей собственной» нацией, но вовсе не вытекает необходимость ставить во главу угла независимость именно Голландии, которая страдает всего более от узкой, заскорузлой, корыстной и отупляющей замкнутости: пусть весь свет горит, наша хата с краю, «мы» довольны нашей старой добычей и ее богатейшим «остаточком», Индией, больше «нам» ни до чего дела нет!
Другой пример. Карл Радек, польский социал-демократ, который снискал себе особенно большую заслугу своей решительной борьбой за интернационализм в германской социал-демократии после начала войны, в статье «Право наций на самоопределение» («Lichtstrahlen»25 – запрещенный прусской цензурой, леворадикальный ежемесячник, редактируемый Ю. Борхардтом – 1915, 5 декабря, III год, номер 3) восстает яро против самоопределения, приводя, между прочим, только голландские и польские авторитеты в свою пользу, и выдвигая в числе других такой аргумент: самоопределение питает ту мысль, «будто обязанностью социал-демократии является поддержка всякой борьбы за независимость».
С точки зрения общей теории этот аргумент прямо возмутителен, ибо он явно нелогичен: во-1-х, ни единого частного требования демократии нет и быть не может, которое бы не порождало злоупотреблений, если не подчинять частное общему; мы не обязаны поддерживать ни «всякой» борьбы за независимость, ни «всякое» республиканское или антипоповское движение. Во-2-х, нет и быть не может ни одной формулировки борьбы против национального гнета, которая не страдала бы тем же «недостатком». Сам Радек в «Berner Tagwacht» употребил формулу (1915, номер 253): «против старых и новых аннексий». Любой польский националист законно «выведет» из этой формулы: «Польша есть аннексия, я против аннексии, т. е. я за независимость Польши». Или Роза Люксембург, помнится, в статье 1908 г.26, высказала мнение, что достаточно формулы: «против национального угнетения». Но любой польский националист скажет – и с полным правом – что аннексия есть один из видов национального угнетения, а, следовательно, и т. д.
Возьмите, однако, вместо этих общих доводов, особые условия Польши: ее независимость теперь «неосуществима» без войн или революций. Быть за войну общеевропейскую ради одного только восстановления Польши – это значит быть националистом худшей марки, ставить интересы небольшого числа поляков выше интересов сотен миллионов людей, страдающих от войны. А ведь именно таковы, например, «фраки» (ППС-правица)27, которые социалисты только на словах и против которых тысячу раз правы польские социал-демократы. Ставить лозунг независимости Польши теперь, в обстановке данного соотношения империалистских соседних держав, значит действительно гоняться за утопией, впадать в узкий национализм, забывать предпосылку общеевропейской или, по крайней мере, русской и немецкой революции. Точно так же ставить, как самостоятельный лозунг, лозунг свободы коалиций в России 1908–1914 гг., значило гоняться за утопией, объективно помогая столыпинской рабочей партии (ныне потресовско-гвоздевской, что, впрочем, одно и то же). Но было бы сумасшествием удалять вообще требование свободы коалиции из программы социал-демократии и, пожалуй, самый важный пример. В польских тезисах (III, § 2 в конце) мы читаем против идеи независимого польского государства-буфера, что это «пустая утопия маленьких, бессильных групп. Будучи осуществлена, эта идея означала бы создание маленького польского обломка-государства, которое было бы военной колонией той или другой группы великих держав, игрушкой их военных и экономических интересов, областью эксплуатации чужого капитала, полем битвы в будущих войнах». Все это очень верно против лозунга независимости Польши теперь, ибо даже революция в одной Польше ничего бы тут не изменила, а внимание польских масс отвлечено было бы от главного: от связи их борьбы с борьбой русского и немецкого пролетариата. Это не парадокс, а факт, что польский пролетариат, как таковой, может помочь теперь делу социализма и свободы, в том числе и польской, лишь борьбой совместно с пролетариями соседних стран, против узкопольских националистов. Невозможно отрицать исторически-крупной заслуги польских социал-демократов в борьбе против этих последних.
Но те же самые аргументы, верные с точки зрения особых условий Польши в данную эпоху, явно неверны в той общей форме, которая им придана. Полем битв в войнах между Германией и Россией Польша останется всегда, пока будут войны, это не довод против большей политической свободы (и, следовательно, политической независимости) в периоды между войнами. То же относится и к соображению об эксплуатации чужим капиталом, о роли игрушки чужих интересов. Польские социал-демократы не могут ставить теперь лозунга независимости Польши, ибо как пролетарии-интернационалисты поляки ничего сделать для этого не могут, не впадая, подобно «фракам», в низкое прислужничество одной из империалистских монархий. Но русским и немецким рабочим не безразлично, будут ли они участниками аннексии Польши (это означает воспитание немецких и русских рабочих и крестьян в духе самого подлого хамства, примирения с ролью палача чужих народов) или Польша будет независима.
Положение безусловно очень запутанное, но из него есть выход, при котором все участники остались бы интернационалистами: русские и немецкие социал-демократы, требуя безусловной «свободы отделения» Польши; польские социал-демократы, борясь за единство пролетарской борьбы в маленькой и в больших странах без выставления для данной эпохи или для данного периода лозунга независимости Польши.
Ф. Энгельс. «Какое дело рабочему классу до Польши?» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 16, стр. 160).
Имеется в виду «Декларация» польских социал-демократов на международной социалистической конференции в Циммервальде (1915). В этой «Декларации» выражался протест против угнетательской политики царского самодержавия, немецкого и австрийского правительств, которые, «лишая польский народ возможности самому решить свою судьбу, рассматривают польские области как залог в предстоящей игре компенсациями»… «В этом, – говорилось в «Декларации», – с особенной грубостью проявляется сущность политики капиталистических правительств, которые, посылая народные массы на убой, вместе с тем самовластно определяют судьбы народов на целые поколения». Польская социал-демократия высказывала убеждение, что только участие в надвигающейся борьбе революционного международного пролетариата за социализм, «в борьбе, которая разорвет оковы национального угнетения и уничтожит всякие формы чужестранного владычества, обеспечит и польскому народу возможность всестороннего развития в качестве равноправного члена в союзе народов». Об этой декларации см. также настоящий том, стр. 369.
С 1906 года, в результате раскола ППС, образовались ППС-«левица» и ППС-«правица» («революционная фракция» – «фраки»), продолжавшая националистическую политику ППС. Во время мировой империалистической войны (1914–1918) и после нее «фраки» проводили национал-шовинистическую политику.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе