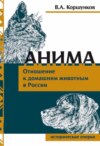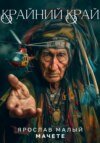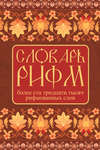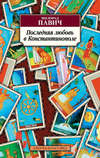Читать книгу: «Анима. Отношение к домашним животным в России», страница 3
Хлесь да хлесь
В статьях священника и краеведа М.И. Осокина о «народном быте» середины XIX века в северо-восточной части европейской России приводился разговор двух подвыпивших мужиков.
Возвращались они из соседней деревни, где пировали на празднике. Ехали и беседовали. Один жаловался на сына: мол, вырос, жених уже, а по хозяйству помогает плохо. Другой советовал проучить парня – побить его, даром что тот взрослый. И пояснял: «Ну, вот это, Степан, напримерно, кобыла твоя. Коли она плохо пробует гужи, ты её и тово… ух да ух, хлесь да хлесь; а кто тебе тут указ?» Тот подтвердил: «Подлинно»100. В общем, что сын, что скотина – если они твои, ты волен поступать с ними по своему разумению. Мужицкая мораль: как грозный царь со своими холопами – так и большак в семье.
В очерках Глеба Успенского «Волей-неволей» (1884) есть такой эпизод:
«Сели и поехали, то есть сначала сели, и сидели довольно долго, покуда мальчишка драл свою лошадь кнутом. Драл он её весьма долго, после чего она потянулась вперёд, потом ещё потянулась, а потом уж и сани поехали…
– Видно, кормишь плохо? – спросил лавочник.
– Знамо, плохо!
– Сена нету?
– Нету!
– Так! От этого она и нейдёт.
– Знамо, от этого. Кабы корм был, так пошла бы.
– Верно! – сказал лавочник.
И я подтвердил это. Всё тут понятно и правильно.
Мальчик постоянно должен был стегать лошадь кнутом и дёргать вожжами, чтобы принудить её страхом наказания исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая от каждого удара. Но у кабака она вдруг стала. Мальчонка стал опять изо всей силы стегать её и приговаривал:
– Это тятенька тебя, проклятую, приучил…»101
Рассказ А.Ф. Писемского «Плотничья артель» (1855) написан от первого лица, и в нём даны зарисовки из жизни деревенского поместья. Успеньев день в тамошнем приходе был престольным праздником. Все потянулись в село на богослужение. Барин выехал на своих лошадях. «Давыд, несмотря на мои просьбы и наставления, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравные и хорошо выезжанные, вылетели из сарая, как бешеные, так что он, повалившись совершенно назад, едва остановил их у крыльца. Я убеждён, что они жесточайшим образом нахлёстаны; кроме того, коренную он по обыкновению взнуздал бечёвкой, чтоб круче шею держала, а бедным пристяжным притянул головы совершенно к земле, так что у них глаза и ноздри налились кровью. Напрасно я восставал против этой его системы закладыванья: на все мои замечания он отвечал: “Господа так ездят, красивее этак!..” В настоящем случае я ничего уж не говорил, а только просил его, ради бога, не гнать лошадей, а ехать лёгкой рысью; он сначала как будто бы и послушался; но в нашем же поле, увидев, что идут из Утробина две молоденькие крестьянки, не мог удержаться и, вскрикнув: “Эх, вы, миленькие!” – понёсся что есть духу»102. Конечно, лошади – не Давыдовы, а барские. Кучер Давыд обрисован Писемским как «сильный бахвал и охотник до лошадей». По всему видно, что он и своих бы не слишком жалел, когда нужно было «проехать и пофорсить»103. Лошадям могло сильно доставаться от таких удальцов.
В романе Писемского «Тысяча душ» (1858) главный герой Калинович «тащился на сдаточных» в тарантасе из уездного городка в Москву. Севший к ним на одной из подмосковных станций новый ямщик был молодой парень, «недавно прогнанный с почтовой станции и всё ещё ездивший с колокольчиком». Ему дана выразительная характеристика: «В отношении лошадей он был каторга; как подобрал вожжи, так и начал распоряжаться». Это «распоряжаться» означало: вовсю нахлёстывать. Тарантас сильно затрясло. «У Калиновича, как ни поглощён он был своими грустными мыслями, закололо, наконец, бока.
– Что ж ты сломя голову скачешь? – проговорил он.
– Сердит я ездить-то, – отвечал извозчик…»104
В рассказе Писемского «Леший» (1853) наглядно представлены два простолюдина, которые держат себя с лошадьми очень по-разному. Вот дядя Захар – ему всего-то надо отправить домой лошадь, которую хотели было запрягать в тарантас, да передумали: «…Он вывел свою худощавую лошадёнку на половину улицы, снял с неё узду и, приговоря: “Ну, ступай, одёр экой!”, что есть силы стегнул её поводом по спине. Та, разумеется, побежала; но он и этим ещё не удовольствовался, а нагнал её и ещё раз хлестнул». Один из двух присутствовавших при этом чиновников, ради поездки которых лошадей и выбирали, был этой сценой недоволен:
«– Эй, ты, длинновязый, зачем ты лошадь бьёшь? – вскрикнул исправник.
– Что, бачка?
– За что ты бьёшь лошадь?
– Я, бачка, не бью её, а так только шугнул.
– Я тебе дам, шугнул! Эдакий лошадиный живодёр! Каждый год, сударь ты мой, лошади две заколотит… Только ты у меня загони эту лошадь, я с тобой справлюсь».
Случившийся там рыжий мужик одобрительно поддакнул: мол, Захар – «эдакой озорник на эту животинку, что и боже упаси!» Даже управитель барского имения, который, как потом выяснится, будет главным (и отрицательным) персонажем рассказа, за такое выказывал пренебрежение к мужикам: «Зверь бесчувственный, и тот больше понимает, чем этот народ, – заговорил он, – сколько им от меня внушений было, – на голове зарубил, что блажен человек иже и скоты милует… ничего в толк не берут!» Управителю возразил рыжий мужик: «Не все такие, – хоть бы и из нашего брата… може, во всей вотчине один такой и выискался». И действительно, второй тамошний мужичок, по словам рыжего, «по-другому живёт: сам куска не съест, а лошадь накормит; и мы тоже понимаем, что у скота языка нет: не пожалуется – что хошь с ней, то и делай»105.
Действие рассказа А.И. Эртеля «Поплешка» (1881) происходит на зимней дороге. За санями повествователя, от лица которого ведётся рассказ, увязались какие-то дровни, запряжённые худой лошадёнкой. «Из дровней выскочил мужичок. Неизвестно для чего ударив кулаком бедную лошадёнку, он побежал с нею рядом, вслед за нашими санями». Разговорились. А мужик время от времени стукал свою лошадь ещё и ещё. «Мы помолчали несколько минут, в продолжение которых мужичок, проворно переплетая своими ножками, подбегал к лошадке и бил её кулаком по морде, причём сердито и отрывисто крякал.
– За что ты её?
– Э… одёр!.. – неопределённо произнёс мужичок и неизвестно почему рассмеялся жидким, тщедушным смехом. Впрочем, несколько годя, как бы в оправдание, прибавил:
– Замучила, ляда…»106
У Н. А. Некрасова в первой части стихотворного цикла «О погоде» (1859) – показательная строчка: «Злость-тоску мужички на лошадках сорвут…»107
В общем, коли сам мужик плох, беден да неудачлив – так на лошади вымещает свою бесталанность. Ну, и на жене, конечно, тоже.
Литератор Ф.М. Решетников летом 1865 года совершил переход из Екатеринбурга в Пермь вместе с грузовым обозом. Разговорившись с возчиками, он выведал: «Каждый ямщик хорошо знает, что его лошадь только тогда идёт скорее, когда она простоится, отдохнёт, хорошо поест, а потом шагу не прибавит и пройдёт в час ровно четыре версты. Обозных лошадей стегают нежно и никогда не дерут нещадно, палки здесь не существуют. “Зато, говорил мне Верещагин, наши лошади не годятся для другой езды. Случается, што я возвращаюсь домой пустой, и тогда лошади не прибавят шагу, и я постороннему человеку ни за что не дозволю ударить мою лошадь кнутом”»108. Если обозных лошадей хозяева «стегают нежно», то это, конечно, не от сентиментальной жалости к нужным в хозяйстве добрым и понятливым животным, а по деловому расчёту. Потому и бить кнутом никому не дозволят.
По народному мнению, битый конь – значит, добрый конь, учёный: «Битому коню лишь лозу кажи»109; «Доброму (или учёному) коню лишь плеть покажи»110. Замечательна также терминология русских развлечений: «кобылу учить» – так говорили о битье во время игры111. Мудрость народная ещё такова: «Насколько убьёшь лошадь, настолько и уедешь»; «Насколько убил клячу, настолько и уехал»; «Что бил, то и ехал. Что хлестнёшь, то и уедешь» (разумеется, «убить» здесь значит просто «бить»)112. В Оханском уезде Пермской губернии, по-видимому, вскоре после революции были записаны народные шутки о лошадях – и всё об их невзрачности да слабосилии, когда поневоле приходится применять кнут: «Тпру!., нисколь не стоит… всё бы лежала»; «Ну и лошадь у меня, ты её хлесь, а она говорит: слезь»; «Не в том сила, што кобылка сива, а в том сила, што понужашь, да не идёт»; «Добра-добра, по бокам-то желобья, а на спине-то как жердь»113.
Выражение «бить (драть), как лошадь» было и остаётся расхожим. Например, в повести Ф.М. Решетникова «Между людьми» (1864–1865) герой вспоминал, как он начинал учиться в бурсе: «Целые недели меня не выпускали никуда из заведения и почти каждый день драли, как лошадь, если не раз, то по два раза…»114В другой повести Решетникова «Ставленник» (1864) о некоем обитателе расположенного в глухомани городишки говорили, что тот – «деспот». И поясняли: «Свою жену и детей он бьёт, как мужик бьёт свою лошадь»115.
В селе Ясном Сеченовского района Нижегородской области фольклористы записали рассказ о явлении Божьей Матери у священного источника: «Поехали они за водой. И вот они рвут лошадей-то, рвут лошадей. И вот идёт, говорят, как плачет, идёт во всем чёрном. Подошла и говорит: “Не рвите лошадей-то, миленькие, не рвите вы лошадей”. Нагнулась, говорят, достала ртом воды, обрызнула – и всё, и сама с плачем ушла. Божья Мать это»116. Выходит, что даже самой Богоматери приходилось увещевать крестьян, чтобы те «не рвали» своих коней.
Во многих местах России «конским праздником» считался день святых Флора и Лавра (31 августа по новому стилю). Сказывали, что Флор и Лавр добры к лошадям – эти святые, дескать, не позволяют крестьянам их избивать. В селе Торговищи Красноуфимского уезда Пермской губернии в конце XIX века объясняли, что «на лошадях в этот день не работают или же стараются даже не бить их кнутом»117. Стараются… Видать, не так просто отказаться от побоев.
Писатель и публицист П.В. Засодимский в опубликованном в 1878 году очерке «Лесное царство» отмечал, что коми-зыряне «добродушны, сострадательны». И пояснял: «Мне никогда, например, не приводилось видеть, чтобы зырянин бил лошадь так жестоко и так глупо, как бьёт лошадь русский ожесточившийся человек»118.
Польский мыслитель и литератор Генрих (Хенрык) Каменьский (1812–1865), который несколько лет провёл в вятской ссылке, вернувшись на родину, написал и, прикрывшись псевдонимом, в 1854 году издал роман «Пан Юзеф Бояльский». Там, в частности, сопоставлялись два героя – русский и поляк – по признаку: погоняют ли они кнутом запряжённых в повозку лошадей или нет. Благородный поляк, дескать, не позволяет такого – кнут в руках его возницы только плещет по воздуху направо и налево, отбивая такт конского бега. Когда же едет русский, возница понукает измученных коней не только криками, но и ударами119.
По наблюдению французского аристократа А. де Кюстина, в 1830-х годах русские простолюдины проявляли полное равнодушие к упавшей лошади. В связи с одним таким случаем он писал: «Русским далеко до принятия закона, защищающего животных от дурного обращения людей, какой существует у англичан; у русских в защите нуждаются прежде всего люди, а не собаки и не лошади, как в Лондоне. Мой фельдъегерь просто не поверил бы в существование такого закона». Кюстин вообще интересовался лошадьми: «Бедные лошади… Людей мне жаль меньше – русский находит вкус в рабстве»; «Требования, какие предъявляют здесь к животным, вполне согласуются с отношением к людям: русские лошади не выдерживают дольше восьми-десяти лет»120.
А человек следующего века, житель большого города и настоящий, тонко чувствовавший поэт – Владимир Маяковский – к ситуации с упавшей на улице чужой лошадью отнёсся не так, как люди прежних времён, а с состраданием: «Деточка, // все мы немножко лошади, // каждый из нас по-своему лошадь» («Хорошее отношение к лошадям», 1918)121.
Валять по трём и бить по оглобле
В 1823 году А.С. Пушкин набросал стихотворение «Телега жизни». Там была строфа:
В таком виде это стихотворение обычно приводилось в позднейших изданиях. Как заметил литературовед В. И. Новиков, «многие поколения читателей будут угадывать, что рифмуется с глаголом “сломать”»123. Посылая рукопись «Телеги» П.А. Вяземскому, Пушкин писал ему: «Можно напечатать, пропустив русский титул». Вяземский подправил эти строки, и стихотворение было опубликовано в 1825 году в журнале «Московский телеграф»:
С утра садимся мы в телегу;
Мы погоняем с ямщиком
И, презирая лень и негу,
Кричим: “валяй по всем, по трём!”
(курсив в этой публикации. – В.К)124.
Специалистка по так называемой лингвоэкологии Л.Н. Савельева комментировала это: «Конечно же, цензурное исправление текста нанесло явный и существенный урон художественному смыслу: новый маловразумительный возглас седока (не говоря уже о несуразной второй строке) практически перечёркивает необыкновенно яркий, живой образ безудержного молодечества, широкой русской удали, своего рода лихаческого посвиста в том “русском титуле”, который легко восстанавливается носителем русского языка на месте стыдливого многоточия»125.
Поэту Я. П. Полонскому, как и многим, это запомнилось. К своему стихотворению «В телеге жизни» (1876) он поставил эпиграф из Пушкина: «С утра садимся мы в телегу…» У Полонского там так: «Порой задумчиво молчу, // Порой отчаянно кричу: // – Пошёл!.. Валяй по всем по трём»126.
«Московский телеграф», где напечатали искажённый текст пушкинского стихотворения, в ту пору отличался устойчивым интересом к народной речи, фольклору и крестьянскому быту. По словам фольклориста М.К. Азадовского, «ни один из журналов этого времени не уделял такого внимания народной поэзии, как “Московский телеграф”»127.
Кажется, это самое раннее использование устойчивого выражения «по всем по трём». И примечательно, что сделано оно Вяземским – литератором, которой немало поездил по России и написал об этом, пожалуй, больше, чем какой-либо другой поэт той эпохи128. Вяземский и в собственном стихотворении «Памяти живописца Орловского» (1838), упомянув об условном молодце-ямщике, постоянном герое этого художника, приводил те же слова:
Как он гаркнет, как присвистнет
Горячо по всем по трём,
Вороных он словно вспрыснет
Вдохновительным кнутом129.
Лексикограф М. И. Михельсон занёс это выражение в свод русских образных слов и иносказаний, толкуя его так: действовать «храбро, смело». Он привёл и более полные варианты: «По всем по трём, коренной не тронь (а кроме коренной, нет ни одной)», указал три примера: из стихотворения Пушкина, а ещё из стихотворения Ф.Н. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825) и из очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1880)130.
Литературовед и фольклорист М.В. Строганов обнаружил отражение этой поговорки в романе И. А. Гончарова «Обломов» (1859). Поговорка фигурировала также в одном из текстов В.И. Даля (1825), а затем была включена в его «Толковый словарь»131. Даль – литератор, который, как и Вяземский, много путешествовал. Интересно, что три ранних использования устойчивого выражения были сделаны (Вяземским, Далем, Глинкой) в одном и том же 1825 году. Строганов писал, что на популяризацию этой поговорки более всего повлияло стихотворение Глинки, поскольку отрывок оттуда стал народной песней: «в общественном сознании авторство поговорки закрепилось за Ф.Н. Глинкой»; «после Глинки выражение как бы приобрело автора»132; затем неоднократно встречается у М.Е. Салтыкова-Щедрина133. По суждению Строганова, поговорка могла уже восприниматься как цитата: «И даже если мы встречаем её у Даля или Пушкина, мы можем воспринять её как цитату из Глинки»134. Если Даль и Пушкин (точнее, всё же не Пушкин, а Вяземский) употребили это устойчивое выражение в том же самом году, что и Глинка, то разве можно «воспринять её как цитату из Глинки»?
С тех пор это устойчивое, поговорочное речение использовалось в русской литературе и публицистике многократно.
В романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) ямщик рассказывал, как раньше катались: «Бывало, седок взмолится да учнёт милости просить; так нет! сердце не терпит! Дал родным вздохнуть, да и пошёл по всем по трём\ С горки на горку!.. Эх вы, милые, закатывай да и только!.. Вот это езда!»135 В его же очерках «Москва и москвичи», которые публиковались в течение 1840-х годов, о быстрой езде на ямщицкой телеге сказано: «Вот это, братец, езда!.. Не успеешь оглянуться, а станция и тут! Хлебнул чайку, впрягли, и пошёл опять по всем по трём!»136 В «Мёртвых душах» (1842) Н.В. Гоголя кучер Чичикова Селифан тоже как-то раз «стегнул по всем по трём уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен»137.
Поэт, хозяин хутора Степановка в Орловской губернии Афанасий Фет в своих заметках начала 1860-х годов рассуждал: «Прежде точно и кучеру и форейтору думать много не нужно было. Лошади были свежие, ещё не умотались, чуть стали запинаться, “валяй по трём, коренной не тронь”. Великое и прямое дело было в то время кнут. Но теперь форейтор догадался, что когда лошадь заноровилась, то что ни больше пори кнутом, то хуже. А вот о другом-то таком же известном свойстве лошади они не догадываются. Иная худо зимовавшая лошадь с первого или со второго разу заноровится, так что бьются-бьются с ней да бросят. Глядишь, поступила на хороший корм, справилась и затем стронет с места без малейшего норова. “Люби кататься, люби и саночки возить”. А последнего-то ни кучер, ни форейтор терпеть не могут»138. Сам Фет, человек рачительный, да и просвещённый, не одобрял дурного обращения с рабочей скотиной, когда по ней кнутом «валяют».
У русско-украинской писательницы М.А. Вилинской-Маркович, выпускавшей свои произведения под псевдонимом Марко Вовчок, в незаконченном романе «Записки причетника» (публиковался в конце 1860-х годов) есть живописная сценка. Немолодая монахиня, после остановки в пути, когда вся их компания обильно угощалась и выпивала, садится в повозку: «Эх вы, соколики! – воскликнула мать Секлетея. – Ги-ги-ги! По всем по трём, коренной не тронь! Пылай-гори-неси! Пускай вскачь! Пускай вскачь!»139
В финале стихотворения Н. А. Некрасова «Ещё тройка» (1867) говорится: «Озлясь, кнутом//Ямщик по всем по трём стегает…»140
В повести Н.А. Лейкина «Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова» (1874) это выражение употреблено в переносном смысле (нередко оно понималось именно так). Один из героев советует другому стать журналистом, живущим на «субсидию», то есть денежные подачки от сильных мира сего. И спрашивает: «Сделавшись благонамеренным журналистом, будешь бить, как говорится, по всем трём и драть “со всех и вся”или ограничишься только пятиалтынными, получаемыми от твоей генеральши?» (курсив везде мой. – В.К.)141.
Ударяя кнутом всех лошадей тройки, ямщик добивался резкого ускорения. В какой ситуации стегали сразу по трём лошадям, явствует из описания свадебного выезда у старообрядцев, сделанного К.С. Мининым – жителем деревни Нижняя Байса Уржумского уезда Вятской губернии (ныне в Лебяжском районе Кировской области). Его воспоминания относятся, по всей видимости, к началу XX века. «И вот несётся тройка! Коренник бежит рысью, гордо подняв голову. Пристяжки косят глазами. Перед деревней ямщик даст лошадям передохнуть, а потом свистнет, гикнет… Да протянет вдоль тройки длинным кнутом. И полетит она всем на удивление»142.
Ещё один устойчивый речевой оборот на лошадиную тему мимоходом упомянул знаменитый русский юрист А.Ф. Кони (1844–1927) в своей работе о самоубийствах. Перечислив меры, применявшиеся в России XIX века к покушавшимся на самоубийство, он заключал: «Излишне говорить, как были жестоки, нецелесообразны и “били по оглобле, а не по коню” все эти меры»143. Вообще это пословица, которая обычно употребляется в такой форме: «Коли не по коню, так по оглобле», и означает наказание невиновного вместо виноватого (или же поучение обиняками). Её считают неточной калькой с латинского, восходящей к выражению из романа Петрония Арбитра «Сатирикон» (I век): «Коли не по ослу, так по седлу»144. Судя по всему, выражение это книжное, но оно вполне могло прижиться в речи и русского, и украинского народов (на Украине в середине XIX века записана поговорка: «Не по коню, так по оглоблях»)145. Подобные фразеологизмы закрепились также в иных языках – новогреческом, немецком, итальянском, испанском, арабском. Если запряжённых лошадей хлестали и били постоянно, целясь-то как раз по ним, а не по оглоблям, значит, это образное суждение хорошо подходило к повседневным житейским ситуациям. В рассказе С.Т. Славутинского «Мирская беда» (1859) один из мужиков сокрушался: «А я вот что тебе скажу: из-за нас угодил Абрамка в солдаты. Не достал Вороненков по коню, так изначала по оглоблям ударил!..»146 Рассказчик имел в виду, что злобный староста Вороненков хотел бы расправиться с ним самим, однако вместо этого отдал в рекруты его молодого родственника Абрамку. Этот пример показывает: фраза использовалась в народной речи при разных случаях, видоизменяясь соответственно.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе