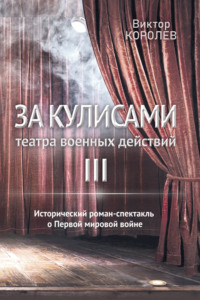Читать книгу: «За кулисами театра военных действий III», страница 3
В центре пошли драгуны, выставив свои длинные пики. Земля затряслась от топота сотен лошадиных копыт. Конники лихо поднимались на вражеский холм, несмотря на яростный огонь пулемётов. На гребне обе стороны сошлись, схлестнулись в страшной сече. Началось невиданное доселе побоище: две с половиной тысячи всадников в рукопашном бою калечили друг друга. Редкие выстрелы пушек и пулемётные очереди не могли заглушить адского стона человеческих глоток и ржания порубанных коней.
От места, где расположился штаб 10-й дивизии, было хорошо видно, как забурлила людская река: тёмная с одного берега – от австрийских мундиров, и посветлее с другого – от выгоревших гимнастёрок русских казаков. Сотни сабельных клинков вспыхивают солнечными бликами и тут же гаснут, унося бессчётно человеческие жизни.
Теснота в этой каше такая, что нет свободы для нормального замаха. Тычут противники друг в друга острыми шашками, словно пиками, и снопами валятся на землю, под копыта взбесившихся коней.
Видит граф Келлер, как фланги его дивизии стали загибаться вовнутрь, уже за холмом круша артиллерийские позиции врага и его резервы. И тут же дрогнул центр 10-й дивизии, теснимый мощным тёмным потоком. Казалось, ещё немного – и покатятся назад новгородские драгуны. Минуты решали судьбу сражения.
– Конвой и штаб – в атаку! За мной! – граф пришпорил коня.
Казаки-оренбуржцы из охраны, ординарцы и несколько офицеров помчались за ним в самую гущу, с лёту смяв свежий эскадрон австрияков. Завидев своего командира, одетого перед боем в парадный мундир, новгородцы с новой силой кинулись на врага. Те попятились, а сзади – одесские гусары, уже покрошившие артиллерийскую прислугу, ждут, встречают огнём. И фронт посыпался, заметались с криком предсмертным чёрно-голубые тени, словно птицы в высоком небе.
В полдень на землю опустился жёлтый туман. Солнце покрывалось непрозрачным диском, окаймлённым сиянием. Начиналось полное солнечное затмение.
– Управились с Божьей помощью! – граф Келлер перекрестился и с небольшой группой штабных офицеров, оставшейся возле него после атаки, поскакал через лощину. По склонам холма носились обезумевшие от страха и потерявшие всадников кони.
Русская кавалерия ещё долго преследовала утекающие остатки вражеских эскадронов…
Это масштабное чисто лобовое кавалерийское столкновение войдёт в военную историю как последнее конное сражение Первой мировой войны. И – как первая победа русских на Восточном фронте. Потери врага убитыми и ранеными составили около тысячи человек, «келлеровской» же дивизии – в несколько раз меньше. Были захвачены сотни пленных, восемь орудий, пулемёты и штабная документация. За геройские действия в том сражении Фёдор Артурович Келлер был награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени.
А через несколько дней в Восточной Галиции началась грандиозная битва. Русские войска перешли в наступление по всему фронту, взяли Львов, Галич, вплотную приблизились к Кракову, осадили Перемышль. Австрийцы потеряли 400 тысяч солдат и офицеров – почти половину своей полевой армии, свыше 600 артиллерийских орудий, а также 100 тысяч пленными и обоз, растянувшийся колонной на десять вёрст. После прорыва австрийского фронта «келлеровская» дивизия была придана армии Брусилова для преследования неприятеля, отходившего за Карпаты.
Императрица Александра Фёдоровна так отозвалась о генерале: «Граф Келлер творит что-то невероятное. Со своей дивизией он уже перешёл Карпаты. Государь его просит быть осторожнее, но он лишь отвечает ему: „Иду вперёд“. Большой молодец…»
В знак особой признательности Николай II решил подарить графу шашку. Да не простую, а золотую. Такую же, что вручают георгиевским кавалерам за храбрость, да не совсем такую. Специально для Келлера государь приказал шашку сделать длиннее обычной – под стать двухметровому графу.
Поцеловал Фёдор Артурович клинок – и снова в бой поскакал. Шёл 1916-й год. Он уже был дважды ранен. И командовал уже кавалерийским корпусом, в который входило до десяти дивизий. А полки в атаку, несмотря на свои годы, предпочитал водить лично, при полном параде. На груди – два солдатских «Георгия», два ордена Святого Георгия, орден Анны первой степени с мечами. На голове – мохнатая шапка как знак почётного казака Оренбургского войска. А в правой руке – золотая шашка.
В том же году Федор Артурович был произведён в генералы от кавалерии. Символично, что один из немногих русских военачальников, до конца сохранивших верность императору, граф Келлер, стал последним, произведённым в полные генералы самим Николаем II.
Как говорится, чин следовал ему, но накатил девятьсот семнадцатый. И в конце февраля бывший Верховный главнокомандующий, перепуганный донельзя, телеграфирует императору: «Считаю необходимым, по долгу присяги коленопреклонённо молить Ваше величество спасти Россию и Вашего наследника. Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследство. Другого выхода нет. Великий князь Николай Николаевич».
М-да, не зря император записал в своём дневнике краткую фразу: «Кругом измена, трусость и обман». Вот и всё, конец пришёл династии Романовых.
Прощально взывал к армии и царь:
– В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мной войска, – писал Николай II (текст обращения Временное правительство постаралось скрыть). – Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин согласен со мной. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое послабление дисциплины только на руку врагу…
У графа Келлера не было сомнений, что царя принудили к отречению. Фёдор Артурович собрал представителей от каждого эскадрона своего корпуса, сказал им:
– Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал в Ставку: «Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от престола. Прикажи – придём и защитим Тебя».
Троекратное «ура!» было ответом.
Но телеграмма к царю не попала, не дали ей ходу где-то в верхах. Не прошло и трёх дней, как в штабном вагончике графа Келлера появился генерал-лейтенант Густав Маннергейм. Он прибыл не верхом, а в коляске, по-цивильному, в касторовой шляпе, словно только что от своей пассии – русской балерины. Барон Маннергейм привёз текст новой присяги.
Они были знакомы давно, ещё с Николаевского училища. Келлер старше барона на десять лет и выше по званию и должности, но оба считались лучшими кавалеристами в российской армии, наверное, поэтому новая власть и доверила Маннергейму такую миссию.
– Фёдор Артурович, надо переприсягнуть Временному правительству, – начал с порога будущий правитель независимой Финляндии.
Но граф резко оборвал его.
– Нет такого слова в русском языке! И не должно быть! Это нонсенс! Дважды не присягают!
– Я прошу вас как старшего друга, как боевого командира, прозванного в армии «первой шашкой России», – поступитесь своими личными политическими убеждениями для блага армии.
– Оставьте, барон! Вам меня не понять. Я христианин, и считаю величайшим грехом менять присягу! Мне всегда казалось отвратительным и достойным презрения, когда люди – ради личного блага, наживы или безопасности – меняли свои убеждения…
– Но, ваше сиятельство, речь идёт не о политике, а о судьбе нашей великой державы…
– Присяга для военного человека – это не политическая, а нравственная категория. Вы забыли святое правило: «Душу – Богу, жизнь – Государю, сердце – даме, честь – никому». Так что больше не задерживаю вас. Честь имею!..
Посланник Временного правительства уехал ни с чем. А на следующий день нарочный привёз срочный приказ от командующего фронтом: под угрозой объявления бунтовщиком Келлеру предписывалось сдать конный корпус.
Под звуки народного гимна «Боже, Царя храни!» старый генерал прощался со своими полками. Драгуны и гусары, казаки и пушкари провожали его со слезами на глазах.
Уволенный со службы граф Фёдор Келлер отправился в Харьков долечивать свои раны. Всё лето с семьёй – наконец-то! Купались в Лопани, ходили на охоту, вечера просиживали у самовара на открытой веранде…
Из Петрограда и с фронта шли новости одна тревожнее другой. Куда-то всё катилось, куда-то неслась Русь, словно гоголевская птица-тройка. Двенадцатого октября, когда отмечали шестидесятилетие графа Келлера, кто-то провозгласил тост:
– Чтобы скорей закончилась эта непонятная власть с пустым престолом!
Никто даже подумать не мог, что через две недели эта временная власть действительно закончится. Но престол – так и останется пустым…
На затихшем фронте – братание с германцем, у кайзера дальше воевать нет сил, а у русских – желания. Да и нет уже её, армии: нет дисциплины, с офицеров срывают погоны, какая уж тут армия? У кого сила, власть у кого? Не разбери поймёшь…
В Киеве сложился нелюбовный треугольник. Центральная Рада бьёт большевиков, объявляет самостийность Украины. Большевики этому не рады и поднимают мятеж против Рады. А поредевшие батальоны военного округа сохраняют верность уже низложенному Временному правительству и пуляют по тем и другим.
Власть менялась неоднократно. Месяц – самостийники, месяц – большевики. Освободившееся место в треугольнике заняли… немцы. Центральная Рада, спешно убегая, заключила с ними союз, и Германия стальным штыком вытеснила из столицы всех оппонентов. Короче, «немцы в городе, власть меняется».
А в Харькове, где живёт граф Келлер с семейством, уже прочно осели большевики. Пятого мая, в первый день Пасхи, денщик вдруг доложил генералу:
– Целый эскадрон к дому приближается! Похоже, красные…
Не стал Фёдор Артурович домашних беспокоить и прощаться. Хотят арестовать – пусть. Накинул полушубок, папаху надел, вышел. А перед крыльцом – действительно, целый полуэскадрон. И тут вахмистр неожиданно командует своим всадникам:
– Смиррр-на!
И, не спешиваясь, руку к виску тянет:
– Ваше сиятельство! Мы служили под вашим командованием в третьем конном корпусе. Разрешите поздравить вас с праздником.
Растроганный граф виду не подал, ответил спокойно:
– Спасибо, братцы! Жаль, что не имею вина вас угостить, в другой раз приезжайте…
Красные больше не тревожили, а вот от белых вестовые были. Первым звал к себе на службу ещё верховный главнокомандующий Временного правительства Лавр Корнилов. Но с ним граф Келлер не хотел иметь дела: не мог простить, что тот участвовал в аресте царской семьи. О гибели Корнилова как раз перед Пасхой написал графу Антон Деникин:
– Неприятельская граната попала в дом, именно в ту комнату, где он находился, убила только его одного. Просто мистика какая-то, рок…
Генерал Деникин и предложил Фёдору Артуровичу создавать Северную армию – такую же, как Добровольческая на Дону. Огонь Гражданской войны разгорался повсюду. Пылают станицы, зверствуют сменяющиеся друг друга власти, брат идёт на брата. Царь с семьёй расстрелян в Екатеринбурге. По всей Руси – хаос и беспредел, мрак и вихорь.
Келлер согласился наводить воинский порядок, начал собирать штаб будущей армии, издал в типографии обращение к своим боевым товарищам:
– Настала пора, когда я вновь зову вас за собою. За Веру, Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы – настало время исполнить свой долг… Вспомните и прочтите молитву перед боем, ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с Божьей помощью вперёд за Веру, за Царя, за неделимую нашу Россию!
Граф Фёдор Келлер едет в Киев, собирает вокруг себя офицеров. Под знамёна его будущей армии хотят встать многие. Иметь армию, возглавляемую талантливейшим полководцем, мечтают тоже многие: деникинцы, красновцы, петлюровцы и даже германцы. Победил в этом споре Пётр Скоропадский, когда-то служивший адъютантом у отца Фёдора Келлера, а ныне – только что провозглашённый гетман «незалежной» Украинской державы.
Скоропадский тут же назначает Келлера главнокомандующим всеми вооружёнными силами, действующими на территории Украины. Такая срочность объясняется просто: на столицу прут дикие орды Симона Петлюры. Его армия не отличается стойкостью и отвагой в боях, зато в разбое, грабежах и пытках ей нет равных.
«Батька Симон» приказывал убивать всех, кто не согласен воевать за «украинскую идею», брал под крыло отпетых уголовников, убийц и насильников. Но их много, и наспех обученные и необстрелянные «земгусары» Скоропадского уступают им, всё ближе отходя к Киеву.
Всего несколько часов потребовалось графу Келлеру, чтобы разобраться в обстановке, остановить пятившиеся батальоны и отдать приказ на наступление. В первом же бою «державники» отбросили петлюровцев, захватив четыре артиллерийских орудия. Фёдор Артурович лично поднял гетманцев в атаку. И не верхом, как привык, а пешим, прихрамывая и опираясь на палку. Но шёл в парадном мундире, с золотой шашкой у пояса – это всенепременно!
Всего неделю пробыл граф Келлер главнокомандующим, Скоропадский сместил его с должности за превышение власти: не понравились гетману, что граф поднимает в бой людей «за веру, царя и неделимую Россию». А ближе к Новому году власть опять поменялась. Немцы признали своё поражение в длившейся четыре года войне – и ушли из Киева. Отрёкшийся «державник» Скоропадский сбежал вместе с ними. В город вошли петлюровцы.
Генерал от кавалерии граф Келлер дал им бой. Но силы были явно неравные. Небольшой отряд добровольцев, в основном штабных офицеров несостоявшейся армии, с потерями отступил и был вынужден укрыться за стенами Михайловского монастыря.
– Вот и всё, братцы! – сказал старый граф сотоварищам. – Слушайте мой последний приказ. Как стемнеет, пробирайтесь по одному – кому как повезёт – на юг, к Дону. Благодарю за службу!
Двое наотрез отказать покидать своего командира: полковник Пантелеев и ротмистр Иванов. Остальные ушли. А через час, перед рассветом, к оставшимся в монастырской келье пробрался немецкий майор с тремя солдатами в остроконечных касках.
– Ваше сиятельство, – обратился он к графу. – Кайзер лично обеспокоен вашей судьбой, он уважает вас как блестящего полководца. Ещё есть возможность уйти из Киева с нашей комендантской ротой. Прошу вас следовать за мной.
– Без моих людей я никуда не пойду! – отказался Фёдор Артурович.
Пришлось немцу согласиться ещё двоих взять. Они уже дошли до монастырской ограды, когда майор остановил графа:
– Надо снять шашку и ордена, они демаскируют! Фёдор Артурович тут же сбросил с плеч накинутую на него германскую шинель, гневно заявив:
– Я эти награды получил за то, что с вами воевал! И побеждал вас в боях. Мне их стыдиться нечего, я горжусь ими! Они мне дороже жизни!
Повернулся и ушёл обратно в тесную келью, адъютанты – за ним…
Холодным ранним утром 8 декабря 1918 года в монастырь явился целый отряд петлюровцев – половина верхом, половина пеших. Ночью выпал снег, и они кутались в бабьи кацавейки и платки. Сказали, что все трое арестованы и переводятся в тюрьму. Сапоги надеть разрешили, но потом навалились, шашку у графа отобрали, ордена и погоны сорвали.
Их вели по центру города. Улицы были пустынны. Потом кто-то скажет, что Петлюра из-за угля наблюдал за процессией, восседая на белом коне.
В самом центре Софийской площади, похожей на замёрзший пруд, у памятника Богдану Хмельницкому, воссоединившему Украину с Россией, генерал от кавалерии Фёдор Келлер и его адъютанты были убиты выстрелами в спину. В графа стреляли – кто-то сосчитал – одиннадцать раз.
Золотую шашку героического русского генерала подобострастные «самостийники» поднесут Симону Петлюре, и тот захочет покрасоваться этим именным георгиевским оружием. Атаман был ниже Келлера на две головы, так что шашка убитого генерала смотрелась на нём весьма комично. Попытался «батька Симон» вытащить её из ножен, да сил не хватило. Махнул театрально ручонкой – дескать, не больно-то хотелось – и злобно дал шенкелей покорному коню.
Автор (из-за кулис): Деникина много позже перезахоронят с почестями на Донском кладбище в центре Москвы. Скоропадского в апреле 1945 года убьёт в Берлине бомба, сброшенная с американского самолёта. Петлюра в XXI веке станет народным героем русофобской Украины. А исконно русский генерал Фёдор Келлер будет похоронен на киевском кладбище под чужим именем, и сегодня о нём уже мало кто помнит. Это очень несправедливо…
Картина 4-я. «Штурман, идём на абордаж!»
Действующие лица:
• Михаил Сергеев (1891–1974) – русский военно-морской офицер, лётчик, участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Кавалер царских и советских военных орденов.
• Феликс Тур (1889–1953) – штурман гидросамолёта, унтер-офицер.
Место действия – Российская империя.
Время действия – весна 1917 года.
Автор (из-за кулис): Конца войне ещё не было видно. Российская империя зашлась в погибельной разрухе. В феврале 1917-го в стране грянула революция. Царь отрёкся от престола, власть перешла к Временному правительству. Однако хаоса в многострадальной России не стало меньше. Армия бузила, не желая больше воевать. Лишь флот ещё держал фасон и дисциплину, сохраняя какой-никакой порядок. На кораблях традиционно несли вахту, береговая охрана охраняла берега, черноморская авиация с рассветом поднимала в воздух свои летательные аппараты и бомбила германского союзника – распадающуюся Османскую империю…
В ТОТ ДЕНЬ, 12 марта 1917 года, с Севастопольской базы вышли специальные корабли с размещёнными на палубах гидропланами. Одна группа российских летунов должна была разбомбить на Босфоре насосную станцию, расположенную недалеко от вражеской столицы. Цель другой группы – аэрофотосъёмка турецких артиллерийских батарей. Обе задачи были выполнены. Отбомбились удачно, практически уничтожив главный источник питьевой воды. Турки, конечно, стреляли с земли, но домой авиаотряд вернулся почти без потерь.
«Почти» – это значит, что ещё в воздухе не досчитались одного аэроплана. На земле ждали до вечера. Утром экипаж гидросамолёта в составе лейтенанта флота Сергеева и унтер-офицера Тура был объявлен пропавшим без вести. Хотя все прекрасно понимали: когда топливо кончается, морские волны не оставляют ни шансов, ни следов.
И кто мог подумать? Ведь всего лишь сутки назад ещё ничто не предвещало…
– С Богом! – штурман Феликс Тур, он же наблюдатель и бомбардир, привычно перекрестился, когда корабельный кран снял с палубы их летающую лодку «М-9». Крюк подъёмника ушёл вверх, и «девятка» закачалась на морской воде. Чем хороша эта новая машина – взлетает легко и садится аккуратно, словно гость в незнакомое кресло. Лишь бы стропальщики на спецкорабле не подкачали, а уж пилот – флотский лейтенант Сергеев – дело своё знает.
Они сидели в тесной кабине рядом, плечо к плечу. Оба молодые, почти ровесники. Оба из семей священнослужителей. Летают вместе недавно, но что сразу подружились – нельзя сказать. Оба субординацию держат, она мужскому уважению не помеха.
– Штурман, сколько до цели?
Берег турецкий виден уже. Гористый, лесом покрытый. Оттуда, с вершин холмов, и открыли по ним огонь пулемёты. Совсем рядом, справа и слева, рвутся зенитные снаряды, от осколков жалобно трещит фанера плоскостей.
– Снимай! – кричит пилот Сергеев своему подчинённому. – И крепче держись, сейчас вправо возьму!
Послушная машина пикирует, уходит с разворота в ущелье, поплавками шасси почти касаясь верхушек сосен. Позиции турецких артиллеристов – как на ладони. Наблюдатель Тур не успевает менять пластины на фотоаппарате. Ещё один разворот, снизу снова стреляют, от крыльев летят мелкие щепки, но это не страшно.
Страшнее, что течёт топливный бак и перебиты рулевые тяги. Хорошо ещё, что Сергеев успел набрать высоту к тому моменту и сейчас, перевалив через вершину горы, уводит самолёт в открытое море.
Плюхнулись на воду совсем не аккуратно. Вылезли оба из тесной кабины.
– Штурман, к бензобаку! Заделать дыры! А я займусь рулями…
Берег совсем рядом, практически на виду у врага чинят летуны свой подбитый самолёт. И без бинокля видно, как от причала отвалила шхуна береговой охраны, на палубе – полтора десятка человек в красных фесках, в плен хотят взять русских. Шхуна парусная, приближается быстро.
– Командир, дыры заделаны, можно заводить!
– Штурман, трави трос потихоньку! – командует Сергеев унтер-офицеру, залезая в кабину. – Как мотор схватится, отпускай – и рванём! Авось, оторвёмся!
Не подкачала «девятка», словно лебедь или какая другая водоплавающая птица, оставляя за собой усатый след, гидроплан оторвался от морской глади – счастье, что штиль был! – и стал тяжело набирать высоту.
А сзади внизу – шхуна с кричащими турками, они стреляют из винтовок, кулаками трясут, злые. Чихает, кашляет мотор раненого аэроплана. Нет, не уйти летунам. Уже и берега не видно, а всё равно не дотянуть до своих, придётся опять садиться.
– Что там, штурман?
– Всё! Почти сухой бак!
Приплыли. Летающая лодка покачивается на морской волне, белые паруса турецкой шхуны всё ближе – шансов у русских никаких.
– Штурман, к пулемёту!
Сергеев попытался завести мотор, и – о, чудо! – пропеллер крутанулся. «Девятка», дымно стреляя остатками вонючего топлива, поползла по воде. Да всё быстрее, быстрее. И не от турецкого берега, а наоборот, навстречу вражеской шхуне.
Турки уже близко, целятся с палубы из винтовок.
– Давай, штурман, поверх голов!
Две короткие очереди, потом ещё одна. Османов – как корова языком слизала. Они с противоположного борта пытаются спасательную шлюпку спустить.
– Штурман, идём на абордаж!
Как раз и мотор заглох, когда гидроплан ткнулся носом о чужой борт. Русский лётчик успел выскочить на крыло. С револьвером в руке, крича и ругаясь, перебрался на палубу судна.
– Прикрывай, штурман!
Пулемёт штурмана дырявил паруса, лётчик редкими выстрелами гонял кричащих турок. Вид его был, наверно, ужасен, раз прыгали в воду враги, не оказывая сопротивления. Винтовки, правда, они не бросали. Переполненная шлюпка, подбирая своих товарищей, отвалила от борта, пошла на вёслах прочь. Османам вслед наши летуны не стреляли, патроны берегли…
Два русских воина молча стояли на палубе. Они только что пошли на таран и в коротком бою победили, захватив вражеское судно. Вдвоём против полутора десятка вооружённых турок. Немыслимо.
– Мы словно пираты прошлого века, с кортиком в зубах, берём врага на абордаж, – тихо сказал Феликс Тур.
– Тогда не было гидропланов, – усмехнулся Михаил Сергеев. – Наш, кстати, придётся затопить и на парусах уходить с этого места. Они вернутся на катерах – тогда в плен попадём. Надо всё, что только можно, скорей переносить на борт.
Они быстро перетаскали с гидроплана на шхуну пулемёт, фотоаппарат с пластинами, компас, документы и карты. Посмотрели, как уходит на дно родная «девятка», и взяли курс на Севастополь.
– Всё! – выдохнул Сергеев. – Отдаёмся на волю попутного ветра и волн. Вы, Феликс Варламович, спуститесь вниз и посмотрите, не осталось ли там кого, есть ли продукты, вода, тёплая одежда. И поищите оружие, а то у меня в револьвере осталось всего два патрона. А я пока за штурвалом постою и с парусами разберусь…
Интересно, что на земле они общались на «вы» и по имени-отчеству, а в воздухе, в боевой обстановке Сергеев был с подчинённым на «ты» и называл его исключительно «штурман». Так повелось в их экипаже: не дружили, но по-мужски искренне уважали друг друга.
Примерно через час Феликс поднялся наверх. За это время почти ничего не изменилось: никто их не преследовал, море было бескрайним и спокойным, ни дымка, ни точечки на ровном горизонте. Только паруса издавали не шаркающие звуки, как раньше, а какой-то тихий шелест. Они безвольно провисли – штиль. Шхуна мирно дрейфовала под закатным солнцем. Уже без турецкого флага на мачте.
– Каков улов? – устало поинтересовался Сергеев.
– Армейская фляжка с водой, початая бутылка вина, кусок сыра и сухарь. Оружия нет. Полно подушек и одеял.
– Негусто.
– Как думаете, Михаил Михайлович, надолго мы встали?
– Полагаю, что нет. Зыбь свежая, а такое бывает при смене ветра. Если паруса начнут хлопать, к утру, возможно, поймаем ветер. Остаётся ждать и надеяться. Всё равно нам с вами придётся всю ночь в четыре глаза смотреть, нет ли погони. Так что несите одеяла и подушки прямо сюда, на мостик…
Только что было светло, но в одно мгновение темень накрыла весь окружающий мир, словно свет погасили в маленькой комнате. И совсем не мартовский холод заставил обоих закутаться в толстые одеяла из верблюжьей шерсти, прижаться спинами и вести долгий разговор, чтобы не уснуть.
– Вы и корабельное дело знаете, Михаил Михайлович?
– Так я же морской кадетский корпус окончил, до мичмана дослужился. А как первый раз полетел пассажиром на аэроплане, так и заболел небом. Первый в России военлёт Сева Абрамович меня учил летать. Вы же тоже не случайно в корабельном отряде оказались, Феликс Варламович?
– Отнюдь. Я сын приходского священника, и сам готовился служить Богу. Но вот призвали и приставили к гидропланам. Хочешь – не хочешь, а летать пришлось.
– Ой, что же это я! Давай-ка, штурман, принимайся за дело! Вот тебе карта, компас, хронометр! Вот тебе Полярная звезда. А эта штука называется лаг – определяй по ней скорость шхуны и рисуй, где мы находимся. А то, не дай Бог, к туркам нас за ночь отнесёт…
Штурман ушёл в рубку прокладывать курс на карте. Вернулся, когда уже светало.
– Дрейфуем точно на Крым. Скорость – две мили в час.
– Молодец, штурман! Стало быть, до родного Севастополя осталась ровно тысяча морских миль. Это пустяки, ведь дорога домой всегда короче. Благодарю за службу, кормчий!
– Рад стараться, да только еды-то у нас совсем нет…
– Кормчий – не от слова «кормить», а от слова «корма». А на корме у нас что находится? Правильно – штурвал. Кормчий – это и есть штурман, рулевой, специалист по навигации. А тот, кто кормит, это – кок. Вопросы есть, кормчий?
– Никак нет! Хотя… Можно спросить про Севастополь? Почему он для вас родной?
– Так он для всех, наверное, родной. Город русской славы. Город ста одного имени.
– Как это?
– Ну, Сева-сто-Поль. Когда мой инструктор Сева Абрамович погиб, я сказал себе, что сына назову в его честь, а если дочь – то Полиной. И сам проживу сто один год…
Солнце показало свой улыбающийся глаз. Стало теплее. Сергеев расписал вахты по четыре часа и отправил штурмана вниз – нормально поспать в кубрике. Сам ещё раз обошёл всё судно, проверил такелаж, в грузовой трюм спустился. Хотел половить рыбы, но не нашёл снастей – шхуна явно не промысловая была.
Когда Феликс пришёл его сменять, лётчик чистил тряпкой свой наган.
– Вот, порядок, – крутанув барабан офицерского револьвера, он хмыкнул. – Два обязательных патрона осталось.
– Почему обязательных?
– Потому что из пулемёта никак не застрелишься. Или у тебя мечта о плене есть, штурман? Приказываю и тебе следить за пулемётом!
– В нём тоже патронов на одну очередь осталось.
– Тем более. Беречь для последней схватки!..
Всё съестное разделили на несколько частей – каждому досталось на день по крошке сухаря и по три глотка воды.
– Пока силы есть, можно и потерпеть. Больше лежать надо, Феликс Варламович, скоро поймаем ветер, – командир знал, что и как приказать подчинённому.
Вторая ночь прошла так же. Ни огонька вокруг на горизонте, лишь звёзды в вышине перемигиваются. Менялись вахты, внизу было намного теплее, сон в кроватном гамаке являлся сразу. Обоим снились дом, друзья, родные…
Днём они очень надеялись, что увидят гидроплан – должны же их искать, должны же летать к турецким берегам их боевые товарищи, война же идёт. Но никто не летал.
Очередная безветренная ночь тянулась уныло. Шли четвёртые сутки их дрейфа. У штурвала бодрствовал Феликс Тур. Он и заметил, что привычный тихий шелест парусов исчез, они вдруг захлопали, затрепетали. Шхуна закачалась с боку на бок. Тут же поднялся из кубрика Сергеев.
– Похоже, ветер поймали, господин лейтенант! – улыбаясь, доложил вахтенный.
– Рано радуешься, кормчий! На небе звёзд не видно – значит, шторм идёт. Всё, что может с палубы смыть, срочно вниз! И задраить иллюминаторы!
Потом они, привязав себя к рубке, оба молились, чтобы судёнышко выдержало звериный напор стихии, чтобы очередная гигантская волна не опрокинула, не перевернула шхуну. Измождённые, промокшие насквозь, смотрели, как рвутся неубранные паруса, и молились.
Наутро шторм стал стихать. А пополудни Тур, снова стоявший на вахте, увидел корабль.
– Это же наш! Михаил Михайлович, это же русские! Сергеев разрешил дать в небо очередь из пулемёта.
Но на корабле, похоже, посчитали парусник вражеским, выстрелили из орудия и быстро удалились, как их и не было.
– Зато мы знаем теперь, что идём правильным курсом! За дело, штурман!
И целый день они, как могли, чинили паруса. Чем лучше это получалось, тем быстрее шла шхуна. Шла домой, в родной Севастополь…
На седьмые сутки у западного побережья Крыма катер российской погранслужбы обнаружил странную шхуну без опознавательных знаков. Такелаж её был в плачевном состоянии, судно рыскало на волне. Пограничники решили, что экипаж давно покинул корабль, но когда поднялись на борт, увидели двух человек в лётной форме. Они были крайне истощены и слабы, но один из них держал в руке револьвер. Он назвался лейтенантом Сергеевым из корабельного отряда.
Уже к вечеру отпоенные куриным бульоном летуны оказались среди своих. Вычеркнутый из всех списков, но воскресший из мёртвых экипаж гидроплана привёл себя в порядок и доложил о выполнении приказа в штабе. Полковник выслушал подробный рапорт, а фотопластины, бегло просмотрев, бросил в корзину.
– Это теперь не имеет ценности. У России больше нет царя, а у нас нет России. И турецкий Константинополь улыбнулся нам. Впрочем, господа авиаторы, ваш подвиг будет отмечен высокими наградами. Свободны!
Награды вручал лично командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак.
– На линкоре «Георгий Победоносец» нас провели в каюту командующего. Я увидел перед собой низкого роста брюнета с орлиным носом, короткой стрижкой, с очень энергичными и волевыми чертами лица, – вспоминал поз же Михаил Сергеев. – Он поздравил с выполнением задания и заставил подробно рассказать о таране и пленении вражеской шхуны. Он сказал тогда: «Молодцы, не опозорили русский флот!» Интересно, что впоследствии, во время Гражданской войны, мне пришлось сражаться против адмирала Колчака на Восточном фронте…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе