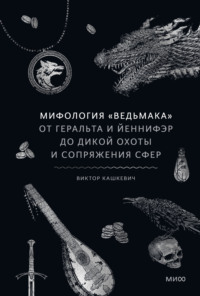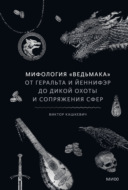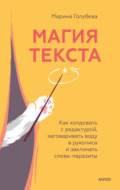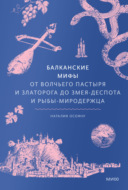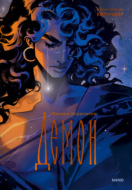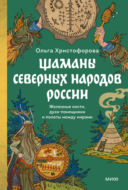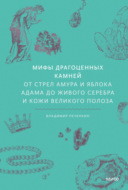Читать книгу: «Мифология «Ведьмака». От Геральта и Йеннифэр до Дикой охоты и Сопряжения сфер», страница 2

Лучники угрожают Ланселоту. Иллюстрация из книги Э. Лэнга «Легенды о Круглом столе», 1908 г.
Lang, Andrew. H. J. Ford (illustrations). Tales of the Round table; based on the tales in the Book of romance. London, New York (etc.) Longmans, Green and co., 1908 / HathiTrust Digital Library
Средиземье, Нарния, Земноморье, вселенная «Ведьмака», чье имя нам только предстоит выяснить, – все эти миры существуют параллельно реальности и на первый взгляд почти не соприкасаются с современностью. В этом проявляется тяга фэнтези к эскапизму – побегу от реальности и ее проблем. Суть побега заключается в том, что в параллельной вселенной действуют совершенно иные социальные законы, чем в нашей, современной авторам и читателю. Произведения Льюиса и Толкина ярко иллюстрируют этот мотив, причем в «Хрониках Нарнии» он представлен явно – герои в прямом смысле сбегают в другой мир, – а у Толкина отражается скорее в сознании читателя. В то же время Толкин избегал отсылок к реальности, а Льюис намеренно насыщал ими свой текст. Объясняется такая разница тем, что у литературного творчества Толкина была особая цель.
В отличие от Греции, Рима, Скандинавских стран, Англия была лишена целостной самобытной мифологии, не имела древнего мифологического эпоса, подобного «Илиаде» или «Песни о Нибелунгах». Толкин ощущал себя призванным восполнить некий «пробел» в национальной культуре, создать своего рода «мифологию для Англии»4.
Опираясь на древние памятники, чье влияние безусловно угадывается в его творчестве, – среди них «Калевала», «Старшая Эдда», исландские саги, валлийский «Мабиногион», «Беовульф» и «Смерть Артура», – Толкин создавал новый миф, тождественный сам себе. При такой сверхзадаче писатель не мог себе позволить сознательно вставлять в него отсылки к современной ему действительности – и тем не менее они угадываются, например в описании жизнеустройства хоббитов:
Умелые и сноровистые, хоббиты, однако, терпеть не могли – да не могут и поныне – устройств сложнее кузнечных мехов, водяной мельницы и прялки…5
Ни один из древних эпосов не уделял столько внимания бытовым деталям, чего не скажешь о современной писателю литературе.
Таким образом, несмотря на отвлеченность толкиновского эпоса, его замкнутость на самом себе, читатель все равно ищет в нем места сцепки с реальностью, о чем свидетельствуют «аллегорические» трактовки произведений: ассоциации со Второй мировой войной или Новым Заветом.
Несколько иную картину мы видим у Льюиса. В книге «Лев, колдунья и платяной шкаф» (1950) и в «Хрониках Нарнии» в целом писатель тоже создает новый мир со своей мифологией, историей и бытием, однако при этом сознательно наводит мосты между Нарнией и реальностью. Если Толкин использовал существующий эпос как опору, каркас, на который натягивал собственное полотно сказаний, то Льюис сшивал свой миф из лоскутков реального материала. Наиболее яркий тому пример – создатель Нарнии лев Аслан.
Образ Аслана сам Льюис раскрыл в одном из писем:
Разве не было в этом мире того, кто бы 1) появился в Рождество; 2) говорил, что Он – сын Великого Императора; 3) за чужую вину отдал себя злым людям на осмеяние и смерть; 4) вернулся к жизни; 5) его еще иногда называют ягненком или агнцем (смотри конец «Покорителя зари»). Наверняка ты знаешь, как зовут Его в нашем мире6.
Очевидно, что в образе Аслана автор выводит Христа, чьи символы – «лев от колена Иудина» и «Агнец как бы закланный»7.
Если Клайв Льюис вплетал в свой текст отсылки к реальным, хоть и древним, текстам, то другие авторы пошли еще дальше. В их произведениях читатели обнаруживают актуальные философские и мировоззренческие идеи и даже аллюзии на современные им события. Примером может служить роман «Девять принцев Амбера» (1970) из цикла «Хроники Амбера» другого классика фантастики – Роджера Желязны.
По сюжету главный герой Корвин, страдающий от амнезии, узнает, что он член королевской семьи, которая выступает оплотом порядка в метавселенной. Корвин – один из принцев Амбера, мира-твердыни и прообраза всех прочих вселенных, в том числе и нашей. Принцы Амбера, многочисленные отпрыски короля Оберона, никогда не питали друг к другу нежных чувств – напротив, формировали альянсы и плели интриги, не перераставшие в кровавую бойню лишь благодаря могучей воле короля.
Однако Оберон загадочно исчезает, не оставив преемника, и трон вот-вот узурпирует принц Эрик, обретший немалую силу за века интриганства, шпионажа и откровенного разбоя. Корвин вспоминает, что отец прочил его в наследники (как, впрочем, и других сыновей, чем поддерживал в них дух вражды и нездоровой конкуренции), и отправляется в Амбер, чтобы помешать Эрику присвоить корону. Заканчивается его поход бесславно: Корвина пленяют, ослепляют и бросают в темницу. Узурпатор становится королем.

Христос в терновом венце. Гравюра, Нидерланды, к. XV в.
The Metropolitan Museum of Art
«Девять принцев Амбера» соответствуют основным жанровым чертам фэнтези. Среди «проекций» Амбера упоминаются остров Авалон из артуровских легенд и Тир на Ног из ирландских сказаний, что переносит повествование на мифологическую почву. Эстетика рыцарского романа прослеживается в традиции поединков на мечах и в образе Амбера как противоположности Камелота: этот оплот порядка и добра погряз в хаосе и распрях. Культ активного героического начала зашит в стремлении главного героя помешать антагонисту занять трон, а непрерывная цикличность бытия реализована в концепции метавселенной: все, что можно представить или вспомнить, существует здесь и сейчас в одной из проекций мира-твердыни.
Свой вторичный мир Желязны создает иначе, чем Толкин и Льюис. Если те исключали элементы современной им жизни или переводили их в разряд вневременных, фундаментальных категорий, то в «Девяти принцах Амбера» кусочки реальности становятся частью повествовательной мозаики.
В королевской семье Амбера, существующей вообще-то вне времени, царят те же настроения и нравы, что и в западном капиталистическом мире 1960-х – а именно тогда и была написана книга. То есть Желязны не абстрагируется от повседневности, а конструирует альтернативный мир с элементами действительности. И на фоне погрязшего в интригах Амбера, наделенного негативными чертами современности, выгодно выделяется носитель традиционного героического начала – Корвин. Таким образом, вневременные общечеловеческие ценности будто оттеняют проблемные черты действительности, позволяют им проявиться ярче, чтобы читатель исследовал их как можно более тщательно.
Итак, мы обнаружили два подхода к наполнению фэнтези-произведений философским и мировоззренческим содержанием: эскапизм и создание альтернативной реальности. В первом подходе текст, обращаясь к фундаментальным ценностям, игнорирует актуальную для автора действительность, а во втором – активно использует ее элементы для выполнения творческой задачи. В следующих главах это знание поможет нам разобраться в тайных течениях, скрытых под поверхностью вселенной «Ведьмака».

Уильям Моррис и Генри Райдер Хаггард.
The Rijksmuseum (слева). Bain News Service, Publisher. E. Rider Haggard / The Library of Congress (справа)
Пальма первенства
«Литературная энциклопедия терминов и понятий» под редакцией Александра Николюкина возводит истоки фэнтези как самостоятельного жанра к творчеству английского поэта и прозаика Уильяма Морриса (1834–1896). При этом первое его произведение, маркируемое исследователями как фэнтези, – «История Дома Сынов Волка и всех кланов Чети» – было впервые опубликовано в 1888 году, тогда как годом ранее вышла другая книга, обладающая всеми основными жанровыми чертами.
По сюжету романа «Она» Генри Хаггарда (1856–1925) молодой англичанин Лео, потомок спартанского воина Калликрата и жрицы египетской богини Исиды, отправляется в Африку на поиски Айши, которая благодаря дару великой любви может разделить секрет бессмертия и вечной молодости с тем, кого полюбит.
Когда-то она полюбила самого Калликрата, но тот не принял дара Айши и пал жертвой ее гнева. Возвращение возлюбленного в образе Лео Айша воспринимает как свою победу над временем. Она готова одарить героя бессмертной любовью, но Лео не решается пройти сквозь очистительное пламя источника бессмертия, и его сомнения губят Айшу: войдя в пламя, она как бы проходит процесс обратной эволюции и погибает, оставив после себя сморщенное тело обезьяны.
Хаггард перемещает героев за границы привычного – в действительность мифов и легенд, где в героях проявляются общечеловеческие начала, в буржуазной повседневности отодвинутые на второй план. В образе Айши писатель сочетает мистическую всепоглощающую женскую чувственность и неиссякаемую природную силу, непостижимую для разума, но открытую для интуитивного восприятия8. Лео же викторианец до мозга костей, уверенный, что все подвластно разуму. Слиться с природной силой ему мешают сомнения, типичные для представителя той эпохи: насколько будет благопристоен и уместен такой союз? Как может огонь, чьи физические свойства и воздействие на материю хорошо известны, быть очищающим духовным началом, дарующим вечную молодость?..
Финал отражает протест против убежденности во всеохватывающей силе рационального научного познания и, в частности, дарвиновской «обезьяньей» теории. Хаггард будто бы намекает, что, если постигать природу человечества лишь с помощью рассудка, мы получим несовершенные выводы, только и доступные несовершенному разуму: если обезьяна – наш прародитель, значит, люди не более чем обезьяны. А каких духовных качеств можно ожидать от животного?
В романе Хаггарда альтернативная действительность сочетает реальные социальные установки и вневременные общечеловеческие ценности. Культ деятельной личности, как и мотив священного похода за сакральным знанием, раскрывается в путешествии Лео, стремящегося изменить свою жизнь. Черты мифа угадываются в образе Айши – олицетворенного женского начала. Представлен даже элемент цикличности бытия – возрождение в теле Лео древнего героя Калликрата.
Возвращаясь к вопросу о появлении фэнтези как жанра, его родоначальниками уместно будет называть и Морриса, и Хаггарда. Ну а если учитывать хронологию, Генри Хаггарда следует указывать первым.
Фэнтези – самобытный жанр фантастической литературы, чьи корни питают древнейшие тексты и предания. Но, несмотря на то что фэнтези-произведения с завидным постоянством рвут книжные рейтинги, академическое литературоведение проявляет к нему прискорбно мало интереса: где-то когда-то закрепилось убеждение, что это и не литература вовсе, а паразит, эксплуатирующий сокровища мировой культуры.

Портрет Л. Фуллер в роли Гезеи в сцене ее смерти из книги Х. Р. Хаггарда «Она», 1887 г.
The New York Public Library Digital Collection
В результате фундаментальную исследовательскую работу взяли на себя практики жанра – и у них неплохо получилось разработать эти земли. Вот, кстати, и еще одна отличительная особенность фэнтези: многие авторы знаковых произведений жанра также заложили его теоретические основы. К нашему с вами удовольствию, к их числу относится и Анджей Сапковский.
Глава 2. О законодателях жанра
В литературоведении бытует практика разделять читателей на условные типы в соответствии с уровнем литературной эрудиции. Наиболее внятная классификация представлена в трудах Ольги Мончаковской (р. 1968), которая выводит три типа читателей:
1) стихийный (эмпатический) следит за динамикой сюжета, драматизмом событий, взаимоотношениями героев;
2) ассоциативный (массовый) балансирует между условно высокой и низкой культурой; в рамках заданного автором дискурса такой читатель создает собственный ассоциативный ряд;
3) элитарный (профессиональный) пытается разглядеть в произведении черты самого писателя, вскрывает авторские приемы, заставляющие сопереживать вымыслу.
Опираясь на эту типологию, Мончаковская выделяет и типы авторов фэнтези в соответствии с их ориентированностью на того или иного читателя:
1) ремесленник ограничивается созданием легкоузнаваемой модели вымышленного мира. В подобных случаях мы имеем дело с китчем, созданным по законам упрощения и заимствования апробированных находок;
2) мастер создает «банк образов», которые сочетаются друг с другом в голове читателя, порождая разные тексты;
3) художник воспринимает текст как игру, разрушает этические категории добра и зла. Главное для него – сам процесс игры. Характерная особенность творчества такого автора – «двойное кодирование», многоуровневое письмо, рассчитанное на читателей разной компетентности9.
Фэнтези, создаваемое авторами третьего типа, можно назвать «профессорским»: это тщательно выверенный текст, сконструированный с опорой на безупречное знание законов литературной игры. Такие произведения создаются в рамках традиций, но с установкой на преодоление их замкнутости и смещение акцента «на те уровни функционирования текста, где чаще всего проявляется его дискурсивный характер»10.
Как правило, именно писатели третьего типа создают литературные произведения, которые считаются в первую очередь достойными элементами культурного наследия человечества и лишь во вторую – продуктами литературного рынка. О таких корифеях мы говорим как о законодателях жанра.
ПИСАТЕЛЬ-ПРОФЕССОР
Анджей Сапковский по праву занимает место в ряду самых ярких авторов «профессорского» типа, работающих в жанре фэнтези, – таких как Толкин, Льюис, Желязны. Его произведения представляют собой удивительно органичный сплав многообразных компонентов, объединенных вокруг основной смысловой оси. В том же «Ведьмаке» писатель ведет тонкую, многослойную литературную игру во всех измерениях аккуратно выстроенного художественного пространства. При этом он не уходит в «гиперэстетизм» – напротив, его произведения за счет многоуровневости обращены к читателям сразу всех трех типов.
Принадлежность к «профессорам» уже можно назвать отличительной чертой Сапковского и его творческого метода, но и в плеяде классиков жанра он выделяется не только как практик, но и как теоретик фэнтези. Его перу принадлежит множество статей и эссе, исследующих истоки жанра, его канон, а также современное состояние фэнтези во всем мире. Как мастер литературной игры и в то же время художник, Сапковский в своих теоретических работах планомерно выстраивает свое видение законов жанра, а выведенные постулаты в той или иной степени подкрепляет творческой практикой.
Наиболее значимые исследовательские работы писателя – статья «Пируг, или Нет золота в Серых горах» (1992) и эссе «Мир короля Артура» (1995). Обе были написаны в тот же период, что и «Ведьмак» (1990–1998), но первый том романа увидел свет на два года раньше, чем первая из упомянутых статей.
Мы можем предположить, что «Пируг» и «Мир короля Артура» проливают свет на некоторые секреты творческой кухни писателя, если примем как данность, что его художественные находки соответствуют общему канону. «Ведьмак» же закрепляет теорию на практике, о чем свидетельствует гармония художественной образности в романе. Получается, что практика и теория в творчестве Сапковского неразрывно связаны, и, чтобы в полной мере изучить своеобразие метода писателя, мы должны рассмотреть обе эти составляющие в совокупности, а затем сравнить их с общей теорией и практикой жанра.
ФЭНТЕЗИ ПО САПКОВСКОМУ
Статью «Пируг, или Нет золота в Серых горах» можно назвать программной: в ней Сапковский впервые заговорил о едином для всей литературы фэнтези «артурианском архетипе», к которому мы вернемся чуть позже. Для начала же рассмотрим структуру статьи.
В своей работе писатель последовательно задается вопросами:
а) происхождения фэнтези;
б) определения фэнтези;
в) структурного содержания жанра.
Сапковский честно отмечает, что среди специалистов нет единого мнения об истоках жанра фэнтези. Он приводит несколько точек зрения, но особо отмечает ту, что считает справедливой сам, а она в основе жанра видит культуру палп-журналов – дешевых бульварных периодических изданий, которые публиковали сенсационные рассказы. Как раз в одном из таких журналов в начале XX века появились и долго не сходили со страниц комиксы некоего Уинзора Маккея (1869–1934).
Картинки Маккея среди подобных комиксов отличала одна довольно-таки характерная черта – приключения вышеупомянутого Немо происходят… в удивительной стране, которую Маккей назвал Сламберлендом, – где было полно замков на скалах, прекрасных принцесс, храбрых рыцарей, волшебников и ужасных чудовищ.
Сламберленд Маккея стал первым настоящим широко известным островом Гдетотам… Страной Мечты. Комикс Маккея нельзя было отнести к приключенческим (adventure), не был он и научной фантастикой (science fiction). Это была фантазия. По-английски – fantasy.
В 1930 году другой известный сейчас писатель – Роберт Говард (1906–1936) – придумал для палп-журнала Weird Tales знакового персонажа – Конана из Киммерии. Этот персонаж жил и совершал подвиги в мире, который очень похож на наш, однако явно фантастичен. Уже в 1936 году Говард, к сожалению, расстался с жизнью, успев написать об этом герое лишь несколько небольших рассказов и повестей. Единственное же произведение крупной формы, посвященное Конану, было переиздано после смерти автора под громким названием Conan the Conquerior («Конан-завоеватель»). А после смерти писателя началось такое…
Говард лежит себе в темной могилке, – пишет Сапковский, – а мирок американских фанов начинает трястись от последующих «Конанов…», выпекаемых шустряками, чующими большие деньги. Шустряки чувствуют себя прекрасно, потому что знают: Говард создал новый, читабельный, прекрасно продаваемый жанр – sword and sorcery (меч и магия), иногда называемый еще и heroic fantasy (героическое фэнтези).
Говард первым создал мир Никогда-Никогда, который оказался широко востребован и популярен до того, что стал основой для множества подобий. Толкин опубликовал в Англии своего «Хоббита» чуть позже, в 1937 году, хотя родилась его концепция мира Никогда-Никогда еще в 1920-х. А на то, чтобы создать трилогию, перевернувшую мир, автору потребовалось еще почти двадцать лет. И да, фактически Клайв Льюис опередил его, издав свою «Нарнию» в 1950-м, но именно Толкин «бросил весь мир на колени» – и лишь после этого, когда «начались культовое поклонение и сумасшествие», читатели заметили и возвели на пьедестал Льюиса. Впрочем, в поисках истоков и подобий люди стали оглядываться еще дальше и смотреть еще шире.
…Кто-то узрел и стародавний «Лес за миром» Уильяма Морриса, «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, даже «Волшебника страны Оз» Фрэнка Баума, появившегося еще в 1900 году. Был замечен также Once and Future King11 Теренса Уайта, изданный в 1958 году.
«Пируг, или Нет золота в Серых горах»
Сапковский тем не менее замечает, что все перечисленные не вызвали такого же восторга, как «Властелин колец» и «Конан». К тому же если продолжить ряд, начатый «Волшебником из страны Оз» и «Алисой», то где же тогда «Питер Пэн» и «Винни Пух»? Ведь фантазия это? Несомненно. И вот, чтобы «преградить Винни Пуху дорогу в списки фантастических бестселлеров», теоретики уже придумывают новый термин – adult fantasy, фантазии (фэнтези) для взрослых.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе