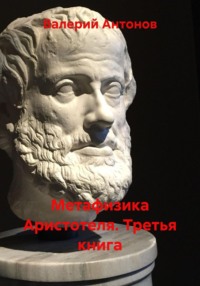Читать книгу: «Метафизика Аристотеля. Третья книга», страница 3
· [22] «…или кроме него есть и другое реальное?» (ἢ καὶ παρὰ ταῦτα ἕτερα [ὄντα])
o А. Швеглер (Bd. III, S. 108) отмечает, что эта апория затрагивает самое сердце метафизического спора между платонизмом и зарождающимся аристотелизмом. Аристотель формулирует фундаментальный вопрос: ограничивается ли онтология чувственным миром (позиция, которую он в итоге отвергнет) или необходимо признать существование сверхчувственных сущностей? Швеглер подчеркивает, что сам Аристотель, критикуя платоновские идеи, не отрицает необходимости нематериальных причин, таких как Ум-перводвигатель.
o W.D. Ross (Vol. I, p. 224) комментирует, что вопрос о «другом реальном» (ἕτερα ὄντα) прямо ведет к аристотелевскому учению о неподвижных сущностях, изложенному в книге Λ. Критика Платона служит для Аристотеля способом оттенить собственную, более сложную и дифференцированную онтологию, которая включает в себя и чувственные, и вечные, но не отделенные от мира сущности, и чисто актуальный ум.
o А.Ф. Лосев в своем анализе платонизма и аристотелизма видит в этом вопросе ключевой пункт расхождения. Для Платона «другое реальное» (идеи) онтологически первично. Для Аристотеля же, как отмечает Лосев, «критика идей Платона отнюдь не означает отрицания сверхчувственного… но означает только отрицание его самостоятельного и отдельного от вещей существования» (История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика, С. 50).
· [23] «…мы, платоники, допускаем…» (πῶς λέγομεν τὰς ἰδέας καὶ ἡμεῖς οἰόμεθα)
o А. Швеглер (S. 109) обращает внимание на иронию и критический пафос этого места. Фраза «мы, платоники» (καὶ ἡμεῖς) указывает на то, что Аристотель долгое время был частью Академии и хорошо знаком с этой теорией изнутри. Его критика – это не критика со стороны, а внутренняя, исходящая из понимания слабых мест собственной прежней школы. Швеглер отсылает к более ранним работам Аристотеля, где критика идей была более подробной («О идеях»).
o Д.В. Бугай (С. 91) в своем комментарии пишет, что эта самоидентификация Аристотеля («мы») важна для понимания генезиса его мысли. Он не просто внешний оппонент, а мыслитель, прошедший через платонизм и стремящийся преодолеть его трудности, сохранив при этом рациональное зерно – поиск неизменных причин и сущностей.
· [24] «…первые вечны, а вторые преходящи…» (ταῦτα… ἀΐδια… τὰ δ’ ἐφήμερα)
o W.D. Ross (p. 225) поясняет, что в этом заключается главный парадокс теории идей, по Аристотелю. Платон хотел объяснить непостоянство чувственного мира, постулировав мир вечных и неизменных сущностей. Однако, как показывает Аристотель, если идея есть просто копия чувственной вещи, лишенная только ее несовершенства (тленности), то она не может быть причиной ее существования и свойств. Она лишь удваивает мир, не объясняя его. Это знаменитый аргумент «третьего человека».
o Joseph Owens (The Doctrine of Being, p. 192) акцентирует, что Аристотель ищет не просто вечные сущности, а сущности иного рода, которые были бы причиной бытия и становления чувственных вещей. Просто «вечный человек» не может быть причиной «преходящего человека». Нужна причина, которая по своей природе отлична от следствия.
· [25] «…так и идеи платоников – не что иное, как вечные чувственные вещи.» (οὔτε τὰς ἰδέας αἰσθητὰ ἀλλ’ ἢ ἀΐδια αἰσθητά)
o А. Швеглер (S. 110) называет этот вывод Аристотеля «смертельным ударом» по теории идей. Идеи низводятся до статуса просто бессмертных двойников чувственных вещей, лишаясь своего главного предназначения – быть принципиально иной, высшей реальностью, объясняющей низшую. Они становятся бесполезным умножением сущностей (бритва Оккама до Оккама).
o А.Ф. Лосев видит в этой критике не просто отрицание, а диалектический момент. Аристотель, по его мнению, показывает, что платоновская идея, взятая сама по себе, абстрактно, действительно превращается в «вечную вещь». Собственная же метафизика Аристотеля есть попытка мыслить сущность не как отдельный предмет, а как внутренний принцип (форму) самой чувственной вещи, как суть ее бытия (Очерки античного символизма и мифологии, Т. 1, С. 432).
o Д.В. Бугай (С. 92) подводит итог: этот пассаж демонстрирует метод Аристотеля – выявлять внутренние противоречия в существующих теориях (апории), чтобы расчистить путь для построения собственного, более последовательного учения о сущем.
Текст Аристотеля.
Более того, можно столкнуться со многими трудностями, если в дополнение к идеям и чувственным вещам [26] поместить середину. Очевидно, что тогда линии должны были бы существовать помимо линий – как таковых, чувственно воспринимаемых линий и т. д.; а поскольку астрономия относится к математическим наукам, то помимо чувственно воспринимаемого неба должно было бы существовать небо, а также солнце, [27] луна и все остальные небесные тела, как бы они ни назывались. Но как это правдоподобно? То, что такое небо было бы неподвижным, маловероятно, то, что оно двигалось бы, совершенно невозможно. То же самое касается оптики и математической гармоники; по тем же причинам эти вещи не могут существовать отдельно от чувственно воспринимаемого и наряду с ним. Ведь если, как следует из этого предположения, между чувственно воспринимаемым и чувственными восприятиями существует посредник, то между [29] идеальными животными и преходящими животными должны быть и животные. Кроме того, может возникнуть сомнение в том, к чему следует стремиться в этих науках. Ведь если геометрия отличается от искусства измерения поля только тем, что последнее относится к чувственно воспринимаемому, а первое – к нечувственно воспринимаемому, то должна существовать и наука, отличная от искусства врачевания (как и от любого другого искусства), которая стоит посередине [30] между искусством врачевания как таковым и этим особым искусством врачевания. Но как это возможно?
ἔτι δ’ εἰ παρὰ τὰς ἰδέας καὶ τὰ αἰσθητὰ τὰ μαθηματικὰ θήσομεν [26] ὄντα, πολλὰς ἀπορίας ἕξει φαινόμενα. μίαν γὰρ γραμμὴν ἔσονται παρὰ τὴν αὐτογραμμὴν καὶ τὰς αἰσθητὰς (καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως)· ὥστ’ ἐπεὶ ἡ ἀστρολογία μία τούτων ἐστίν, ἔσται τις καὶ οὐρανὸς παρὰ τὸν αἰσθητὸν οὐρανόν, καὶ ἥλιός τε καὶ [27] σελήνη καὶ τἆλλα τὰ κατ’ οὐρανὸν ὁμοίως. ἀλλὰ πῶς χρὴ πιστεῦσαι τούτοις; οὐδὲ γὰρ ἀκίνητον εὔλογον εἶναι, κινεῖσθαι δὲ παντελῶς ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ὀπτικῆς καὶ ἁρμονικῆς τῶν μαθηματικῶν οὐσῶν· οὐδὲ γὰρ ταῦτ’ εἶναι χωρὶς δυνατὸν [28] τοῦ αἰσθητοῦ καὶ παρ’ αὐτά, διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. εἰ γὰρ ἔστι μεταξὺ αἰσθητοῦ καὶ αἰσθητήρων, δῆλον ὅτι καὶ ζῷα μεταξὺ ἔσται [29] αὐτοζῴου καὶ τῶν φθαρτῶν ζῴων. ζητήσειέ τις δ’ ἂν καὶ τίνος δεῖ στοχάζεσθαι τῶν τοιούτων ἐπιστημῶν. εἰ γὰρ τῆς μὲν γεωμετρίας οὐθὲν διαφέρει ἡ χειροτεχνικὴ πλὴν τοῦ τὰ μὲν αἰσθητὰ εἶναι περὶ ὧν ἐστιν ἡ χειροτεχνική, τὰ δὲ μὴ αἰσθητὰ ἡ γεωμετρία, δῆλον ὅτι καὶ ἰατρικῆς ἔσται τις παρὰ τὴν [30] ἰατρικὴν τὴν αὐτήν, καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἑκάστης ὁμοίως. πῶς δ’ οἷόν τε;Древнегреческий текст (по изданию Беккера): Комментарий:
· [26] «…поместить середину.» (τὰ μαθηματικὰ θήσομεν ὄντα)
o А. Швеглер (Bd. III, S. 111) поясняет, что «середина» (τὰ μαθηματικά) – это гипотетический класс математических объектов, которые, согласно некоторым интерпретациям платонизма, занимают промежуточное положение между идеями (вечными, неизменными, нематериальными) и чувственными вещами (преходящими, изменчивыми, материальными). Они мыслятся как нематериальные, но множественные (в отличие от единственной идеи, например, идеи числа).
o W.D. Ross (Vol. I, p. 226) уточняет, что эта теория, вероятно, принадлежит не самому Платону, а его последователям в Академии (например, Ксенократу), которые пытались систематизировать и догматизировать учение об идеях. Аристотель атакует эту популярную в его время версию платонизма, показывая ее абсурдные следствия.
· [27] «…солнце, луна и все остальные небесные тела…» (ἥλιός τε καὶ σελήνη καὶ τἆλλα τὰ κατ’ οὐρανὸν)
o А. Швеглер (S. 112) обращает внимание на силу этого reductio ad absurdum. Если астрономия – математическая наука, изучающая идеальные математические объекты, то у каждого небесного тела (Солнца, Луны) должен быть свой вечный, математический двойник. Это приводит к абсурдному умножению сущностей. Швеглер отмечает, что Аристотель в своей собственной астрономии будет рассматривать небесные тела как чувственные, но вечные и совершенные, тем самым избегая необходимости в их «математических» копиях.
o Д.В. Бугай (С. 93) комментирует, что этот аргумент особенно важен, так как он показывает несостоятельность попытки онтологизировать математические объекты. Для Аристотеля математика – это абстракция, мысленное отделение определенных свойств (количества, формы) от физической субстанции, а не исследование отдельно существующих математических сущностей.
· [29] «…между идеальными животными и преходящими животными должны быть и животные.» (καὶ ζῷα μεταξὺ ἔσται αὐτοζῴου καὶ τῶν φθαρτῶν ζῴων)
o W.D. Ross (p. 227) называет этот вывод Аристотеля «сокрушительным». Если логика «промежуточных сущностей» верна, то ее нужно применять ко всему без исключения. Это приведет к бесконечному регрессу: между идеей Животного и чувственным животным будет «математическое» животное, а затем между ним и чувственным потребуется еще одно промежуточное звено, и так до бесконечности. Это делает всю теорию логически несостоятельной.
o Joseph Owens (The Doctrine of Being, p. 194) видит в этом аргументе применение общего методологического принципа Аристотеля: если теория порождает бесконечный регресс (ἄπειρον), она ложна, так как бесконечность не может быть актуально дана и познана.
· [30] «…между искусством врачевания как таковым и этим особым искусством врачевания.» (μεταξὺ… ἰατρικῆς τῆς αὐτήν καὶ… ἰατρικὴν)
o А. Швеглер (S. 114) разъясняет этот гносеологический аргумент. Он направлен против разделения наук на «чистые» (идеальные) и «прикладные» (чувственные). Если геометрия отличается от землемерия только тем, что первая имеет идеальный объект, а вторая – чувственный, то по аналогии должна существовать некая «идеальная медицина» (ἰατρική αὐτή), изучающая идею здоровья, и «промежуточная медицина», изучающая «математического человека», и только затем – обычная медицина, лечащая реальных людей. Аристотель показывает, что это бессмысленное усложнение.
o А.Ф. Лосев (История античной эстетики, С. 52) интерпретирует эту апорию как доказательство единства теории и практики. Наука едина, но применяется к разным аспектам реальности. Нет отдельной «науки об идеях» и «науки о вещах»; подлинная наука (например, медицина) всегда имеет дело с сущностью (здоровьем), которая реализуется в конкретных чувственных вещах (телах пациентов) и познается через них.
o Д.В. Бугай (С. 94) подводит итог: критика «промежуточных» математических объектов служит Аристотелю для обоснования его собственного взгляда на математику как на науку, абстрагирующуюся от материи, но не обладающую собственным, отдельным от чувственного мира предметом бытия.
Ведь тогда должно существовать здоровье помимо того, что воспринимается органами чувств, и здоровье – само по себе. Более того, [31] даже не факт, что искусство измерения полей – это наука о чувственно воспринимаемых и скоропортящихся величинах, иначе оно [32] погибло бы вместе с ними.Текст Аристотеля (997a34-997b12): Швеглер видит в этом пассаже ключевой аргумент против сведения науки к чувственному опыту. Он подчеркивает, что Аристотель проводит различие между преходящими, материальными объектами (как конкретный здоровый человек или нарисованный геометрический треугольник) и вечными, неизменными объектами науки (как «здоровье само по себе» или идеальные математические объекты). Наука, по Аристотелю, имеет дело с последними. Ее принципы не могут зависеть от чего-то destructible (уничтожимого), иначе знание было бы непостоянным и ненадежным. Швеглер указывает, что здесь Аристотель полемизирует с платоновским учением об идеях, предлагая иную, имманентную теорию существования общих объектов науки – не отдельно от вещей, но как умопостигаемых сущностей, абстрагируемых от материи мыслью.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев в своем фундаментальном труде «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» анализирует этот отрывок в контексте аристотелевской критики Платона. Он акцентирует, что Аристотель, отрицая самостоятельное существование идей, тем не менее, вынужден признать существование неких устойчивых, общих объектов для наук. «Здоровье само по себе» – это не отдельная идея, но логос, смысловая структура, закон, который воплощается в конкретных вещах и познается через них, но не сводится к ним. Лосев показывает, что это демонстрирует диалектику единого и многого в учении Аристотеля: наука всегда о чем-то едином и общем (категория, форма, причина), что проявляется во многом – в множестве отдельных чувственных вещей.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай, переводчик и комментатор «Метафизики», в своей работе «Аристотель и античная литература» обращает внимание на конкретный пример с «искусством измерения полей» (геометрией). Он поясняет, что аргумент Аристотеля является апейроническим (от невозможного): если бы геометрия изучала именно вот эти начерченные на песке и искаженные неточными инструментами фигуры, то с разрушением каждой из них разрушалось бы и само знание. Но поскольку геометрическое знание вечно и необходимо, его объекты должны быть вечными и неизменными – абстрактными понятиями, существующими в уме геометра. Таким образом, наука возможна только благодаря тому, что разум способен абстрагироваться от материи и рассматривать исключительно форму.Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: Δεῖ γὰρ εἶναι ὑγίειαν παρὰ τὰ αἰσθητὰ ταῦτα καὶ ἕκαστον τῶν τοιούτων. Ἔτι δὲ [31] οὐδὲ γεωμετρίας ἐστὶ περὶ τὰ αἰσθητὰ μεγέθη ἐπιστήμη, καὶ ὡς φθαρτὰ οὖτα· [32] ἀπολεῖται γὰρ ἡ γεωμετρία φθειρομένων ἐκείνων.Древнегреческий оригинал текста: Разъяснения по ссылкам:
[31] «οὐδὲ γεωμετρίας ἐστὶ περὶ τὰ αἰσθητὰ μεγέθη ἐπιστήμη» («даже не… искусство измерения полей – это наука о чувственно воспринимаемых величинах»):
· Аристотель, «Метафизика», Кн. XIII, 1078a: «…геометр строит заключения не о том, что он воспринял чувствами, но рассматривает [эти фигуры] как нечто отличное от чувственно воспринимаемого… он рассматривает их поскольку они являются линиями и поскольку они являются телами, но не поскольку они есть [проявления] чувственно воспринимаемого тела». Это прямое подтверждение того, что объект математики – это абстрактные свойства, а не материальные носители.
· Александр Афродисийский, «Комментарий к “Метафизике” Аристотеля»: Александр поясняет, что геометр использует нарисованные фигуры не как чувственные объекты, но как символы умопостигаемых сущностей, которые и являются истинным предметом его исследования (CAG Vol. I, p. 213.21–25 Hayduck).
[32] «ἀπολεῖται γὰρ ἡ γεωμετρία φθειρομένων ἐκείνων» («погибло бы вместе с ними»):
· Этот аргумент восходит к Платону, «Государство», 527a: Сократ говорит, что геометрическое знание «вынуждает душу обращаться к тому месту, где пребывает самое счастливейшее из сущего… Если оно касается чего-то destructible, оно никуда не годится». Аристотель использует платоновскую логику, но дает ей иное онтологическое обоснование: объекты науки вечны не потому, что exist in a separate realm (существуют в отдельном мире), а потому, что они абстрактны и, следовательно, неуничтожимы по своей природе.
· Фома Аквинский, «Комментарий к “Метафизике” Аристотеля», §397: Фома развивает мысль Аристотеля, указывая, что науки, основанные на абстракции, имеют дело с необходимостью, а необходимость не может происходить из случайного и изменчивого чувственного мира. Поэтому объект науки должен быть отличен от материального субстрата.
Ведь тогда должно существовать здоровье помимо того, что воспринимается органами чувств, и здоровье – само по себе. Более того, [31] даже не факт, что искусство измерения полей – это наука о чувственно воспринимаемых и скоропортящихся величинах, иначе оно [32] погибло бы вместе с ними.Текст Аристотеля (997b12-998a6 (продолжение)): Швеглер видит в этом пассаже ключевой аргумент против сведения науки к чувственному опыту. Он подчеркивает, что Аристотель проводит различие между преходящими, материальными объектами (как конкретный здоровый человек или нарисованный геометрический треугольник) и вечными, неизменными объектами науки (как «здоровье само по себе» или идеальные математические объекты). Наука, по Аристотелю, имеет дело с последними. Ее принципы не могут зависеть от чего-то destructible (уничтожимого), иначе знание было бы непостоянным и ненадежным. Швеглер указывает, что здесь Аристотель полемизирует с платоновским учением об идеях, предлагая иную, имманентную теорию существования общих объектов науки – не отдельно от вещей, но как умопостигаемых сущностей, абстрагируемых от материи мыслью.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев в своем фундаментальном труде «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» анализирует этот отрывок в контексте аристотелевской критики Платона. Он акцентирует, что Аристотель, отрицая самостоятельное существование идей, тем не менее, вынужден признать существование неких устойчивых, общих объектов для наук. «Здоровье само по себе» – это не отдельная идея, но логос, смысловая структура, закон, который воплощается в конкретных вещах и познается через них, но не сводится к ним. Лосев показывает, что это демонстрирует диалектику единого и многого в учении Аристотеля: наука всегда о чем-то едином и общем (категория, форма, причина), что проявляется во многом – в множестве отдельных чувственных вещей.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай, переводчик и комментатор «Метафизики», в своей работе «Аристотель и античная литература» обращает внимание на конкретный пример с «искусством измерения полей» (геометрией). Он поясняет, что аргумент Аристотеля является апейроническим (от невозможного): если бы геометрия изучала именно вот эти начерченные на песке и искаженные неточными инструментами фигуры, то с разрушением каждой из них разрушалось бы и само знание. Но поскольку геометрическое знание вечно и необходимо, его объекты должны быть вечными и неизменными – абстрактными понятиями, существующими в уме геометра. Таким образом, наука возможна только благодаря тому, что разум способен абстрагироваться от материи и рассматривать исключительно форму.Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: Δεῖ γὰρ εἶναι ὑγίειαν παρὰ τὰ αἰσθητὰ ταῦτα καὶ ἕκαστον τῶν τοιούτων. Ἔτι δὲ [31] οὐδὲ γεωμετρίας ἐστὶ περὶ τὰ αἰσθητὰ μεγέθη ἐπιστήμη, καὶ ὡς φθαρτὰ οὖτα· [32] ἀπολεῖται γὰρ ἡ γεωμετρία φθειρομένων ἐκείνων.Древнегреческий оригинал текста: Разъяснения по ссылкам:
[31] «οὐδὲ γεωμετρίας ἐστὶ περὶ τὰ αἰσθητὰ μεγέθη ἐπιστήμη» («даже не… искусство измерения полей – это наука о чувственно воспринимаемых величинах»):
· Аристотель, «Метафизика», Кн. XIII, 1078a: «…геометр строит заключения не о том, что он воспринял чувствами, но рассматривает [эти фигуры] как нечто отличное от чувственно воспринимаемого… он рассматривает их поскольку они являются линиями и поскольку они являются телами, но не поскольку они есть [проявления] чувственно воспринимаемого тела». Это прямое подтверждение того, что объект математики – это абстрактные свойства, а не материальные носители.
· Александр Афродисийский, «Комментарий к “Метафизике” Аристотеля»: Александр поясняет, что геометр использует нарисованные фигуры не как чувственные объекты, но как символы умопостигаемых сущностей, которые и являются истинным предметом его исследования (CAG Vol. I, p. 213.21–25 Hayduck).
[32] «ἀπολεῖται γὰρ ἡ γεωμετρία φθειρομένων ἐκείνων» («погибло бы вместе с ними»):
· Этот аргумент восходит к Платону, «Государство», 527a: Сократ говорит, что геометрическое знание «вынуждает душу обращаться к тому месту, где пребывает самое счастливейшее из сущего… Если оно касается чего-то destructible, оно никуда не годится». Аристотель использует платоновскую логику, но дает ей иное онтологическое обоснование: объекты науки вечны не потому, что exist in a separate realm (существуют в отдельном мире), а потому, что они абстрактны и, следовательно, неуничтожимы по своей природе.
· Фома Аквинский, «Комментарий к “Метафизике” Аристотеля», §397: Фома развивает мысль Аристотеля, указывая, что науки, основанные на абстракции, имеют дело с необходимостью, а необходимость не может происходить из случайного и изменчивого чувственного мира. Поэтому объект науки должен быть отличен от материального субстрата.
Даже астрономия, вероятно, не является наукой о чувственно воспринимаемых величинах, и она не имеет никакого отношения к этому небу [33]. Ибо линии, воспринимаемые чувствами, не того рода, о которых говорит геометр: ничто, воспринимаемое чувствами, не является точно прямым или круглым [34], и круг, воспринимаемый чувствами, не просто касается прямой в одной точке [35], но таков, как говорит Протагор в своем опровержении геометров [36]: ни движения и кривые небес не похожи на те, о которых говорит астрономия [37], ни созвездия не имеют той же природы, что и звезды [38].Текст Аристотеля (998a7-998a19): Швеглер видит в этом отрывке развитие и усиление предыдущего аргумента. Если с геометрией ситуация была относительно ясна (ее объекты можно начертить условно), то астрономия, казалось бы, напрямую изучает видимое небо. Однако Аристотель проводит радикальное разделение: чувственно воспринимаемое небо со всеми его imperfections (несовершенствами) и идеальные, математические объекты астрономии как теоретической науки. Швеглер подчеркивает, что для Аристотеля астрономия – это раздел математики, применяемый к физической реальности, но ее предмет – не сами физические тела, а их абстрактные геометрические модели и идеализированные траектории. Упоминание Протагора служит Аристотелю для иллюстрации скептического вывода из смешения этих двух планов.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев анализирует этот пассаж как ключевой для понимания аристотелевской теории абстракции. Аристотель не отрицает существование чувственного неба, но отрицает его пригодность быть непосредственным объектом точной науки (ἐπιστήμη). Чувственный мир для него – это мир непрерывного становления, смешения форм, «искажения» идеальных контуров. Наука же, будь то геометрия или астрономия, имеет дело с «очищенными» от материи сущностями, с чистыми формами. Лосев указывает, что здесь Аристотель, по сути, дает ответ софистическому релятивизму Протагора: да, чувственный мир относителен и неточен, но это не отменяет существования абсолютного и точного знания, которое существует в сфере логического и математического.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай акцентирует внимание на конкретных примерах Аристотеля. Утверждение, что чувственный круг не касается линейки в одной точке, – это brilliant empirical observation (блестящее эмпирическое наблюдение), подрывающее претензии строгого знания на основе только чувств. На микроуровне всегда есть деформация, шероховатость, площадь контакта. Ссылка на Протагора [36] показывает, что Аристотель осознает силу скептических аргументов и принимает их в отношении мира явлений, чтобы оградить от них мир сущностей. Что касается астрономии [37, 38], то Бугай поясняет, что астрономия изучает не реальные, сложные движения светил, испытывающие возмущения, а идеальные круговые движения, приписываемые им в теоретической модели.Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἀστρολογία περὶ αἰσθητὰ μεγέθῃ ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν τοῦτον. Οὔτε γὰρ αἱ αἰσθηταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν οἵας λέγει ὁ γεωμέτρης (οὐθὲν γὰρ εὐθὺ αἰσθητὸν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον· ἀπτᾶται γὰρ τῆς κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος αἰσθητός, ἀλλ’ ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν ἔλenchon τοὺς γεωμέτρας), οὔθ’ αἱ κινήσεις καὶ sphairopoiiὰι αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦταί εἰσιν οἵας ὁ ἀστρολόγος λέγει, οὔτε τὰ σημεῖα τῆς αὐτῆς ἔχει φύσεως τοῖς ἄστροις.Древнегреческий оригинал текста: Разъяснения по ссылкам:
[33] «οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν τοῦτον» («и она не имеет никакого отношения к этому небу»):
· Аристотель, «О небе», I.3, 270b1-5: Аристотель прямо заявляет, что астрономия является самой физической из математических наук, поскольку она изучает физическую сущность – небо и светила, – но изучает их не как физик (который исслеледует материальную причину), а как математик, рассматривая лишь их математические свойства (форму и движение). Это подтверждает тезис о том, что ее объект – абстракция.
· Симпликий, «Комментарий к “О небу” Аристотеля»: Симпликий подробно разбирает этот статус астрономии, отмечая, что она занимает промежуточное положение между физикой и математикой, но ее доказательства заимствуются из математики (CAG Vol. VII, p. 20.10–25 Heiberg).
[34] «οὐθὲν γὰρ εὐθὺ αἰσθητὸν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον» («ничто, воспринимаемое чувствами, не является точно прямым или круглым»):
· Этот аргумент является краеугольным камнем аристотелевской теории абстракции. Он повторяется в других трудах, например, в «Физике», II.2, 193b31-35: «Геометр исследует линию, но не поскольку она есть линия чувственно воспринимаемого тела… он отделяет их [свойства] от движения, и это ничуть не ведет к ошибке, а также не означает, что они существуют отдельно».
[35] «ἀπτᾶται γὰρ τῆς κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος αἰσθητός» («круг, воспринимаемый чувствами, не просто касается прямой в одной точке»):
· Это классический пример, иллюстрирующий разрыв между идеальным математическим объектом и его материальным воплощением. Любой нарисованный круг при рассмотрении под увеличением будет иметь неровный край, а контакт с линейкой будет происходить по небольшой площади, а не в идеальной точке.
[36] «ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν ἔλenchon τοὺς γεωμέτρας» («но таков, как говорит Протагор в своем опровержении геометров»):
· Точное содержание аргумента Протагора не сохранилось. Диоген Лаэртский (IX, 53) упоминает, что Протагор спорил с геометрами. Предположительно, его аргумент был скептическим: поскольку идеальные фигуры невозможно продемонстрировать в чувственном мире, геометрическое знание не имеет основания в опыте и потому условно или ложно. Аристотель использует этот аргумент, чтобы показать обратное: основание геометрии – не в опыте, а в разуме.
[37] «οὔθ’ αἱ κινήσεις καὶ sphairopoiiὰι αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦταί εἰσιν» («ни движения и кривые небес не похожи на те, о которых говорит астрономия»):
· Аристотель в «Метафизике», XII.8, 1073b1-10 описывает сложную модель неба с множеством сфер, необходимых для объяснения наблюдаемых неравномерностей в движениях планет. Это доказывает, что его собственная астрономическая теория не была простым описанием наблюдений, а была идеализированной математической конструкцией, стремящейся «спасти явления» (σῴζειν τὰ φαινόμενα).
[38] «οὔτε τὰ σημεῖα τῆς αὐτῆς ἔχει φύσεως τοῖς ἄστροις» («ни созвездия не имеют той же природы, что и звезды»):
· «Созвездия» (τὰ σημεῖα) здесь, скорее всего, означают не группы звезд, а точки на небесной сфере (например, точки равноденствий или солнцестояний), которые являются математическими markers (маркерами) в астрономических расчетах. Аристотель подчеркивает, что эти абстрактные точки, введенные астрономом для построения теории, не являются физическими объектами, как сами звезды.
Некоторые сейчас считают, что эта так называемая [39] середина (τὸ μεταξύ) действительно существует между идеями и чувственными вещами, но не вне чувственных вещей, а внутри них. Чтобы перечислить все невозможности, к которым приводит это предположение, потребовалось бы более обширное обсуждение, но достаточно рассмотреть следующее. Маловероятно, чтобы так было только с серединой, как указано [40], но тогда, очевидно, было бы возможно, чтобы идеи находились в чувственных вещах, поскольку одно и то же относится к обоим. Кроме того, [41] два твердых тела должны были бы находиться в одном и том же месте, а середина не могла бы быть неподвижной, если бы она обитала в чувственной вещи, находящейся в движении. В общем, почему нужно считать середину существующей [42], но существующей в сенсорных вещах? Те же трудности, о которых говорилось выше, применимы и здесь. Ведь рядом с небом должно было бы существовать небо, только не вне его, а в одном и том же месте, что еще более невозможно [43].Текст Аристотеля (998a7-998a19 (продолжение)): Швеглер идентифицирует здесь критику Аристотелем теории, которую он приписывает, в частности, Евдоксу Книдскому и, возможно, некоторым пифагорейцам. Эта теория пыталась смягчить радикальный дуализм Платона, поместив математические объекты (числа, геометрические сущности) не в отдельный мир, а внутрь чувственных вещей в качестве их структурирующего начала. Швеглер подчеркивает, что Аристотель атакует эту концепцию с позиций своей физики и онтологии. Его главный аргумент – это нарушение фундаментальных физических принципов: два тела не могут занимать одно место (нарушение impenetrability), а вечное и неизменное (математическая сущность) не может находиться внутри движущегося и изменчивого, не заражаясь его природой. Для Аристотеля это попытка спасти теорию идей лишь умножает сущности и проблемы.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев анализирует этот отрывок как crucial moment (ключевой момент) в формировании собственной аристотелевской доктрины о соотношении общего и частного, формы и материи. Критикуя теорию «середины», Аристотель отвергает вещное понимание идеального. Идеальное (форма, эйдос, математическое соотношение) не является отдельной вещью (χωριστόν), которую можно «поместить» куда-либо – ни рядом, ни внутрь. Оно является имманентным логосом, принципом организации материи. Поэтому, по Лосеву, Аристотель не просто отрицает, но готовит почву для своего положительного решения: общее существует в вещах не физически, а как их сущностная форма, постигаемая умом через абстракцию.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай обращает внимание на логическую структуру аргументации Аристотеля. Он применяет reductio ad absurdum (сведение к абсурду) к теории «внутренней середины». Если допустить, что математические объекты существуют внутри чувственных вещей как особые сущности, то:Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: 1. Это произвольное ограничение: почему тогда не допустить, что и сами идеи находятся внутри вещей? [40]
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе