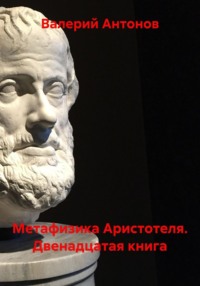Читать книгу: «Метафизика Аристотеля. Двенадцатая книга», страница 4
Глава 7. Природа Перводвигателя и божественный ум.
1. Вечное круговое движение как следствие Перводвигателя.
Поскольку материя ведет себя именно так и поскольку, если бы она не вела себя так, движение должно было бы возникнуть из ночи, из связи всех вещей и из несуществующего, наша задача решена, и существует нечто, что всегда находится в непрерывном движении, и это движение – круговое. Это следует не только из концепции, но и из фактов. Поэтому первое небо должно быть вечным. Следовательно, существует и то, что оно движется. А поскольку в центре находится то, что и движется, и движется, то, наконец, существует то, что движется, не будучи движимым, то есть нечто вечное, единое, субстанциональное и актуальное.
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф поясняет, что здесь Аристотель подводит итог доказательству из предыдущей главы. Вечное круговое движение неба – это не гипотеза, а эмпирический факт античной астрономии («из фактов»). Из этого факта с необходимостью выводится существование его причины. Логика такова: всё движимое движимо чем-то другим. Чтобы избежать бесконечного регресса, должен существовать конец цепи – сущность, которая движет, сама не будучи движимой. Эта сущность должна быть вечной (чтобы движение было вечным), единой (простой), субстанциальной (самостоятельно существующей) и актуальной (деятельной).
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – С. 145-148.
Зарубежный специалист (Сара Уотерлоу): Уотерлоу обращает внимание на формулировку «движет, не будучи движимым». Это означает, что Перводвигатель является имматериальной причиной. Любая материальная вещь, будучи сложной, может сама подвергаться воздействию. Только нематериальная, простая сущность может быть чистой причиной, совершенно не подверженной воздействию извне. Его способность двигать других не является физическим толчком, а имеет иную природу.
Источник: Waterlow (Broadie) S. Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics. – Oxford: Clarendon Press, 1982. – P. 220-225.
2. Желание и ум как причины движения.
Но оно движется. Желаемое и умопостигаемое движутся, не будучи движимыми; оба они едины в своем происхождении. Ибо объект желания – это то, что кажется прекрасным, первоначальный объект воления – то, что прекрасно. Но мы стремимся к прекрасному скорее потому, что оно кажется нам прекрасным, чем потому, что оно кажется нам прекрасным, потому что мы стремимся к нему. Поэтому мышление – это начало. Разум, однако, приводится в движение умопостигаемым, но только один ряд умопостигаем сам по себе, и в нем – единая субстанция, а среди единых субстанций простая и актуальная единая субстанция – первая.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев акцентирует революционный характер этого хода мысли. Аристотель раскрывает механизм неподвижного двигателя. Он движет не механически, а как конечная причина – как объект желания и мышления. Неподвижный двигатель движет мир, будучи целью (τέλος), к которой все стремится. Это стремление (ὄρεξις) может быть бессознательным (как у небесных тел) или сознательным (как у разумных существ). Высшей формой стремления является разумное желание, направленное на умопостигаемое благо. Таким образом, первопричина мира оказывается не силой, а ценностью и смыслом.
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 105-110.
Зарубежный специалист (Джон М. Купер): Американский философ Джон Купер в своей работе «Разум и человеческое благо у Аристотеля» подробно разбирает эту модель. Он показывает, что Аристотель проводит аналогию между божественным и человеческим разумом. Наш ум приводится в движение объектом познания (идеей, истиной), который сам при этом не изменяется. Так же и божественный ум, будучи высшим умопостигаемым объектом (Благом, Истиной), движет миром, притягивая его к себе, оставаясь при этом совершенно неподвижным и неизменным.
Источник: Cooper J.M. Reason and Human Good in Aristotle. – Indianapolis: Hackett, 1986. – P. 143-147.
3. Атрибуты Перводвигателя: простота, актуальность, благо.
Заметим, однако, что единое и простое не тождественны: единое обозначает меру, простое – определенное поведение. Но особенно прекрасное и то, что должно быть выбрано ради него самого, относятся к этому же ряду: и первое всегда лучшее или аналогичное лучшему. Но в нашем разделении противоположностей было показано, что существенное имеет место в неподвижном. Движение в сторону – это для субъекта, как цель, которая должна быть реализована, и из этих двух одно присутствует – цель, другое нет – реализация. Движимое движется как нечто любимое: но движимое движет в свою очередь другое. Если что-то движется, оно может и вести себя по-другому. Если, таким образом, первая орбита небес и ее актуальность имеют место в той мере, в какой она приведена в движение, то по этой самой причине эта орбита должна быть также способна вести себя по-разному в отношении места, даже если не в отношении сущности. Но поскольку есть движущаяся вещь, которая сама по себе неподвижна, и актуальная вещь, последняя никак не может вести себя по-разному. Циркуляция – это первое из изменений, а первая циркуляция – это круговое движение, и оно зависит от первого движителя. Перводвигатель, таким образом, существует по необходимости, и в той мере, в какой он существует по необходимости, это благо; в этом отношении он также является принципом.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко выделяет здесь онтологическое обоснование атрибутов Бога. Простота (отсутствие частей и сложности) гарантирует его неизменность. Актуальность (полная осуществленность) гарантирует его вечность и самодостаточность. Благо – это не моральная характеристика, а онтологическое совершенство: он есть высшая цель, к которой все стремится. Его бытие необходимо (не может быть иным) в отличие от условного, contingent бытия тварных вещей. Круговое движение неба – самое совершенное из движений – является прямым следствием стремления к этому совершенному Благу.
Источник: Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 310-315.
Зарубежный специалист (Энрико Берти): Итальянский исследователь Э. Берти подчеркивает, что у Аристотеля метафизика и теология сливаются воедино. Высшее бытие (первая философия) оказывается одновременно и высшим благом (теология). Доказательство существования Бога является не физическим, а метафизическим: оно вытекает из анализа самого понятия бытия, движения и причинности.
Источник: Berti E. Aristotle's Metaphysics: From the Theory of Substance to the Theory of Principle. // Review of Metaphysics, 2016, Vol. 70, No. 2, pp. 219-241.
4. Божественная жизнь как деятельность мышления.
1: О необходимости говорят в трех значениях: во-первых, о том, что принуждает и противостоит природному инстинкту, во-вторых, о том, без чего не может состояться благо, в-третьих, о том, что не может быть иначе, но является par excellence. Небеса и природа зависят от такого принципа. Его жизнь так же чудесна, как и то, что она дается нам лишь на краткий миг. Но она живет вечно. Для нас это было бы невозможно, но не для него, поскольку удовольствие – это его действительное состояние, подобно тому как отдельные акты бодрствования, чувственного восприятия, мышления являются для нас самыми приятными, и только ради них существуют надежды и память. Интеллект, однако, как фундаментальная детерминация, принадлежит к лучшему самому по себе, абсолютный интеллект – к абсолютному лучшему. Но интеллект мыслит себя, постигая умопостигаемое: он становится умопостигаемым, постигая и мысля себя, так что интеллект и умопостигаемое тождественны. Ибо способность постигать умопостигаемое и субстанцию есть интеллект; а интеллект актуален благодаря постижению умопостигаемого. То, чем интеллект, как кажется, обладает в отношении божественного, этот принцип обладает в еще более высокой степени: ведь мыслящее созерцание – самое приятное и самое лучшее. Если Божество всегда так же счастливо, как и мы, то это достойно восхищения, если же оно еще более счастливо, то это еще более чудесно. Но это действительно так. В нем есть жизнь, ибо деятельность интеллекта – это жизнь, а интеллект – это деятельность. Чистая и абсолютная деятельность – это его лучшая и вечная жизнь. Таким образом, мы говорим, что Бог – живое, вечное, лучшее существо: Жизнь приходит к нему и постоянно, вечно длится: ибо это суть Божества.
Комментарии:
А.В. Апполонов (Россия): Апполонов рассматривает этот пассаж как описание божественной жизни. Жизнь Бога – это не биологический процесс, а чистая деятельность самосознания и самопознания (νόησις νοήσεως). В этом акте субъект (мыслящее), объект (мыслимое) и действие (мышление) полностью тождественны. Это состояние высшего блаженства и наслаждения, которое у людей бывает лишь кратковременно в моменты наивысшего интеллектуального созерцания (θεωρία). Таким образом, этика Аристотеля, провозглашающая θεωρία высшей целью человеческой жизни, оказывается основанной на теологии: человек уподобляется Богу в меру своих сил.
Источник: Апполонов А.В. Аристотель и поздняя классика: курс лекций. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – С. 110-115.
Зарубежный специалист (Ричард Норман): Британский философ Р. Норман в своей работе «Аристотелевский философ-бог» анализирует знаменитую формулу «мышление мышления». Он argues, что это не пустая тавтология, а выражение высшей формы бытия. Бог не познает что-то внешнее (ибо нет ничего выше него), он познает собственную совершенную сущность. Это познание и есть его бытие. Таким образом, Бог есть чистый акт самопонимающего разума.
Источник: Norman R. Aristotle's Philosopher-God. // Phronesis, Vol. 14, No. 1 (1969), pp. 63-74.
5. Критика учений, отрицающих совершенство в начале.
2: С другой стороны, мнение тех философов, которые, подобно пифагорейцам и спевсиппийцам, считают, что прекраснейшие и лучшие вещи не находятся в принципе, поскольку принципы растений и животных – это причины, но прекрасные и совершенные вещи содержатся в том, что из них стало, неверно. Неверно, потому что семя происходит от другой, более ранней, совершенной вещи, а семя – это не первая, а совершенная вещь. Таким образом, о человеке можно сказать, что он раньше семени, но не тот, кто становится из семени, а тот, от кого происходит семя.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай видит здесь полемику с платониками (Спевсипп был племянником и преемником Платона), которые, развивая идеи пифагореизма, считали, что первоначала (Единое, Многое) сами по себе просты и несовершенны, а совершенство возникает лишь в производных от них сложных сущностях. Аристотель использует биологическую аналогию: семя (потенция) не первичнее взрослого организма (акт). Совершенное животное порождает семя, а не наоборот. Так и в метафизике: первопричина должна быть актуально совершенной, а не потенциальной и несовершенной. Она – не семя мира, а его зрелый, совершенный «родитель».
Источник: Бугай Д.В. Аристотель и платоновская теория идей. // ΣΧΟΛΗ. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 48-50.
Зарубежный специалист (Лео Элдерс): Голландский томист Лео Элдерс в своей работе «Аристотелевская теология» показывает, что этот аргумент имеет фундаментальное значение. Он утверждает примат актуальности над потенциальностью даже в порядке объяснения. Мир не развивается от хаоса к порядку; порядок и совершенство изначально заложены в первой причине, которая и имплантирует их в универсум через конечную причинность.
Источник: Elders L. Aristotle's Theology: A Commentary on Book Lambda of the Metaphysics. – Assen: Van Gorcum, 1972. – P. 155-158.
6. Итоговые свойства божественной субстанции.
3: То, что таким образом существует вечное, неподвижное существо, отделенное от разумного, очевидно из сказанного. Было также показано, что это существо не может иметь никакого протяжения, но что оно неделимо и нераздельно. Ибо оно движется в бесконечном времени, а ничто ограниченное не имеет бесконечной емкости. Всякая протяженная величина является либо неограниченной, либо ограниченной: но это существо не может быть ни ограниченной величиной, по только что указанной причине, ни неограниченной, потому что неограниченной величины вообще не существует. Также было доказано, что вечное существо не страдает и не становится другим: ведь все другие движения позже, чем здешние. Теперь понятно, почему это так.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров резюмирует свойства Перводвигателя, выведенные Аристотелем:
Нематериальность и непротяженность: Будучи чистым актом, он лишен материи, а значит, и величины, делимости, частей.
Неизменность: Он не подвержен никакому виду изменения (качественному, количественному, локальному), ибо всякое изменение есть реализация потенции, а в нем её нет.
Трансцендентность: Он «отделен» (χωριστόν) от чувственного мира, существует не в пространстве, а в ином, умопостигаемом модусе бытия.
Эти атрибуты легли в основу всего последующего богословия в монотеистических религиях.
Источник: Петров В.В. Множественность форм и проблема единого ума… // ΣΧΟΛΗ. Т. 3. 2009. – С. 438-440.
Зарубежный специалист (Томас де Конанк): Французский философ Т. де Конанк в коллективной монографии «Аристотель и за пределами» анализирует заключительный аргумент о бесконечной силе. Бесконечное время вечного движения требует бесконечной по силе причины. Конечное физическое тело не может обладать бесконечной силой. Следовательно, первопричина должна быть нематериальной и бесконечной не в смысле размера, а в смысле мощи (infinite in power, not in magnitude).
Источник: De Koninck T. Aristotle on God as Thought Thinking Itself. // In: Aristotle and Beyond. Essays on Metaphysics and Ethics. Ed. by S. Broadie. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 81-100.
Глава 8. О числе неподвижных перводвигателей.
1. Постановка проблемы числа перводвигателей.
Должны ли мы предполагать только одно такое существо или несколько, мы не должны оставлять без обсуждения, но мы должны также вспомнить здесь утверждения других философов и заметить, что они не сказали ничего ясного о числе этих существ. Учение об идеях не сделало специального исследования этого вопроса: ведь друзья этого учения называют идеи числами, но они говорят о числах то как о бесконечно многих, то как о безусловно многих, вплоть до число пальцев на ногах; но почему количество чисел именно так велико, они не взяли на себя труд доказать.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель переходит от качественного описания Перводвигателя к количественному вопросу. Он критикует платоников за произвольность в определении числа идей (или чисел-принципов). Их система не выводит число первоначал из строгого принципа, а постулирует его ad hoc. Аристотель же намерен дать научное, обоснованное решение, исходя из данных космологии и собственных метафизических принципов.
Источник: Бугай Д.В. Аристотель и платоновская теория идей. // ΣΧΟΛΗ. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 50-52.
Зарубежный специалист (Дэвид Росс): Росс в своем комментарии уточняет, что критика направлена против пифагорейско-платоновской традиции, которая отождествляла идеи с числами. Аристотель высмеивает их подход: если есть идея числа «десять», то почему бы не быть идее числа «одиннадцать»? Если есть идея «пальца», то почему нет идеи «ноготья»? Это приводит к произволу и дурной бесконечности. Его собственный метод будет опираться на эмпирические данные астрономии.
Источник: Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 384-385.
2. Доказательство множественности перводвигателей из астрономии.
В нашем доказательстве, однако, мы должны исходить из того, что уже заложили и установили. Принцип и первое среди существующего неподвижно как само по себе, так и соответственно, и из него исходит первое, вечное и определенное движение. Но поскольку движущееся обязательно движется чем-то, а первое движущееся неподвижно само по себе, то и вечное движение должно исходить из вечного, а некоторое – из единого; Поскольку, кроме простого вращения вселенной, которое, как мы уже сказали, происходит от первого неподвижного существа, мы видим и другие вечные движения, движения планет (ибо тело, движущееся по кругу, вечно и неподвижно, как было показано в физике), каждое из этих планетарных движений также должно быть в основе своей вызвано и обусловлено неподвижным и вечным существом. Ведь поскольку природа небесных тел – это вечная субстанция, то и движение должно быть вечным и более ранним, чем движение, а то, что раньше индивидуальной субстанции, само должно быть индивидуальной субстанцией. Таким образом, из только что приведенных причин следует, что обязательно существует столько субстанций и что они по своей природе вечны и сами по себе неподвижны и не имеют величины.
Комментарии:
А.В. Лебедев (СССР/Россия): Лебедев поясняет логику Аристотеля. Из факта множественности вечных движений на небе (движение сферы неподвижных звезд + движения каждой из планет) с необходимостью выводится множественность вечных неподвижных причин. Каждое вечное движение требует своей собственной конечной причины – неподвижного двигателя, который является целью этого стремления. Таким образом, иерархия космоса такова: Высший Перводвигатель (Бог) -> Умы планетных сфер -> Небесные тела (их сферы). Это – знаменитая аристотелевская иерархия 47 или 55 божественных сущностей (умов).
Источник: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. / Изд. подгот. А.В. Лебедев. – М.: Наука, 1989. – (В примечаниях).
Зарубежный специалист (Абрахам Бос): Бос подчеркивает, что это рассуждение основано на принципе изоморфизма причины и следствия. Вечное следствие (планетное движение) требует вечной причины. Самостоятельное следствие (каждое движение имеет свою собственную природу) требует самостоятельной причины. Поэтому для каждого самостоятельного вечного движения должна существовать отдельная, самостоятельная вечная причина – неподвижный ум.
Источник: Bos A.P. Cosmic and Meta-cosmic Theology in Aristotle's Lost Dialogues. – Leiden: Brill, 1989. – P. 85-88.
3. Роль астрономии в определении числа движений.
Поэтому ясно, что существуют [космические] субстанции, а также то, какая из них первая, а какая вторая, согласно порядку, соответствующему орбитам небесных тел. Но число оборотов должно быть определено с помощью той философии, которая из всех математических наук имеет самое особенное отношение к данному вопросу, с помощью астрономии: ведь эта наука исследует субстанцию, которая, хотя и воспринимается чувствами, вечна, тогда как другие математические науки, например, арифметика и геометрия, не имеют никакого отношения к субстанциям. То, что то, что находится на орбите, имеет несколько движений, должно быть ясно и тем, кто хоть немного изучал эти вещи; ведь каждая планета имеет более одного движения.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко акцентирует методологический аспект. Аристотель четко разграничивает роли метафизики и частных наук. Задача метафизики – доказать необходимость существования неподвижных двигателей. Задача астрономии – определить их точное число, исходя из наблюдаемых движений светил. Астрономия – привилегированная наука, так как она изучает вечные, но чувственно воспринимаемые сущности (небесные тела), являясь мостом между физикой и метафизикой.
Источник: Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 315-318.
Зарубежный специалист (Иэн Мюллер): Профессор Мюллер в своих работах по античной математике отмечает, что Аристотель здесь проводит важное различие между абстрактными математическими науками (арифметика, геометрия) и прикладной математической физикой (астрономия, гармоника). Последние имеют прямое отношение к изучению физической субстанции и, следовательно, к метафизике.
Источник: Mueller I. Aristotle on Geometrical Objects. // Archiv für Geschichte der Philosophie, 52(1970), pp. 156-171.
4. Обзор астрономических теорий Евдокса и Каллиппа.
Что касается их количества, то для ясности мы приведем мнения некоторых математиков, чтобы получить определенное представление об их количестве. Кстати, одно мы должны исследовать сами, а другое узнавать от тех, кто о них расспрашивал; и если знатоки предмета не согласны с тем, что мы сказали, давайте отдадим предпочтение обоим, но согласимся с более точным. Евдокс предполагал, что движение солнца и луны происходит в трех сферах, первая из которых – неподвижные звезды, вторая – направление круга, проходящего через центр зодиака, третья – направление круга, проходящего по диагонали через ширину зодиака: но это среднее было более наклонным для круга движения луны, чем для круга движения солнца. Движение планет, однако, происходит в четырех сферах, первая и вторая из которых совпадают с движением Солнца и Луны (ибо сфера неподвижных звезд ведет их всех по кругу, и точно так же подчиненная ей сфера, а именно та, что движется по центральной линии зодиака, является общей для всех планет); полюса всех планет третьей сферы находились на центральной линии зодиака, а орбита четвертой проходила по кругу, наклонному к этой центральной линии; полюса третьей сферы были особыми для каждой из остальных планет, но одинаковыми для Венеры и Меркурия. О положении сфер, то есть о порядке их расстояний, Каллипп рассуждал так же, как Евдокс: относительно числа сфер он давал одинаковое число Юпитеру и Сатурну, но к Солнцу и Луне, по его мнению, следовало добавить еще две, если хотели объяснить явления, и точно так же еще по одной к каждой из других планет. Кроме того, если астрономический состав всех сфер должен был соответствовать небесным явлениям, необходимо было предположить, что для каждой планеты существует число других сфер, на одну меньше первой, которые должны были повернуть первую сферу подчиненной звезды и вернуть ее в правильное положение: только при таком предположении орбиты планет могли производить все явления. Теперь, поскольку сфер, по которым движется орбита, частично 8, частично 25, и из них только те, в которых движется самая нижняя, не нуждаются в ретроградации, будет 6 сфер ретроградации в отношении первых двух планет и 16 в отношении четырех последующих, и таким образом число всех сфер, как тех, которые осуществляют орбиту, так и тех, которые ее ретроградируют, возрастает до 55. Если, однако, не добавлять вышеупомянутые движения Луны и Солнца, то общее число сфер составит.
Комментарии:
С.В. Месяц (Россия): Месяц, как специалист по античной науке, поясняет, что Аристотель излагает здесь теорию гомоцентрических сфер Евдокса Книдского, усовершенствованную Каллиппом. Это – математическая модель, призванная объяснить сложные видимые движения планет (попятные движения, изменения скорости) через комбинацию равномерных круговых движений. Каждой сфере, отвечающей за отдельное движение, должен, по Аристотелю, соответствовать свой неподвижный двигатель (ум). Таким образом, метафизик зависит от данных астрономии: число богов = числу сфер, необходимых для объяснения небесных явлений.
Источник: Аристотель. Физика. Кн. I-IV. / Пер. и комм. С.В. Месяц. – М.: ГЛК, 2017. – Комментарии к кн. VIII.
Зарубежный специалист (Г.Е.Р. Ллойд): Ллойд в работе «Методы и проблемы греческой науки» анализирует этот пассаж как пример взаимодействия философии и науки. Аристотель не является астрономом; он заимствует модель у специалистов. Однако он онтологизирует математическую модель: для него сферы – не абстракции, а реальные физические, хотя и эфирные, образования, а значит, требующие реальных двигателей. Это характерная черта аристотелевского подхода.
Источник: Lloyd G.E.R. Methods and Problems in Greek Science. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – P. 110-115.
5. Вывод о числе перводвигателей и единстве неба.
Предполагая теперь, что число кругов столь велико, мы можем с вероятностью предположить, что существует столько же субстанций и неподвижных, но чувственно ощутимых принципов. Сказать и доказать что-либо определенное по этому поводу – дело сильнейших. Поскольку теперь невозможно существование какого-либо движения, которое не совпадало бы с движением небесного тела, и поскольку, кроме того, следует полагать, что каждая свободная от страданий и самосуществующая природа и субстанция достигла наилучшей цели, никакое другое существо не может существовать помимо этих существ, но число субстанций должно быть столь же велико. Если бы еще существовали другие, то они должны были бы двигаться, будучи сами концами движения, поскольку невозможно существование других движений, кроме упомянутых. Что это так, можно заключить из того, что находится в движении: ведь если все, что движется, движется только потому, что есть движущаяся вещь, и если каждое движение должно иметь движущуюся вещь в качестве своего носителя, то ни одно движение не может существовать ради самого себя или ради другого движения, но существует ради субстрата, небесных тел. Ведь если бы движение существовало ради движения, то последнее должно было бы существовать и ради другого: а поскольку продолжение в бесконечность невозможно, то целью всякого движения должно быть одно из божественных тел, обращающихся на небе. Если бы было несколько небес, как несколько людей, то у них был бы один принцип в роде, много принципов в числе. Только то, что много по числу, имеет материю. Понятие одно и то же для многих вещей, например, для человека: Сократ, с другой стороны, один. Высшая форма не имеет материи: она – совершенная реальность. Единица в понятии и числе – это, следовательно, первая движущаяся вещь, которая сама по себе неподвижна, и поэтому то, что всегда и постоянно движется, также является только Единицей: следовательно, существует только одно Небо.
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф обращает внимание на два ключевых вывода, которые делает Аристотель:
Множественность двигателей: Их число вероятностно определяется данными астрономии (~55).
Единство космоса: Несмотря на множественность двигателей, сам космос един. Не может быть многих миров («небес»), подобно тому как есть много людей. Высший Перводвигатель един и уникален. Аргумент: множественность всегда обусловлена материей (у Сократа и Каллия разная материя, но одна форма «человек»). Но высшие сущности бестелесны и нематериальны, а значит, в каждом виде таких сущностей может быть только одна индивидуальность. Поэтому есть только один Высший Ум и только один Космос – его единственное возможное воплощение и следствие.
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – С. 150-155.
Зарубежный специалист (Вернер Йегер): Йегер видит в этом заключении синтез платоновского и досократовского монизма с аристотелевским эмпиризмом. Космос Аристотеля иерархически упорядочен и множественен, но в своем единстве и замкнутости он так же един и совершенен, как и космос Парменида или Платона. Множественность неподвижных двигателей не нарушает единства миропорядка, так как все они суть умы, устремленные к единому высшему Благу.
Источник: Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. 2nd ed. – Oxford: Clarendon Press, 1948. – P. 400-402.
6. Мифологическая традиция как отражение древней мудрости.
От древних и из глубокой древности до наших потомков дошло в виде мифа, что звезды – это боги и что божественное охватывает всю природу. Остальное – мифические добавления для убеждения толпы, ради законодательства и удобства. А именно, что боги человекоподобны и похожи на другие существа, и прочие подобные вещи. Если мы теперь исключим последнее и будем придерживаться только первого, того мнения, что первые субстанции – это боги, то нам, вероятно, придется считать эту доктрину божественным откровением. А поскольку каждое искусство и философия, предположительно, не раз были открыты, насколько это было возможно, а затем вновь утеряны, эти взгляды вполне могут оказаться руинами древней утерянной мудрости, дошедшей до наших дней. Только в этом отношении мы можем понять идеи наших отцов и традиции доисторических времен.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев придает этому заключению огромное значение. Аристотель не отвергает традиционную религию, а дает ей аллегорическое и философское истолкование (т.н. «аллегорезис»). За мифами о богах-планетах скрывается глубокое прозрение в устройство универсума. Философия, таким образом, является не ниспровергателем, а преемником и раскрывателем древней мудрости, выраженной в мифологической форме. Эта идея о «философской теологии» оказала огромное влияние на последующую европейскую мысль.
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 115-120.
Зарубежный специалист (Пьер Обенк): Французский исследователь П. Обенк видит в этом пассаже проявление своеобразного философского пиетета Аристотеля. Завершая свой труд, он стремится показать, что его рациональная система не противоречит традиции, а находит в ней смутное, но верное отражение истины. Это также теория познания: истина открывалась людям неоднократно, но лишь философия может дать ей адекватное понятийное выражение и доказательство.
Источник: Aubenque P. Le problème de l'être chez Aristote. – Paris: PUF, 1962. – P. 450-455.
Книга Лямбда представляет собой систематическое изложение аристотелевской теологии. От анализа чувственного мира и его причин (гл. 1-5) Аристотель переходит к доказательству существования нематериального Перводвигателя (гл. 6-7) и построению иерархической модели универсума, населенной множеством умов, управляющих движением небесных сфер (гл. 8). Эта модель синтезирует физику, метафизику, астрономию и теологию в грандиозную картину вечного и упорядоченного космоса, устремленного к высшему Благу.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе